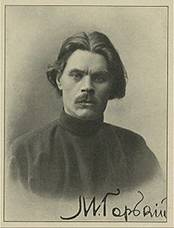|
|
|
|
||||
|
|
|
Антон
Семёнович Макаренко Педагогическая
поэма |
|
|
||
|
|
«Педагогическая поэма»: Педагогика; Москва; 1981 ISBN 1154 |
Советуем
также прочитать: |
|
|||
|
|
Оглавление 1. Разговор с завгубнаробразом 2. Бесславное начало колонии имени Горького 3. Характеристика первичных потребностей 4. Операции внутреннего характера 5. Дела государственного значения 9. «Есть ещё лыцари на Украине» 12. Братченко и райпродкомиссар 7. Триста семьдесят третий бис |
|
||||
|
|
Аннотация (советская)
«Педагогическая поэма» — широко известное и наиболее значительное произведение советского педагога и писателя А.С. Макаренко. В ней рассказывается о перевоспитании несовершеннолетних правонарушителей в детской трудовой колонии, создателем и руководителем которой в 20‑е годы был автор. Книга адресована широкому кругу читателей. P.S. Перед помещением в Сеть этой книги в |
|
||||
|
|
(1988-1939) |
Антон Семёнович Макаренко Педагогическая поэма |
(1868-1936) |
|
||
|
|
С преданностью и
любовью нашему шефу, другу и учителю М а к с и м у Г о р ь к о м у ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1. Разговор с завгубнаробразом
В сентябре 1920 года заведующий
губнаробразом вызвал меня к себе и сказал: — Вот что, брат, я слышал, ты там
ругаешься сильно… вот что твоей трудовой школе дали это самое… губсовнархоз… — Да как же не ругаться? Тут не
только заругаешься — взвоешь: какая там трудовая школа? Накурено, грязно!
Разве это похоже на школу? — Да… Для тебя бы это самое:
построить новое здание, новые парты поставить, ты бы тогда занимался. Не в
зданиях, брат, дело, важно нового человека воспитать, а вы, педагоги,
саботируете все: здание не такое, и столы не такие. Нету у вас этого самого
вот… огня, знаешь, такого — революционного. Штаны у вас навыпуск! — У меня как раз не навыпуск. — Ну, у тебя не навыпуск…
Интеллигенты паршивые!.. Вот ищу, ищу, тут такое дело большое: босяков этих
самых развелось, мальчишек — по улице пройти нельзя, и по квартирам лазят.
Мне говорят: это ваше дело, наробразовское… Ну? — А что — «ну»? — Да вот это самое: никто не хочет,
кому ни говорю — руками и ногами, зарежут, говорят. Вам бы это кабинетик,
книжечки… Очки вон надел… Я рассмеялся: — Смотрите, уже и очки помешали! — Я ж и говорю, вам бы всё читать, а
если вам живого человека дают, так вы, это самое, зарежет меня живой человек.
Интеллигенты! Завгубнаробразом сердито покалывал меня
маленькими чёрными глазами и из‑под ницшевских усов изрыгал хулу на всю
нашу педагогическую братию. Но ведь он был не прав, этот завгубнаробразом. — Вот послушайте меня… — Ну, что «послушайте»? Ну, что ты
можешь такого сказать? Скажешь: вот если бы это самое… как в Америке! Я
недавно по этому случаю книжонку прочитал, — подсунули. Реформаторы… или
как там, стой! Ага! Реформаториумы. Ну, так этого у нас ещё нет.
(Реформаториумы — учреждения для перевоспитания несовершеннолетних
правонарушителей в некоторых кап. странах; детские тюрьмы). — Нет, вы послушайте меня. — Ну, слушаю. — Ведь и до революции с этими
босяками справлялись. Были колонии малолетних преступников… — Это не то, знаешь… До революции
это не то. — Правильно. Значит, нужно нового
человека по‑новому делать. — По‑новому, это ты верно. — А никто не знает — как. — И ты не знаешь? — И я не знаю. — А вот у меня это самое… есть такие
в губнаробразе, которые знают… — А за дело браться не хотят. — Не хотят, сволочи, это ты верно. — А если я возьмусь, так они меня со
света сживут. Что бы я ни сделал, они скажут: не так. — Скажут стервы, это ты верно. — А вы им поверите, а не мне. — Не поверю им, скажу: было б самим
браться! — Ну а если я и в самом деле
напутаю? Завгубнаробразом стукнул кулаком по
столу: — Да что ты мне: напутаю, напутаю!
Ну, и напутаешь! Чего ты от меня хочешь? Что я не понимаю, что ли? Путай, а
нужно дело делать. Там будет видно. Самое главное, это самое… не какая‑нибудь
там колония малолетних преступников, а, понимаешь, социальное воспитание… Нам
нужен такой человек вот… наш человек! Ты его сделай. Всё равно, всем учиться
нужно. И ты будешь учиться. Это хорошо, что ты в глаза сказал: не знаю. Ну и
хорошо. — А место есть? Здания всё-таки
нужны. — Есть, брат. Шикарное место. Как
раз там и была колония малолетних преступников. Недалеко — вёрст шесть.
Хорошо там: лес, поле, коров разведёшь… — А люди? — А людей я тебе сейчас из кармана
выну. Может, тебе ещё и автомобиль дать? — Деньги?.. — Деньги есть. Вот получи. Он из ящика стола достал пачку. — Сто пятьдесят миллионов. Это тебе
на всякую организацию. Ремонт там, мебелишка какая нужна… — И на коров? — С коровами подождёшь, там стёкол
нет. А на год смету составишь. — Неловко так, посмотреть бы не
мешало раньше. — Я уже смотрел… что ж, ты лучше
меня увидишь? Поезжай — и всё. — Ну, добре, — сказал я с
облегчением, потому что в тот момент ничего страшнее комнат губсовнархоза для
меня не было. — Вот это молодец! — сказал
завгубнаробразом. — Действуй! Дело святое! |
|
||||
|
|
2. Бесславное начало колонии имени Горького
В шести километрах от Полтавы на песчаных
холмах — гектаров двести соснового леса, а по краю леса — большак на Харьков,
скучно поблёскивающий чистеньким булыжником. В лесу поляна, гектаров в сорок. В одном
из её углов поставлено пять геометрически правильных кирпичных коробок,
составляющих все вместе правильный четырёхугольник. Это и есть новая колония
для правонарушителей. Песчаная площадка двора спускается в
широкую лесную прогалину, к камышам небольшого озера, на другом берегу
которого плетни и хаты кулацкого хутора. Далеко за хутором нарисован на небе
ряд старых берёз, ещё две‑три соломенные крыши. Вот и всё. До революции здесь была колония
малолетних преступников. В 1917 году она разбежалась, оставив после себя
очень мало педагогических следов. Судя по этим следам, сохранившимся в
истрёпанных журналах‑дневниках, главными педагогами в колонии были
дядьки, вероятно, отставные унтер‑офицеры, на обязанности которых было
следить за каждым шагом воспитанников, как во время работы, так и во время
отдыха, а ночью спать рядом с ними, в соседней комнате. По рассказам соседей‑крестьян
можно было судить, что педагогика дядек не отличалась особой сложностью.
Внешним её выражением был такой простой снаряд, как палка. Материальные следы старой колонии были
ещё незначительнее. Ближайшие соседи колонии перевезли и перенесли в
собственные хранилища, называемые каморами и клунями, всё то, что могло быть
выражено в материальных единицах: мастерские, кладовые, мебель. Между всяким
добром был вывезен даже фруктовый сад. Впрочем, во всей этой истории не было
ничего, напоминающего вандалов. Сад был не вырублен, а выкопан и где‑то
вновь насажен, стёкла в домах не разбиты, а аккуратно вынуты, двери не
высажены гневным топором, а по‑хозяйски сняты с петель, печи разобраны
по кирпичику. Только буфетный шкаф в бывшей квартире директора остался на
месте. — Почему шкаф остался? —
спросил я соседа, Луку Семёновича Верхолу, пришедшего с хутора поглядеть на
новых хозяев. — Так что, значится, можно сказать,
что шкафчик етой нашим людям без надобности. Разобрать его, — сами ж
видите, что с него? А в хату, можно сказать, в хату он не войдет — и по
высокости, и поперёк себя тоже… В сараях по углам было свалено много
всякого лома, но дельных предметов не было. По свежим следам мне удалось
возвратить кое‑какие ценности, утащенные в самые последние дни. Это
были: рядовая старенькая сеялка, восемь столярных верстаков, еле на ногах
державшихся, конь — мерин, когда‑то бывший киргизом, — в возрасте
тридцати лет и медный колокол. В колонии я уже застал завхоза Калину
Ивановича. Он встретил меня вопросом: — Вы будете заведующий
педагогической частью? Скоро я установил, что Калина Иванович
выражается с украинским прононсом, хотя принципиально украинского языка не
признавал. В его словаре было много украинских слов, и "г" он
произносил всегда на южный манер. Но в слове «педагогический» он почему‑то
так нажимал на литературное великорусское "г", что у него
получалось, пожалуй, даже чересчур сильно. — Вы будете заведующий
педакокической частью? — Почему? Я заведующий колонией… — Нет, — сказал он, вынув изо
рта трубку, — вы будете заведующий педакокической частью, а я — заведующий
хозяйственной частью. Представьте себе врубелевского «Пана»,
совершенно уже облысевшего, только с небольшими остатками волос над ушами.
Сбрейте Пану бороду, а усы подстригите по‑архиерейски. В зубы дайте ему
трубку. Это будет уже не Пан, а Калина Иванович Сердюк. Он был чрезвычайно
сложен для такого простого дела, как заведование хозяйством детской колонии.
За ним было не менее пятидесяти лет различной деятельности. Но гордостью его
были только две эпохи: был он в молодости гусаром лейб‑гвардии Кексгольмского
её величества полка, а в восемнадцатом году заведовал эвакуацией города
Миргорода во время наступления немцев. Калина Иванович сделался первым объектом
моей воспитательной деятельности. В особенности меня затрудняло обилие у него
самых разнообразных убеждений. Он с одинаковым вкусом ругал буржуев,
большевиков, русских, евреев, нашу неряшливость и немецкую аккуратность. Но
его голубые глаза сверкали такой любовью к жизни, он был так восприимчив и
подвижен, что я не пожалел для него небольшого количества педагогической
энергии. И начал я его воспитание в первые же дни, с нашего первого
разговора: — Как же так, товарищ Сердюк, не
может быть без заведующего колония? Кто‑нибудь должен отвечать за всё. Калина Иванович снова вынул трубку и
вежливо склонился к моему лицу: — Так вы желаете быть заведующим
колонией? И чтобы я вам в некотором роде подчинялся? — Нет, это не обязательно. Давайте,
я вам буду подчиняться. — Я педакокике не обучался, что не
моё, то не моё. Вы ещё молодой человек и хотите, чтобы я, старик, был на
побегушках? Так тоже нехорошо! А быть заведующим колонией — так, знаете, для
этого ж я ещё малограмотный, да и зачем это мне?.. Калина Иванович неблагосклонно отошёл от
меня. Надулся. Целый день он ходил грустный, а вечером пришёл в мою комнату
уже в полной печали. — Я вам здесь поставив столик и
кроватку, какие нашлись… — Спасибо. — Я думав, думав, как нам быть с
этой самой колонией. И решив, что вам, конешно, лучше быть заведующим
колонией, а я вам буду как бы подчиняться. — Помиримся, Калина Иванович. — Я так тоже думаю, что помиримся.
Не святые горщки леплять, и мы дело наше сделаем. А вы, как человек
грамотный, будете как бы заведующим. Мы приступили к работе. При помощи
«дрючков» тридцатилетняя коняка была поставлена на ноги. Калина Иванович
взгромоздился на некоторое подобие брички, любезно предоставленной нам
соседом, и вся эта система двинулась в город со скоростью двух километров в
час. Начался организационный период. Для организационного периода была
поставлена вполне уместная задача — концентрация материальных ценностей,
необходимых для воспитания нового человека. В течение двух месяцев мы с
Калиной Ивановичем проводили в городе целые дни. В город Калина Иванович
ездил, а я ходил пешком. Он считал ниже своего достоинства пешеходный способ,
а я никак не мог помириться с теми темпами, которые мог обеспечить бывший
киргиз. В течение двух месяцев нам удалось при
помощи деревенских специалистов кое‑как привести в порядок одну из
казарм бывшей колонии: вставили стёкла, поправили печи, навесили новые двери.
В области внешней политики у нас было единственное, но зато значительное
достижение: нам удалось выпросить в опродкомарме Первой запасной сто
пятьдесят пудов ржаной муки. Иных материальных ценностей нам не повезло
«сконцентрировать». Сравнив всё это с моими идеалами в
области материальной культуры, я увидел: если бы у меня было во сто раз
больше, то до идеала оставалось бы столько же, сколько и теперь. Вследствие
этого я принуждён был объявить организационный период законченным. Калина Иванович
согласился с моей точкой зрения: — Что ж ты соберёшь, когда они,
паразиты, зажигалки делають? Разорили, понимаешь ты, народ, а теперь как
хочешь, так и организуйся. Приходится, как Илья Муромець… — Илья Муромец? — Ну да. Был такой — Илья Муромець…
может ты чув… так они его, паразиты, богатырем объявили. А я так считаю, что
он был просто бедняк и лодырь, летом, понимаешь ты, на санях ездил. — Ну что же, будем как Илья Муромец,
это ещё не так плохо. А где же Соловей‑разбойник? — Соловьёв‑разбойников, брат,
сколько хочешь… Прибыли в колонию две воспитательницы:
Екатерина Григорьевна и Лидия Петровна. В поисках педагогических работников я
дошёл было до полного отчаяния: никто не хотел посвятить себя воспитанию
нового человека в нашем лесу — все боялись «босяков», и никто не верил, что
наша затея окончится добром. И только на конференции работников сельской
школы, на которой и мне пришлось витийствовать, нашлось два живых человека. Я
был рад, что это женщины. Мне казалось, что «облагораживающее женское влияние»
счастливо дополнит нашу систему сил. Лидия Петровна была очень молода —
девочка. Она недавно окончила гимназию и ещё не остыла от материнской заботы.
Завгубнаробразом меня спросил, подписывая назначение: — Зачем тебе эта девчонка? Она же
ничего не знает. — Да именно такую и искал. Видите
ли, мне иногда приходит в голову, что знания сейчас не так важны. Эта самая
Лидочка — чистейшее существо, я рассчитываю на неё, вроде как на прививку. — Не слишком ли хитришь? Ну, хорошо… Зато Екатерина Григорьевна была матёрый
педагогический волк. Она не на много раньше Лидочки родилась, но Лидочка
прислонялась к её плечу, как ребёнок к матери. У Екатерины Григорьевны на
серьёзном красивом лице прямились почти мужские чёрные брови. Она умела
носить с подчёркнутой опрятностью каким‑то чудом сохранившиеся платья,
и Калина Иванович правильно выразился, познакомившись с нею: — С такой женщиной нужно очень
осторожно поступать… Итак, всё было готово. Четвёртого декабря в колонию прибыли
первые шесть воспитанников и предъявили мне какой‑то сказочный пакет с
пятью огромными сургучными печатями. В пакете были «дела». Четверо имели по
восемнадцати лет, были присланы за вооружённый квартирный грабёж, а двое были
помоложе и обвинялись в кражах. Воспитанники наши были прекрасно одеты:
галифе, щегольские сапоги. Причёски их были последней моды. Это вовсе не были
беспризорные дети. Фамилии этих первых: Задоров, Бурун, Волохов, Бендюк, Гуд
и Таранец. Мы их встретили приветливо. У нас с утра
готовился особенно вкусный обед, кухарка блистала белоснежной повязкой; в
спальне, на свободном от кроватей пространстве, были накрыты парадные столы;
скатертей мы не имели, но их с успехом заменили новые простыни. Здесь
собрались все участники нарождающейся колонии. Пришёл и Калина Иванович, по
случаю торжества сменивший серый измазанный пиджачок на курточку зелёного
бархата. Я сказал речь о новой, трудовой жизни, о
том, что нужно забыть о прошлом, что нужно идти всё вперёд и вперёд.
Воспитанники мою речь слушали плохо, перешёптывались, с ехидными улыбками и
презрением посматривали на расставленные в казарме складные койки — «дачки»,
покрытые далеко не новыми ватными одеялами, на некрашеные двери и окна. В
середине моей речи Задоров вдруг громко сказал кому‑то из товарищей: — Через тебя влипли в эту бузу! Остаток дня мы посвятили планированию
дальнейшей жизни. Но воспитанники с вежливой небрежностью выслушивали мои
предложения — только бы скорее от меня отделаться. А наутро пришла ко мне взволнованная
Лидия Петровна и сказала: — Я не знаю, как с ними разговаривать…
Говорю им: надо за водой ехать на озеро, а один там, такой — с причёской,
надевает сапоги и прямо мне в лицо сапогом: «Вы видите, сапожник пошил очень
тесные сапоги!» В первые дни они нас даже не оскорбляли,
просто не замечали нас. К вечеру они свободно уходили из колонии и
возвращались утром, сдержанно улыбаясь навстречу моему проникновенному
соцвосовскому выговору. Через неделю Бендюк был арестован приехавшим агентом
губрозыска за совершённое ночью убийство и ограбление. Лидочка насмерть была перепугана
этим событием, плакала у себя в комнате и выходила только затем, чтобы у всех
спрашивать: — Да что же это такое? Как же это
так? пошёл и убил?.. Екатерина Григорьевна, серьёзно улыбаясь, хмурила брови: — Не знаю, Антон Семёнович,
серьёзно, не знаю… Может быть, нужно просто уехать… Я не знаю, какой тон
здесь возможен… Пустынный лес, окружавший нашу колонию,
пустые коробки наших домов, десяток «дачек» вместо кроватей, топор и лопата в
качестве инструмента и полдесятка воспитанников, категорически отрицавших не
только нашу педагогику, но всю человеческую культуру, — всё это, правду
говоря, нисколько не соответствовало нашему прежнему школьному опыту. Длинными зимними вечерами в колонии было
жутко. Колония освещалась двумя пятилинейными лампочками: одна — в спальне,
другая — в моей комнате. У воспитательниц и у Калины Ивановича были «каганцы»
— изобретение времён Кия, Щека и Хорива. В моей лампочке верхняя часть стекла
была отбита, а оставшаяся часть всегда закопчена, потому что Калина Иванович,
закуривая свою трубку, пользовался часто огнём моей лампы, просовывал для
этого в стекло половину газеты. В тот год рано начались снежные вьюги, и
весь двор колонии был завален сугробами снега, а расчистить дорожки было
некому. Я просил об этом воспитанников, но Задоров мне сказал: — Дорожки расчистить можно, но
только пусть зима кончится: а то мы расчистим, а снег опять нападёт.
Понимаете? Он мило улыбнулся и отошёл к товарищу,
забыв о моём существовании. Задоров был из интеллигентной семьи — это
было видно сразу. Он правильно говорил, лицо его отличалось той молодой
холёностью, какая бывает только у хорошо кормлёных детей. Волохов был другого
порядка человек: широкий рот, широкий нос, широко расставленные глаза — всё
это с особенной мясистой подвижностью, — лицо бандита. Волохов всегда
держал руки в карманах галифе, и теперь он подошёл ко мне в такой позе: — Ну, сказали ж вам… Я вышел из спальни, обратив своей гнев в
какой‑то тяжёлый камень в груди. Но дорожки нужно было расчистить, а
окаменевший гнев требовал движения. Я зашёл к Калине Ивановичу: — Пойдём снег чистить. — Что ты! Что ж, я сюда чернобором
наймался? А эти что? — кивнул он на спальни. — Соловьи‑разбойники? — Не хотят. — Ах, паразиты! Ну, пойдём! Мы с Калиной Ивановичем уже оканчивали
первую дорожку, когда на неё вышли Волохов и Таранец, направляясь, как
всегда, в город. — Вот хорошо! — сказал весело
Таранец. — Давно бы так, — поддержал
Волохов. Калина Иванович загородил им дорогу: — То есть как это — «хорошо»? Ты,
сволочь, отказался работать, так думаешь, я для тебя буду? Ты здесь не будешь
ходить, паразит! Полезай в снег, а то я тебя лопатой… Калина Иванович замахнулся лопатой, но
через мгновение его лопата полетела далеко в сугроб, трубка — в другую
сторону, и изумленный Калина Иванович мог только взглядом проводить юношей и
издали слышать, как они ему крикнули: — Придётся самому за лопатой
полазить! Со смехом они ушли в город. — Уеду отсюда к чёртовой матери!
Чтоб я тут работал! — сказал Калина Иванович и ушёл в свою квартиру,
бросив лопату в сугробе. Жизнь наша сделалась печальной и жуткой.
На большой дороге на Харьков каждый вечер кричали: — Рятуйте!.. Ограбленные селяне приходили к нам и
трагическими голосами просили помощи. Я выпросил у завгубнаробразом наган для
защиты от дорожных рыцарей, но положение в колонии скрывал от него. Я ещё не
терял надежды, что придумаю способ договориться с воспитанниками. Первые месяцы нашей колонии для меня и
моих товарищей были не только месяцами отчаяния и бессильного
напряжения, — они были ещё и месяцами поисков истины. Я во всю жизнь не
прочитал столько педагогической литературы, сколько зимою 1920 года. Это было время Врангеля и польской войны.
Врангель где‑то близко, возле Новомиргорода, совсем недалеко от нас, в
Черкассах, воевали поляки, по всей Украине бродили батьки, вокруг нас многие
находились в блакитно‑жёлтом очаровании. Но мы в нашем лесу, подперев
голову руками, старались забыть о громах великих событий и читали
педагогические книги. У меня главным результатом этого чтения
была крепкая и почему‑то вдруг основательная уверенность, что в моих
руках никакой науки нет и никакой теории нет, что теорию нужно извлечь из
всей суммы реальных явлений, происходящих на моих глазах. Я сначала даже не
понял, а просто увидел, что мне нужны не книжные формулы, которые я всё равно
не мог привязать к делу, а немедленный анализ и немедленное действие. (В
«Педагогической поэме» Всем своим существом я чувствовал, что
мне нужно спешить, что я не могу ожидать ни одного лишнего дня. Колония всё
больше и больше принимала характер «малины» — воровского притона, в отношениях
воспитанников к воспитателям всё больше определялся тон постоянного
издевательства и хулиганства. При воспитательницах уже начали рассказывать
похабные анекдоты, грубо требовали подачи обеда, швырялись тарелками в
столовой, демонстративно играли финками и глумливо расспрашивали, сколько у
кого есть добра: — Всегда, знаете, может пригодиться…
в трудную минуту. Они решительно отказывались пойти
нарубить дров для печей и в присутствии Калины Ивановича разломали деревянную
крышу сарая. Сделали они это с дружелюбными шутками и смехом: — На наш век хватит! Калина Иванович рассыпал миллионы искр из
своей трубки и разводил руками: — Что ты им скажешь, паразитам?
Видишь, какие алегантские холявы! И откуда это они почерпнули, чтоб постройки
ломать? За это родителей нужно в кутузку, паразитов… И вот свершилось: я не удержался на
педагогическом канате. В одно зимнее утро я предложил Задорову пойти нарубить
дров для кухни. Услышал обычный задорно‑весёлый ответ: — Иди сам наруби, много вас тут! Это впервые ко мне обратились на «ты». В состоянии гнева и обиды, доведённый до
отчаяния и остервенения всеми предшествующими месяцами, я размахнулся и
ударил Задорова по щеке. Ударил сильно, он не удержался на ногах и повалился
на печку. Я ударил второй раз, схватил его за шиворот, приподнял и ударил
третий раз. Я вдруг увидел, что он страшно испугался.
Бледный, с трясущимися руками, он поспешил надеть фуражку, потом снял её и
снова надел. Я, вероятно, ещё бил бы его, но он тихо и со стоном прошептал: — Простите, Антон Семёнович… Мой гнев был настолько дик и неумерен,
что я чувствовал: скажи кто‑нибудь слово против меня — я брошусь на
всех, буду стремиться к убийству, к уничтожению этой своры бандитов. У меня в
руках очутилась железная кочерга. Все пять воспитанников молча стояли у своих
кроватей, Бурун что‑то спешил поправить в костюме. Я обернулся к ним и постучал кочергой по
спинке кровати: — Или всем немедленно отправляться в
лес, на работу, или убираться из колонии к чёртовой матери! И вышел из спальни. Пройдя к сараю, в котором находились наши
инструменты, я взял топор и хмуро посматривал, как воспитанники разбирали
топоры и пилы. У меня мелькнула мысль, что лучше в этот день не рубить лес —
не давать воспитанникам топоров в руки, но было уже поздно: они получили всё,
что им полагалось. Всё равно. Я был готов на всё, я решил, что даром свою
жизнь не отдам. У меня в кармане был ещё и револьвер. Мы пошли в лес. Калина Иванович догнал
меня и в страшном волнении зашептал: — Что такое? Скажите на милость,
чего это они такие добрые? Я рассеяно глянул в голубые очи Пана и
сказал: — Скверно, брат, дело… Первый раз в
жизни ударил человека. — Ох ты, лышенько! — ахнул
Калина Иванович. — А если они жаловаться будут? — Ну, это ещё не беда… К моему удивлению, всё прошло прекрасно.
Я поработал с ребятами до обеда. Мы рубили в лесу кривые сосенки. Ребята в
общем хмурились, но свежий морозный воздух, красивый лес, убранный огромными
шапками снега, дружное участие пилы и топора сделали своё дело. В перерыве мы смущённо закурили из моего
запаса махорки, и, пуская дым к верхушке сосен, Задоров вдруг разразился
смехом: — А здорово! Ха‑ха‑ха‑ха!.. Приятно было видеть его смеющуюся румяную
рожу, и я не мог не ответить ему улыбкой: — Что — здорово? Работа? — Работа само собой. Нет, а вот как
вы меня съездили! Задоров был большой и сильный юноша, и
смеяться ему, конечно, было уместно. Я и то удивлялся, как я решился тронуть
такого богатыря. Он залился смехом и, продолжая хохотать,
взял топор и направился к дереву: — История, ха‑ха‑ха!.. Обедали мы вместе, с аппетитом и шутками,
но утренние события не вспоминали. Я себя чувствовал всё же неловко, но уже
решил не сдавать тона и уверенно распорядился после обеда. Волохов
ухмыльнулся, но Задоров подошёл ко мне с самой серьёзной рожей: — Мы не такие плохие, Антон Семёнович!
Будет всё хорошо. Мы понимаем… |
|
||||
|
|
3. Характеристика первичных потребностей
На другой день я сказал воспитанникам: — В спальне должно быть чисто! У вас
должны быть дежурные по спальне. В город можно уходить только с моего
разрешения. Кто уйдёт без отпуска, пусть не возвращается — не приму. — Ого! — сказал Волохов. —
А может быть, можно полегче? — Выбирайте, ребята, что вам нужнее.
Я иначе не могу. В колонии должна быть дисциплина. Если вам не нравится,
расходитесь, кто куда хочет. А кто останется жить в колонии, тот будет
соблюдать дисциплину. Как хотите. «Малины» не будет. Задоров протянул мне руку. — По рукам — правильно! Ты, Волохов,
молчи. Ты ещё глупый в этих делах. Нам всё равно здесь пересидеть нужно, не в
допр же идти. — А что, и в школу ходить
обязательно? — спросил Волохов. — Обязательно. — А если я не хочу учиться?.. На что
мне?.. — В школу обязательно. Хочешь ты или
не хочешь, всё равно. Видишь, тебя Задоров сейчас дураком назвал. Надо
учиться — умнеть. Волохов шутливо завертел головой и
сказал, повторяя слова какого‑то украинского анекдота: — От ускочыв, так ускочыв! В области дисциплины случай с Задоровым
был поворотным пунктом. Нужно правду сказать, я не мучился угрызениями
совести. Да, я избил воспитанника. Я пережил всю педагогическую несуразность,
всю юридическую законность этого случая, но в то же время я видел, что
чистота моих педагогических рук — дело второстепенное в сравнении со стоящей
передо мной задачей. Я твёрдо решил, что буду диктатором, если другим методом
не овладею. Через некоторое время у меня было серьёзное столкновение с
Волоховым, который будучи дежурным, не убрал в спальне и отказался убрать
после моего замечания. Я на него посмотрел сердито и сказал: — Не выводи меня из себя. Убери! — А то что? Морду набьёте? Права не
имеете!.. Я взял его за воротник, приблизил к себе
и зашипел в лицо совершенно искренно: — Слушай! Последний раз
предупреждаю: не морду набью, а изувечу! А потом ты на меня жалуйся, сяду в
допр, это не твоё дело! Волохов вырвался из моих рук и сказал со
слезами: — Из‑за такого пустяка в допр
нечего садиться. Уберу, чёрт с вами! Я на него загремел: — Как ты разговариваешь? — Да как же с вами разговаривать? Да
ну вас к..! — Что? Выругайся… Он вдруг засмеялся и махнул рукой. — Вот человек, смотри ты… Уберу,
уберу, не кричите! Нужно, однако, заметить, что я ни одной
минуты не считал, что нашёл в насилии какое‑то всесильное
педагогическое средство. Случай с Задоровым достался мне дороже, чем самому
Задорову. Я стал бояться, что могу броситься в сторону наименьшего
сопротивления. Из воспитательниц прямо и настойчиво осудила меня Лидия
Петровна. Вечером того же дня она положила голову на кулачки и пристала: — Так вы уже нашли метод? Как в
бурсе, да? (Бурса — общежитие при духовных семинариях и училищах, синоним
сурового режима и грубых нравов с применением телесных наказаний (ZT.
Помяловский Николай Герасимович М.1951. Очерки бурсы)). — Отстаньте, Лидочка! — Нет, вы скажите, будем бить морду?
И мне можно? Или только вам? — Лидочка, я вам потом скажу. Сейчас
я ещё сам не знаю. Вы подождите немного. — Ну хорошо, подожду. Екатерина Григорьевна несколько дней
хмурила брови и разговаривала со мной официально‑приветливо. Только
дней через пять она меня спросила, улыбнувшись серьёзно: — Ну, как вы себя чувствуете? — Всё равно. Прекрасно себя чувствую. — А вы знаете, что в этой истории
самое печальное? — Самое печальное? — Да. Самое неприятное то, что ведь
ребята о вашем подвиге рассказывают с упоением. Они в вас даже готовы
влюбиться, и первый Задоров. Что это такое? Я не понимаю. Что это, привычка к
рабству? Я подумал немного и сказал Екатерине
Григорьевне: — Нет, тут не в рабстве дело. Тут
как‑то иначе. Вы проанализируйте хорошенько: ведь Задоров сильнее меня,
он мог бы меня искалечить одним ударом. А ведь он ничего не боится, не боятся
и Бурун и другие. Во всей этой истории они не видят побоев, они видят только
гнев, человеческий взрыв. Они же прекрасно понимают, что я мог бы и не бить,
мог бы возвратить Задорова, как неисправимого, в комиссию, мог причинить им много
важных неприятностей. Но я этого не делаю, я пошёл на опасный для себя, но
человеческий, а не формальный поступок. А колония им, очевидно, всё-таки
нужна. Тут сложнее. Кроме того, они видят, что мы много работаем для них.
Всё-таки они люди. Это важное обстоятельство. — Может быть, — задумалась
Екатерина Григорьевна. Но задумываться нам было некогда. Через
неделю, в феврале 1921, я привёз на мебельной линейке полтора десятка
настоящих беспризорных и по‑настоящему оборванных ребят. С ними
пришлось много возиться, чтобы обмыть, кое‑как одеть, вылечить чесотку.
К марту в колонии было до тридцати ребят. В большинстве они были очень
запущены, дики и совершенно не приспособлены для выполнения соцвосовской
мечты. Того особенного творчества, которое якобы делает детское мышление
очень близким по своему типу к научному мышлению, у них пока что не было. Прибавилось в колонии и воспитателей. К
марту у нас был уже настоящий педагогический совет. Чета из Ивана Ивановича и
Натальи Марковны Осиповых, к удивлению всей колонии, привезла с собою
значительное имущество: диваны, стулья, шкафы, множество всякой одежды и
посуды. Наши голые колонисты с чрезвычайным интересом наблюдали, как
разгружались возы со всем этим добром у дверей квартиры Осиповых. Интерес колонистов к имуществу Осиповых
был далеко не академическим интересом, и я очень боялся, что всё это
великолепное переселение может получить обратное движение к городским
базарам. Через неделю особый интерес к богатству Осиповых несколько
разрядился прибытием экономки. Экономка была старушка — очень добрая,
разговорчивая и глупая. Её имущество хотя и уступало осиповскому, но состояло
из очень аппетитных вещей. Было там много муки, банок с вареньем и ещё с чем‑то,
много небольших аккуратных мешочков и саквояжиков, в которых прощупывались
глазами наших воспитанников разные ценные вещи. Экономка с большим старушечьим вкусом и
уютом расположилась в своей комнате, приспособила свои коробки и другие
вместилища к разным кладовочкам, уголкам и местечкам, самой природой
назначенным для такого дела, и как‑то очень быстро сдружилась с двумя‑тремя
ребятами. Сдружились они на договорных началах: они доставляли ей дрова и
ставили самовар, а она за это угощала их чаем и разговорами о жизни. Делать
экономке в колонии было, собственно говоря, нечего, и я удивлялся, для чего
её назначили. В колонии не нужно было никакой экономки.
Мы были невероятно бедны. кроме нескольких квартир, в которых поселился
персонал, из всех помещений колонии нам удалось отремонтировать только одну
большую спальню с двумя унтермарковскими печами. В этой комнате стояло
тридцать «дачек» и три больших стола, на которых ребята обедали и писали.
Другая большая спальня и столовая, две классные комнаты и канцелярия ожидали
ремонта в будущем. Постельного белья у нас было полторы смены, всякого иного
белья и вовсе не было. Наше отношение к одежде выражалось почти исключительно
в разных просьбах, обращённых к наробразу и к другим учреждениям. Завгубнаробразом, так решительно
открывавший колонию, уехал куда‑то на новую работу, его преемник
колонией мало интересовался — были у него дела поважнее. Атмосфера в наробразе меньше всего
соответствовала нашему стремлению разбогатеть. В то время губнаробраз
представлял собой конгломерат очень многих комнат и комнаток и очень многих
людей, но истинными выразителями педагогического творчества здесь были не
комнаты и не люди, а столики. Расшатанные и облезшие, то письменные, то
туалетные, то ломберные, когда‑то чёрные, когда‑то красные,
окружённые такими же стульями, эти столики изображали различные секции, о чём
свидетельствовали надписи, развешанные на стенках против каждого столика.
Значительное большинство столиков всегда пустовало, потому что дополнительная
величина — человек — оказывался в существе своём не столько заведующим
секцией, сколько счётоводом в губраспреде. Если за каким‑нибудь
столиком вдруг обнаруживалась фигура человека, посетители сбегались со всех
сторон и набрасывались на неё. Беседа в этом случае заключалась в выяснении
того, какая это секция, и в эту ли секцию должен обратиться посетитель или
нужно обращаться в другую, и если в другую, то почему и в какую именно; а
если всё-таки не в эту, то почему товарищ, который сидел за тем вон столиком
в прошлую субботу, сказал, что именно в эту? После разрешения всех этих
вопросов заведующий секцией снимался с якоря и с космической скоростью
исчезал. Наши неопытные шаги вокруг столиков не
привели, естественно, ни к каким положительным результатам. Поэтому зимой
двадцать первого года колония очень мало походила на воспитательное учреждение.
Изодранные пиджаки, к которым гораздо больше подходило блатное наименование
«клифт», кое‑как прикрывали человеческую кожу; очень редко под клифтами
оказывались остатки истлевшей рубахи. Наши первые воспитанники, прибывшие к
нам в хороших костюмах, недолго выделялись из общей массы; колка дров, работа
на кухне, в прачечной делали своё, хотя и педагогическое, но для одежды
разрушительное дело. К марту все наши колонисты были так
одеты, что им мог бы позавидовать любой артист, исполняющий роль мельника в
«Русалке». На ногах у очень немногих колонистов были
ботинки, большинство же обвёртывало ноги портянками и завязывало верёвками.
Но и с этим последним видом обуви у нас были постоянные кризисы. Пища наша называлась кондёром. Другая
пища бывала случайна. В то время существовало множество всяких норм питания:
были нормы обыкновенные, нормы повышенные, нормы для слабых и для сильных,
нормы дефективные, санаторные, больничные. При помощи очень напряжённой
дипломатии нам иногда удавалось убедить, упросить, обмануть, подкупить своим
жалким видом, запугать бунтом колонистов, и нас переводили, к примеру, на
санаторную норму. В норме было молоко, пропасть жиров и белый хлеб. Этого,
разумеется, мы не получали, но некоторые элементы кондёра и ржаной хлеб
начинали привозить в большем размере. Через месяц‑другой нас постигало
дипломатическое поражение, и мы вновь опускались до положения обыкновенных
смертных и вновь начинали осторожную и кривую линию тайной и явной
дипломатии. Иногда нам удавалось производить такой сильный нажим, что мы
начинали получать даже мясо, копчёности и конфеты, но тем печальнее
становилось наше житьё, когда обнаруживалось, что никакого права на эту
роскошь дефективные морально не имеют, а имеют только дефективные
интеллектуально. Иногда нам удавалось совершать вылазки из
сферы узкой педагогики в некоторые соседние сферы, например в губпродком, или
в опродкомарм Первой запасной, или в отдел снабжения какого‑нибудь
подходящего ведомства. В наробразе категорически запрещали подобную
партизанщину, и вылазки нужно было делать втайне. Для вылазки необходимо было вооружиться
бумажкой, в которой стояло только одно простое и выразительное предложение: «Колония малолетних преступников просит
отпустить для питания воспитанников сто пудов муки». В самой колонии мы никогда не употребляли
таких слов, как «преступник», и наша колония никогда так не называлась. В то
время нас называли морально дефективными. Но для посторонних миров последнее
название мало подходило, ибо от него слишком несло запахом воспитательного
ведомства. Со своей бумажкой я помещался где‑нибудь
в коридоре соответствующего ведомства, у дверей кабинета. В двери это входило
множество людей. Иногда в кабинет набивалось столько народу, что туда уже мог
заходить всякий желающий. Через головы посетителей нужно было пробиться к
начальству и молча просунуть под его руку нашу бумажку. Начальство в продовольственных ведомствах
очень слабо разбиралось в классификационных хитростях педагогики, и ему не
всегда приходило в голову, что «малолетние преступники» имеют отношение к
просвещению. Эмоциональная же окраска самого выражения «малолетние
преступники» было довольно внушительна. Поэтому очень редко начальство
взирало на нас строго и говорило: — Так вы чего сюда пришли?
Обращайтесь в свой наробраз. Чаще бывало так, — начальство
задумывалось и произносило: — Кто вас снабжает? Тюремное
ведомство? — Нет, видите ли, тюремное ведомство
нас не снабжает, потому что это же дети… — А кто же вас снабжает? — До сих пор, видите ли, не
выяснено… — Как это — «не выяснено»?..
Странно! Начальство что‑то записывало в
блокнот и предлагало прийти через неделю. В таком случае дайте пока хоть двадцать
пудов. — Двадцать я не дам, получите пока
пять пудов, а я потом выясню. Пяти пудов было мало, да и завязавшийся
разговор не соответствовал нашим предначертаниям, в которых никаких
выяснений, само собой, не ожидалось. Единственно приемлемым для колонии имени
М. Горького был такой оборот дела, когда начальство ни о чём не
расспрашивало, а молча брало нашу бумажку и чертило в углу: «Выдать». В этом случае я сломя голову летел в
колонию: — Калина Иванович!.. Ордер!.. Сто
пудов! Скорее ищи дядьков и вези, а то разберутся там… Калина Иванович радостно склонялся над
бумажкой: — Сто пудов? Скажи ж ты! А откедова
ж такое? — Разве не видишь? Губпродком
отдела… — Кто их разберёт!.. Та нам всё
равно: хоть чёрт, хоть бис, абы яйца нис, хе‑хе‑хе!.. Первичная потребность у человека — пища.
Поэтому положение с одеждой нас не так удручало, как положение с пищей. Наши
воспитанники всегда были голодны, и это значительно усложняло задачу их
морального перевоспитания. Только некоторую, небольшую часть своего аппетита
колонистам удавалось удовлетворять при помощи честных способов. Одним из основных видов частной пищевой
промышленности была рыбная ловля. Зимой это было очень трудно. Самым лёгким
способом было опустошение ятерей (сеть, имеющая форму четырёхгранной
пирамиды), которые на недалёкой речке и на нашем озере устанавливались
местными хуторянами. Чувство самосохранения и присущая человеку экономическая
сообразительность удерживали наших ребят от похищения самих ятерей, но
нашёлся среди наших колонистов один, который нарушил это золотое правило. Это был Таранец. Ему было шестнадцать
лет, он был из старой воровской семьи, был строен, ряб, весел, остроумен,
прекрасный организатор и предприимчивый человек. Но он не умел уважать
коллективные интересы. Он украл не реке несколько ятерей и притащил их в
колонию. Вслед за ним пришли и хозяева ятерей, и дело окончилось большим
скандалом. Хуторяне после этого стали сторожить ятеря, и нашим охотникам
очень редко удавалось что‑нибудь поймать. Но через некоторое время у
Таранца и у некоторых других колонистов появились собственные ятеря, которые
им были подарены «одним знакомым в городе». При помощи этих собственных ятерей
рыбная ловля стала быстро развиваться. Рыба потреблялась сначала небольшим
кругом лиц, но к концу зимы Таранец неосмотрительно решил вовлечь в этот круг
и меня. Он принёс в мою комнату тарелку жареной
рыбы. — Это вам рыба. — Вижу, только я не возьму. — Почему? — Потому что неправильно. Рыбу нужно
давать колонистам. — С какой стати? — покраснел
Таранец от обиды. — С какой стати? Я достал ятеря, я ловлю, мокну на
речке, а давать всем? — Ну и забирай свою рыбу: я ничего
не доставал и не мок. — Так это мы вам в подарок… — Нет, я не согласен, мне всё это не
нравится. И неправильно. — В чём же тут неправильность? — А в том: ятерей ведь ты не купил.
Ятеря подарены? — Подарены. — Кому? Тебе? Или всей колонии? — Почему — «всей колонии»? Мне… — А я так думаю, что и мне и всем. А
сковородки чьи? Твои? Общие. А масло подсолнечное вы выпрашиваете у кухарки —
чьё масло? Общее. А дрова, а печь, а вёдра? Ну, что ты скажешь? А я вот
отберу у тебя ятеря, и кончено будет дело. А самое главное — не по‑товарищески.
Мало ли что — твои янтеря! А ты для товарищей сделай. Ловить же все могут. — Ну, хорошо, — сказал
Таранец, — хай будет так. А рыбу вы всё-таки возьмите. Рыбу я взял. С тех пор рыбная ловля
сделалась нарядной работой по очереди, и продукция сдавалась на кухню. Вторым способом частного добывания пищи
были поездки на базар в город. Каждый день Калина Иванович запрягал Малыша —
киргиза — и отправлялся за продуктами или в поход по учреждениям. За ним
увязывались два‑три колониста, у которых к тому времени начинала
ощущаться нужда в городе: в больницу, на допрос в комиссию, помочь Калине
Ивановичу, подержать Малыша. Все эти счастливцы обыкновенно возвращались из
города сытыми и товарищам привозили кое‑что. Не было случая, чтобы кто‑нибудь
на базаре «засыпался». Результаты этих походов имели легальный вид: «тётка
дала», «встретился со знакомым». Я старался не оскорблять колониста грязным
подозрением и всегда верил этим объяснениям. Да и к чему могло бы привести
моё недоверие? Голодные, грязные колонисты, рыскающие в поисках пищи,
представлялись мне неблагодарными объектами для проповеди какой бы то ни было
морали по таким пустяковым поводам, как кража на базаре бублика или пары
подметок. В нашей умопомрачительной бедности была и
одна хорошая сторона, которой потом у нас уже никогда не было. Одинаково были
голодны и бедны и мы, воспитатели. Жалованья тогда мы почти не получали,
довольствовались тем же кондёром и ходили в такой же приблизительно рвани. У
меня в течение всей зимы не было подметок на сапогах, и кусок портянки всегда
вылезал наружу. Только Екатерина Григорьевна щеголяла вычищенным,
аккуратными, приглаженными платьями. |
|
||||
|
|
4. Операции внутреннего характера
В феврале у меня из ящика пропала целая
пачка денег — приблизительно моё шестимесячное жалованье. В моей комнате в то время помещались и
канцелярия, и учительская, и бухгалтерия, и касса, ибо я соединял в своём
лице все должности. Пачка новеньких кредиток исчезла из запертого ящика без
всяких следов взлома. Вечером я рассказал об этом ребятам и
просил возвратить деньги. Доказать воровство я не мог, и меня свободно можно
было обвинить в растрате. После собрания, когда я проходил в свой флигель, на
тёмном дворе ко мне подошли двое: Таранец и Гуд. Гуд — маленький, юркий
юноша. — Мы знаем, кто взял деньги, —
прошептал Таранец, — только сказать при всех нельзя: мы не знаем, где
спрятаны. А если объявим, он подорвёт (убежит) и деньги унесёт. — Кто взял? — Да тут один… Гуд смотрел на Таранца исподлобья, видимо
не вполне одобряя его политику. Он пробурчал: — Бубну ему нужно выбить… Чего мы
здесь разговариваем? — А кто выбьет? — обернулся к
нему Таранец. — Ты выбьешь? Он тебя так возьмёт в работу… — Вы мне скажите, кто взял деньги. Я
с ним поговорю, — предложил я. — Нет, так нельзя. Таранец настаивал на конспирации. Я пожал
плечами: — Ну, как хотите. Ушёл спать. Утром в конюшне Гуд нашёл деньги. Их кто‑то
бросил в узкое окно конюшни, и они разлетелись по всему помещению. Гуд,
дрожащий от радости, прибежал ко мне, и в обоих руках у него были скомканные
в беспорядке кредитки. Гуд от радости танцевал по колонии, все
ребята просияли и прибегали в мою комнату посмотреть на меня. Один Таранец
ходил, важно задравши голову. Я не стал расспрашивать ни его, ни Гуда об их
действиях после нашего разговора. Через два дня кто‑то сбил замок в
погребе и утащил несколько фунтов сала — всё наше жировое богатство. Утащил и
замок. Ещё через день вырвали окно в кладовой — пропали конфеты,
заготовленные к празднику Февральской революции, и несколько банок колёсной
мази, которой мы дорожили как валютой. Калина Иванович даже похудел за эти дни;
он устремлял побледневшее лицо к каждому колонисту, дымил ему в глаза
махоркой и уговаривал: — Вы ж только посудите! Всё ж для
вас, сукины сыны, у себя ж крадёте, паразиты! Таранец знал больше всех, но держался
уклончиво, в его расчёты почему‑то не входило раскрывать это дело.
Колонисты высказывались очень обильно, но у них преобладал исключительно
спортивный интерес. Никак они не хотели настроиться на тот лад, что
обокрадены именно они. В спальне я гневно кричал: — Вы кто такие? Вы люди или… — Мы урки, — послышалось с
какой‑то дальней «дачки». — Уркаганы! — Врёте! Какие вы уркаганы! Вы самые
настоящие сявки, у себя крадёте. Вот теперь сидите без сала, ну и чёрт с
вами! На праздниках — без конфет. Больше нам никто не даст. Пропадайте так! — Так что мы можем сделать, Антон
Семёнович? Мы не знаем, кто взял. И вы не знаете, и мы не знаем. Я, впрочем, с самого начала понимал, что
мои разговоры лишние. Крал кто‑то из старших, которых все боялись. На другой день я с двумя ребятами поехал
хлопотать о новом пайке сала. Мы ездили несколько дней, но сало выездили.
Дали нам и порцию конфет, хотя и ругали долго, что не сумели сохранить. По
вечерам мы подробно рассказывали о своих похождениях. Наконец сало привезли в
колонию и водворили в погребе. В первую же ночь оно было украдено. Я даже обрадовался этому обстоятельству.
Ожидал, что вот теперь заговорит коллективный, общий интерес и заставит всех
с большим воодушевлением заняться вопросом о воровстве. Действительно, все
ребята опечалились, но воодушевления никакого не было, а когда прошло первое
впечатление, всех вновь обуял спортивный интерес: кто это так ловко орудует? Ещё через несколько дней из конюшни
пропал хомут, и нам нельзя было даже выехать в город. Пришлось ходить по
хутору, просить на первое время. Кражи происходили уже ежедневно. Утром
обнаруживалось, что в том или ином месте чего‑то не хватает: топора,
пилы, посуды, простыни, чересседельника, вожжей, продуктов. Я пробовал не
спать ночью и ходил по двору с револьвером, но больше двух‑трёх ночей,
конечно, не мог выдержать. Просил подежурить одну ночь Осипова, но он так
перепугался, что я больше об этом с ним не говорил. Из ребят я подозревал многих, в том числе
и Гуда, и Таранца. Никаких доказательств у меня всё же не было, и свои
подозрения я принуждён был держать в секрете. Задоров раскатисто смеялся и шутил: — А вы думали как, Антон Семёнович,
трудовая колония, трудись и трудись — и никакого удовольствия? Подождите, ещё
не то будет! А что вы сделаете тому, кого поймаете? — Посажу в тюрьму. — Ну, это ещё ничего. Я думал, бить
будете. Как‑то ночью он вышел во двор
одетый. — Похожу с вами. — Смотри, как бы воры на тебя не
взъелись. — Нет, они же знают, что вы сегодня
сторожите, всё равно сегодня не пойдут красть. Так что же тут такого? — А ведь признайся, Задоров, что ты
их боишься? — Кого? Воров? Конечно, боюсь. Так
не в том дело, что боюсь, а ведь согласитесь, Антон Семёнович, как‑то
не годится выдавать. — Так ведь вас же обкрадывают. — Ну, чего ж там меня? Ничего тут
моего нет. — Да ведь вы здесь живёте. — Какая там жизнь, Антон Семёнович!
Разве это жизнь? Ничего у вас не выйдет с этой колонией. Напрасно бьётесь.
Вот увидите, раскрадут все и разбегутся. Вы лучше наймите двух хороших
сторожей и дайте им винтовки. — Нет, сторожей не найму и винтовок
не дам. — А почему? — поразился
Задоров. — Сторожам нужно платить, мы и так
бедны, а самое главное, вы должны быть хозяевами. Мысль о том, что нужно нанять сторожей,
высказывалась многими колонистами. В спальне об этом происходила целая
дискуссия. Антон Братченко, лучший представитель
второй партии колонистов, доказывал: — Когда сторож стоит, никто красть и
не пойдёт, а если и пойдёт, можно ему в это самое место заряд соли всыпать.
Как походит посолённый с месяц, больше не полезет. Ему возражал Костя Ветковский, красивый
мальчик, специальностью которого «на воле» было производить обыски по
подложным ордерам. Во время этих обысков он исполнял второстепенные роли,
главные принадлежали взрослым. Сам Костя — это было установлено в его деле —
никогда ничего не крал и увлекался исключительно эстетической стороной
операции. Он всегда с презрением относился к ворам. Я давно отметил сложную и
тонкую натуру этого мальчика. Меня больше всего поражало то, что он легко
уживался с самыми дикими парнями и был общепризнанным авторитетом в вопросах
политических. Костя доказывал: — Антон Семёнович прав. Нельзя
сторожей! Сейчас мы ещё не понимаем, а скоро поймём все, что в колонии красть
нельзя. Да и сейчас уже многие понимают. Вот мы скоро сами начнём сторожить.
Правда, Бурун? — неожиданно он обратился к Буруну. — А что ж, сторожить, так
сторожить, — сказал Бурун. В феврале наша экономка прекратила своё
служение колонии, я добился её перевода в какую‑то больницу. В один из
воскресных дней к её крыльцу подали Малыша, и все её приятели и участники
философских чаёв деятельно начали укладывать многочисленные мешочки и
саквояжики на сани. Добрая старушка, мирно покачиваясь на вершине своего
богатства, со скоростью всё тех же двух километров в час выехала навстречу
новой жизни. Малыш возвратился поздно, но возвратилась
с ним и старушка и с рыданиями и криками ввалилась в мою комнату: она была
начисто ограблена. Приятели и её помощники не все сундучки, саквояжики и
мешочки сносили на сани, а сносили и в другие места, — грабёж был
наглый. Я немедленно разбудил Калину Ивановича, Задорова и Таранца, и мы
произвели генеральный обыск во всей колонии. Награблено было так много, что
всего не успели как следует спрятать. В кустах, на чердаках сараев, под крыльцом,
просто под кроватями и за шкафами были найдены все сокровища экономки.
Старушка и в самом деле была богата: мы нашли около дюжины новых скатертей,
много простынь и полотенец, серебряные ложки, какие‑то вазочки,
браслет, серьги и ещё много всякой мелочи. Старушка плакала в моей комнате, а
комната постепенно наполнялась арестованными — её бывшими приятелями и
сочувствующими. Ребята сначала запирались, но я на них
прикрикнул и горизонты прояснились. Приятели старушки оказались не главными
грабителями. Они ограничились кое‑какими сувенирами вроде чайной
салфетки или сахарницы. Выяснилось, что главным деятелем во всём этом
происшествии был Бурун. Открытие это поразило многих, и прежде всего меня.
Бурун с самого первого дня казался солиднее всех, он был всегда серъёзен,
сдержанно‑приветлив и лучше всех, с активнейшим напряжением и интересом
учился в школе. Меня ошеломили размах и солидность его действий: он запрятал
целые тюки старушечьего добра. Не было сомнений, что все прежние кражи в
колонии — дело его рук. Наконец‑то дорвался до настоящего
зла! Я привёл Буруна на суд народный, первый суд в истории нашей колонии. В спальне, на кроватях и столах,
расположились оборванные чёрные судьи. Пятилейная лампочка освещала
взволнованные лицо колонистов и бледное лицо Буруна, тяжеловесного,
неповоротливого, с толстой шеей, похожего на Мак‑Кинлея, президента
Соединенных Штатов Америки. В негодующих и сильных тонах я описал
ребятам преступление: ограбить старуху, у которой только и счастья, что в
этих несчастных тряпках, ограбить, несмотря на то, что никто в колонии так
любовно не относился к ребятам, как она, ограбить в то время, когда она
просила помощи, — это значит действительно ничего человеческого в себе
не иметь, это значит быть даже не гадом, а гадиком. Человек должен уважать
себя, должен быть сильным и гордым, а не отнимать у слабых старушек их
последнюю тряпку. Либо моя речь произвела сильное
впечатление, либо и без того у колонистов накипело, но на Буруна обрушились
дружно и страстно. Маленький вихрастый Братченко протянул обе руки к Буруну: — А что? А что ты скажешь? Тебя
нужно посадить за решетку, в допр посадить! Мы через тебя голодали, ты и
деньги взял у Антона Семёновича. Бурун вдруг запротестовал: — Деньги у Антона Семёновича? А ну,
докажи! — И докажу. — Докажи! — А что, не взял? Не ты? — А что, я? — Конечно, ты. — Я взял деньги у Антона Семёновича!
А кто это докажет? Раздался сзади голос Таранца: — Я докажу. Бурун опешил. Повернулся в сторону
Таранца, что‑то хотел сказать, потом махнул рукой: — Ну что же, пускай и я. Так я же
отдал? Ребята на это ответили неожиданным
смехом. Им понравился этот увлекательный разговор. Таранец глядел героем. Он
вышел вперёд. — Только выгонять его не надо. Мало
чего с кем не бывало. Набить морду хорошенько — это действительно следует. Все примолкли. Бурун медленно повёл
взглядом по рябому лицу Таранца. — Далеко тебе до моей морды. Чего ты
стараешься? Всё равно завколом не будешь. Антон набьёт морду, если нужно, а
тебе какое дело? Ветковский сорвался с места: — Как — «какое дело»? Хлопцы, наше
это дело или не наше? — Наше! — закричали
хлопцы. — Мы тебе сами морду набьём получше Антона! Кто‑то уже бросился к Буруну.
Братченко размахивал кулаками у самой физиономии Буруна и вопил: — Пороть тебя нужно, пороть! Задоров шепнул мне на ухо: — Возьмите его куда‑нибудь, а
то бить будут. Я оттащил Братченко от Буруна. Задоров
отшвырнул двух‑трёх. Насилу прекратили шум. — Пусть говорит Бурун! Пускай
скажет! — крикнул Братченко. Бурун опустил голову. — Нечего говорить. Вы все правы.
Отпустите меня с Антоном Семёновичем, — пусть накажет, как знает. Тишина. Я двинулся к дверям, боясь
расплескать море зверского гнева, наполнявшее меня до краёв. Колонисты
шарахнулись в обе стороны, давая дорогу мне и Буруну. Через тёмный двор в снежных окопах мы
прошли молча: я — впереди, он — за мной. У меня на душе было отвратительно. Бурун
казался последним из отбросов, который может дать человеческая свалка. Я не
знал, что с ним делать. В колонию он попал за участие в воровской шайке,
значительная часть членов которой — совершеннолетние — была расстреляна. Ему
было семнадцать лет. Бурун молча стоял у дверей. Я сидел за
столом и еле сдерживался, чтобы не пустить в Буруна чем‑нибудь тяжёлым
и на этом покончить беседу. Наконец, Бурун поднял голову, пристально
глянул в мои глаза и сказал медленно, подчёркивая каждое слово, еле‑еле
сдерживая рыдания: — Я… больше… никогда… красть не
буду. — Врёшь! Ты это уже обещал комиссии. — То комиссии, а то — вам! Накажите,
как хотите, только не выгоняйте из колонии. — А что для тебя в колонии
интересно? — Мне здесь нравится. Здесь
занимаются. Я хочу учиться. А крал потому, что всегда жрать хочется. — Ну, хорошо. Отсидишь три дня под
замком, на хлебе и воде. Таранца не трогать! — Хорошо. Трое суток отсидел Бурун в маленькой
комнатке возле спальни, в той самой, в которой в старой колонии жили дядьки.
Запирать его я не стал, дал он честное слово, что без моего разрешения
выходить не будет. В первый день я ему действительно послал хлеб и воду, на
второй день стало жалко, принесли ему обед. Бурун попробовал гордо
отказаться, но я заорал на него: — Какого чёрта, ломаться ещё будешь! Он улыбнулся, передёрнул плечами и взялся
за ложку. Бурун сдержал слово: он никогда потом
ничего не украл ни в колонии, ни в другом месте. |
|
||||
|
|
5. Дела государственного значения
В то время когда наши колонисты почти
безразлично относились к имуществу колонии, нашлись посторонние силы, которые
к нему относились сугубо внимательно. Главные из этих сил располагались на
большой дороге на Харьков. Почти не было ночи, когда на этой дороге кто‑нибудь
не был ограблен. Целые обозы селян останавливались выстрелом из обреза,
грабители без лишних разговор запускали свободные от обрезов руки за пазухи
жён, сидящих на возах, в то время как мужья в полной растерянности хлопали
кнутовищами по холявам и удивлялись: — Кто ж его знал? Прятали гроши в
самое верное место, жинкам за пазуху, а они — смотри! — за пазуху и
полезли. Такое, так сказать, коллективное
ограбление почти никогда не бывало делом «мокрым». Дядьки, опомнившись и
простоявши на месте назначенное грабителями время, приходили в колонию и
выразительно описывали нам происшествие. Я собирал свою армию, вооружал её
дрекольем, сам брал револьвер, мы бегом устремлялись к дороге и долго рыскали
по лесу. Но только один раз наши поиски увенчались успехом: в полуверсте от
дороги мы наткнулись на группу людей, притаившихся в лесном сугробе. На крики
хлопцев они ответили одним выстрелом и разбежались, но одного из них всё-таки
удалось схватить и привести в колонию. У него ни нашлось ни обреза, ни
награбленного, и он отрицал всё на свете. Переданный нами в губрозыск, он
оказался, однако, известным бандитом, и вслед за ним была арестована вся
шайка. От имени губисполкома колонии имени Горького была выражена
благодарность. Но и после этого грабежи на большой
дороге не уменьшились. К концу зимы хлопцы стали находить уже следы «мокрых»
ночных событий. Между соснами в снегу вдруг видим торчащую руку. Откапываем и
находим женщину, убитую выстрелом в лицо. В другом месте, возле самой дороги,
в кустах — мужчина в извозчичьем армяке с разбитым черепом. В одно прекрасно
утро просыпаемся и видим: с опушки леса на нас смотрят двое повешенных. Пока
прибыл следователь, они двое суток висели и глядели на колонистскую жизнь
вытаращенными глазами. Колонисты ко всем этим явлениям
относились без всякого страха и с искренним интересом. Весной, когда стаял
снег, они разыскивали в лесу обглоданные лисицами черепа, надевали их на
палки и приносили в колонию со специальной целью попугать Лидию Петровну.
Воспитатели и без того жили в страхе и ночью дрожали, ожидая, что вот‑вот
в колонию ворвётся грабительская шайка и начнётся резня. Особенно перепуганы
были Осиповы, у которых, по общему мнению, было что грабить. В конце февраля наша подвода, ползущая
обычно с обычной скоростью из города с кое‑каким добром, была
остановлена вечером возле самого поворота в колонию. На подводе были крупа и
сахарный песок, — вещи, почему‑то грабителей не соблазнившие. У
Калины Ивановича, кроме трубки, не нашлось никаких ценностей. Это обстоятельство
вызвало у грабителей справедливый гнев: они треснули Калину Ивановича по
голове, он свалился в снег и пролежал в нём, пока грабители не скрылись. Гуд,
всё время состоявший у нас при Малыше, был простым свидетелем. Приехав в
колонию, и Калина Иванович, и Гуд разразились длинными рассказами. Калина
Иванович описывал события в красках драматических, Гуд — в красках
комических. Но постановление было вынесено единодушное: всегда высылать
навстречу нашей подводе отряд колонистов. Мы так и делали в течение двух лет. Эти
походы на дорогу назывались у нас по‑военному: «Занять дорогу». Отправлялись человек десять. Иногда и я
входил в состав отряда, так как у меня был наган. Я не мог его доверить
всякому колонисту, а без револьвера наш отряд казался слабым. Только Задоров
получал от меня иногда револьвер и с гордостью нацеплял его поверх своих
лохмотьев. Дежурство по большой дороге было очень
интересным занятием. Мы располагались на протяжении полутора километров по
всей дороге, начиная от моста через речку до самого поворота в колонию.
Хлопцы мёрзли и подпрыгивали на снегу, перекликались, чтобы не потерять связи
друг с другом, и в наступивших сумерках пророчили верную смерть воображению
запоздавшего путника. Возвращавшиеся из города селяне колотили лошадей и
молча проскакивали мимо ритмически повторяющихся фигур самого уголовного
вида. Управляющие совхозами и власти пролетали на громыхающих тачанках и
демонстративно показывали колонистам двустволки и обрезы, пешеходы
останавливались у самого моста и ожидали новых путников. При мне колонисты никогда не хулиганили и
не пугали путешественников, но без меня допускали шалости, и Задоров скоро
даже отказался от револьвера и потребовал, чтобы я бывал на дороге
обязательно. Я стал выходить при каждой командировке отряда, но револьвер
отдавал всё же Задорову, чтобы не лишить его заслуженного наслаждения. Когда показывался наш малыш, мы его
встречали криком: — Стой! Руки вверх! Но Калина Иванович только улыбался и с
особенной энергией начинал раскуривать свою трубку. Раскуривания трубки
хватало ему до самой колонии, потому что в этом случае применялась известная
формула: — Сим вэрст крэсав, не вчувсь, як и
выкрэсав. Наш отряд постепенно сворачивался за
Малышом и весёлой толпой вступал в колонию, расспрашивая Калину Ивановича о
разных продовольственных новостях. Этой же зимою мы приступили и к другим
операциям, уже не колонистского, а общегосударственного значения. В колонию
приехал лесничий и просил наблюдать за лесом: порубщиков много, он со своим
штатом не управляется. Охрана государственного леса очень
подняла нас в собственных глазах, доставила нам чрезвычайно занятную работу
и, наконец, приносила значительные выгоды. Ночь. Скоро утро, но ещё совершенно
темно. Я просыпаюсь от стука в окно. Смотрю: на оконном стекле туманятся
сквозь ледяные узоры приплюснутый нос и взлохмаченная голова. — В чём дело? — Антон Семёнович, в лесу рубят! Зажигаю ночник, быстро одеваюсь, беру
револьвер и двустволку и выхожу. Меня ожидают у крыльца особенные любители
ночных похождений — Бурун и Шелапутин, совсем маленький ясный пацан, существо
безгрешное. Бурун забирает у меня из рук двустволку,
и мы входим в лес. — Где? — А вот послушайте… Останавливаемся. Сначала я ничего не
слышу, потом начинаю различать еле заметное среди неуловимых ночных звуков и
звуков нашего дыхания глухое биение рубки. Двигаемся вперёд, наклоняемся,
ветки молодых сосен царапают наши лица, сдёргивают с моего носа очки и
обсыпают нас снегом. Иногда стуки топора вдруг прерываются, мы теряем
направление и терпеливо ждём. Вот они опять ожили, уже громче и ближе. Нужно подойти совершенно незаметно, чтобы
не спугнуть вора. Бурун по‑медвежьи ловко переваливается, за ним
семенит крошечный Шелапутин, кутаясь в свой клифт. Заключаю шествие я. Наконец мы у цели. Притаились за сосновым
стволом. Высокое стройное дерево вздрагивает, у его основания — подпоясанная
фигура. Ударит несмело и неспоро несколько раз, выпрямится, оглянется и снова
рубит. Мы от неё шагах в пяти. Бурун наготове держит двустволку дулом вверх,
смотрит на меня и не дышит. Шелапутин притаился со мной и шепчет, повисая на
моём плече: — Можно? Уже можно? Я киваю головой. Шелапутин дёргает Буруна
за рукав. Выстрел гремит, как страшный взрыв, и
далеко раскатывается по лесу. Человек с топором рефлексивно присел.
Молчание. Мы подходим к нему. Шелапутин знает свои обязанности, топор уже в
его руках. Бурун весело приветствует: — А‑а, Мусий Карпович, доброго
ранку! Он треплет Мусия Карповича по плечу, но
Мусий Карпович не в состоянии выговорить ответное приветствие. Он дрожит мелкой
дрожью и для чего‑то стряхивает снег с левого рукава. Я спрашиваю: — Конь далеко? Мусий Карпович по‑прежнему молчит,
отвечает за него Бурун: — Да вон же и конь!.. Эй, кто там!
Заворачивай! Только теперь я различаю в сосновом
переплёте лошадиную морду и дугу. Бурун берёт Мусия Карповича под руку: — Пожалуйте, Мусий Карпович, в
карету скорой помощи. Мусий Карпович, наконец, начинает
подавать признаки жизни. Он снимает шапку, проводит рукой по волосам и
шепчет, ни на кого не глядя: — Ох, ты ж, боже мой!.. Мы направляемся к саням. Так называемые «рижнати» — сани медленно
разворачиваются, и мы двигаемся по еле заметному глубокому и рыхлому следу.
На коняку чмокает и печально шевелит вожжами хлопец лет четырнадцати в
огромной шапке и сапогах. Он всё время сморкает носом и вообще расстроен.
Молчим. При выезде на опушку леса Бурун берёт
вожжи из рук хлопца. — Э, цэ вы не туды поихалы. Цэ, як
бы с грузом, так туды, а коли з батьком, так ось куды… — На колонию? — спрашивает
хлопец, но Бурун уже не отдаёт ему вожжей, а сам поворачивает коня на нашу
дорогу. Начинает светать. Мусий Карпович вдруг через руку Буруна
останавливает лошадь и снимает другой рукой шапку. — Антон Семёнович, отпустите! Первый
раз… Дров нэма… Отпустите! Бурун недовольно стряхивает его руку с вожжей,
но коня не погоняет, ждёт, что я скажу. — Э, нет, Мусий Карпович, —
говорю я, — так не годится. Протокол нужно составить: дело, сами знаете,
государственное. — И не в первый раз вовсе, —
серебряным альтом встречает рассвет Шелапутин. — Не первый раз, а
третий: один раз ваш Василь поймался, а другой… Бурун перебивает музыку серебряного альта
хриплым баритоном: — Чего тут будем стоять? А ты,
Андрию, лети домой, твоё дело маленькое. Скажешь матери, что батько
засыпался. Пускай передачу готовит. Андрей в испуге сваливается с саней и
летит к хутору. Мы трогаем дальше. При вьезде в колонию нас встречает группа
хлопцев. — О! А мы думали, что вас там
поубивали, хотели на выручку. Бурун смеётся: — Операция прошла с
головокружительным успехом. В моей комнате собирается толпа. Мусий
Карпович, подавленный, сидит на стуле против меня, Бурун — на окне, с ружьем,
Шелапутин шёпотом рассказывает товарищам жуткую историю ночной тревоги. Двое
рябят сидят на моей постели, остальные — на скамьях, внимательно наблюдают
процедуру составления акта. Акт пишется с душераздирающими
подробностями. — Земли у вас двенадцать десятин?
Коней трое? — Та яки там кони? — стонет
Мусий Карпович. — Там же лошичка… два роки тилько… — Трое, трое, — поддерживает
Бурун и нежно треплет Мусия Карповича по плечу. Я пишу дальше: — «…в отрубе шесть вершков…» Мусий Карпович протягивает руки: — Ну что вы, бог с вами, Антон
Семёнович! Де ж там шесть? Там же и четырекх нэма. Шелапутин вдруг отрывается от
повествования шёпотом, показывает руками нечто, равное полуметру, и нахально
смеётся в глаза Мусию Карповичу: — Вот такое? Вот такое? Правда? Мусий Карпович отмахивается от его улыбки
и покорно следит за моей ручкой. Акт готов. Мусий Карпович обиженно подаёт
мне руку на прощанье и протягивает руку Буруну, как самому старшему. — Напрасно вы это, хлопцы, делаете:
всем жить нужно. Бурун перед ним расшаркивается: — Нет, отчего же, всегда рады
помочь… — Вдруг он вспоминает: — Да, Антон Семёнович, а как же дерево? — Мы задумываемся. Действительно,
дерево почти срублено, завтра его всё равно дорубят и украдут. Бурун не
ожидает конца нашего раздумья и направляется к дверям. На ходу он бросает
вконец расстроенному Мусию Карповичу: — Коня приведём, не беспокойтесь.
Хлопцы, кто со мной? Ну вот, шести человек довольно. Верёвка там есть, Мусий
Карпович? — До рижна (колышек на краю саней)
привязана. Все расходятся. Через час в колонию
привозят длинную сосну. Это премия колонии. Кроме того, по старой традиции, в
пользу нашей колонии остаётся топор. Много воды утечёт в нашей жизни, а во
время взаимных хозяйственных расчётов долго ещё будут говорить колонисты: — Было три топора. Я тебе давал три
топора. Два есть, а третий где? — Какой «третий»? — Какой? А Мусия Карповича, что
тогда отобрали. Не столько моральные убеждения и гнев,
сколько вот эта интересная и настоящая деловая борьба дала первые ростки
хорошего коллективного тона. По вечерам мы и спорили, и смеялись, и
фантазировали на темы о наших похождениях, роднились в отдельных ухватистых
случаях, сбивались в единое целое, чему имя — колония Горького. |
|
||||
|
|
6. Завоевание железного бака.
Между тем наша колония понемногу начала
развивать свою материальную историю. Бедность, доведённая до последних
пределов, вши и отмороженные ноги не мешали нам мечтать о лучшем будущем. Хотя
наш тридцатипятилетний Малыш и старая сеялка мало давали надежд на развитие
сельского хозяйства, наши мечты получили именно сельскохозяйственное
направление. Но это были только мечты. Малыш представлялся двигателем,
настолько мало приспособленным для сельского хозяйства, что только в
воображении можно было рисовать картину: Малыш за плугом. Кроме того,
голодали в колонии не только колонисты, голодал и Малыш. С большим трудом мы
доставали для него солому, иногда сено. Почти всю зиму мы не ездили, а мучились
с ним, и у Калины Ивановича всегда болела правая рука от постоянных
угрожающих верчений кнута, без которых Малыш просто останавливался. Наконец, для сельского хозяйства не
годилась сама почва нашей колонии. Это был песок, который при малейшем ветре
перекатывался дюнами. И сейчас я не вполне понимаю, каким
образом, при описанных условиях, мы проделали явную авантюру, которая, тем не
менее, поставила нас на ноги. Началось с анекдота. Вдруг нам улыбнулось счастье: мы получили
ордер на дубовые дрова. Их нужно было свезти прямо с рубки. Это было в
пределах нашего сельсовета, но в той стороне нам до сего времени бывать ни
разу не приходилось. Сговорившись с двумя нашими соседями‑хуторянами,
мы на их лошадях отправились в неведомую страну. Пока возчики бродили по
рубке, взваливали на сани толстые дубовые колоды и спорили «поплывэ чи не
поплывэ» с саней такая колода в дороге, мы с Калиной Ивановичем обратили
внимание на ряд тополей, поднимавшихся над камышами замёрзшей речки. Перебравшись через лед и поднявшись по какой‑то
аллейке в горку, мы очутились в мёртвом царстве. До десятка больших и
маленьких домов, сараев и хат, служб и иных сооружений находилось в
развалинах. Все они были равны в своём разрушении: на местах печей лежали
кучи кирпича и глины, запорошенные снегом: полы, двери, окна, лестницы
исчезли. Многие переборки и потолки тоже были сломаны, во многих местах
разбирались уже кирпичные стены и фундаменты. От огромной конюшни остались
только две продольные кирпичные стены, а над ними печально и глупо торчал в
небе прекрасный, как будто только что окрашенный, железный бак. Он один во
всём имении производил впечатление чего‑то живого, всё остальное
казалось уже трупом. Но труп был богатый: в сторонке высился
двухэтажный дом, новый, ещё не облицованный, с претензией на стиль. В его
комнатах, высоких и просторных, ещё сохранились лепные потолки и мраморные
подоконники. В другом конце двора — новенькая конюшня пустотелого бетона.
Даже и разрушенные здания при ближайшем осмотре поражали основательностью
постройки, крепкими дубовыми срубами, мускулистой уверенностью связей,
стройностью стропильных ног, точностью отвесных линий. Мощный хозяйственный
организм не умер от дряхлости и болезней: он был насильственно прикончен в
полном расцвете сил и здоровья. Калина Иванович только крякал, глядя на
всё это богатство: — Ты ж глянь, что тут делается: тут
тебе и речка, тут тебе и сад, и луга вон какие!.. Речка окружала имение с трёх сторон,
обходя случайную на нашей равнине довольно высокую горку. Сад спускался к
реке тремя террасами: на верхней — вишни, на второй — яблони, на нижней —
целые плантации чёрной смородины. На дворе работала большая пятиэтажная
мельница. От рабочих мельницы мы узнали, что имение принадлежало братьям
Трепке. Трепке ушли с деникинской армией, оставив свои дома наполненными
добром. Добро это давно ушло в соседнюю Гончаровку и по хуторам, теперь туда
же переходили и дома. Калина Иванович разразился целой речью: — Дикари, ты понимаешь, мерзавцы,
адиоты! Тут вам такое добро — палаты, конюшни! Живи ж, сукин сын, сиди,
хозяйствуй, кофий пей, а ты, мерзавец, такую вот раму сокирою бьёшь. А
почему? Потому что тебе нужно галушки сварить, так нет того — нарубить дров…
Чтоб ты подавился тою галушкою, дурак, адиот! И сдохнет таким, понимаешь,
никакая революция ему не поможет… Ах, сволочи, ах, подлецы, остолопы
проклятые!.. Ну, что ты скажешь?.. А скажите, пожалуйста, товарищ, —
обратился Калина Иванович к одному из мельничьих, — а от кого это
зависит, ежели б тот бачок получить? Вон тот, что над конюшней красуется. Всё
равно ж он тут пропадёт без последствий. — Бачок тот? А чёрт его знает! Тут
сельсовет распоряжается… — Ага! Ну, это хорошо, — сказал
Калина Иванович и мы отправились домой. На обратном пути, шагая по накатанной
предвесенней дороге за санями наших соседей, Калина Иванович размечтался: как
хорошо было бы этот самый бак получить, перевезти в колонию, поставить на
чердак прачечной и таким образом превратить прачечную в баню. Утром, отправляясь снова на рубку, Калина
Иванович взял меня за пуговицу: — Напиши, голубчик, бумажку, этим
самым сельсоветам. Им бак нужный, как собаке боковой карман, а у нас будет
баня… Чтобы доставить удовольствие Калине
Ивановичу, я бумажку написал. К вечеру Калина Иванович возвратился
взбешенный: — Вот паразиты! Они смотрят только теорехтически,
а не прахтически. Говорят, бак этот самый — чтоб им пусто было! —
государственная собственность. Ты видел таких адиотов? Напиши, я поеду в
волисполком. — Куда ты поедешь? Это же двадцать
верст. На чём ты поедешь? — А тут один человечек собирается,
так я с ним и прокачусь. Проект Калины Ивановича строить баню
очень понравился всем колонистам, но в получение бака никто не верил. — Давайте как‑нибудь без бака
этого. Можно деревянный устроить. — Эх, ничего ты не понимаешь! Люди
делали железные баки, значит, они понимали. А этот бак я у них, паразитов, с
мясом вырву… — А на чём вы его довезёте? На
Малыше? — Довезём! Было б корыто, а свиньи
будут. Из волисполкома Калина Иванович
возвратился ещё злее и забыл все слова, кроме ругательных. Целую неделю он, под хохот колонистов,
ходил вокруг меня и клянчил: — Напиши бумажку в уисполком. — Отстань, Калина Иванович, есть
другие дела, важнее твоего бака. — Напиши, ну что тебе стоит? Чи тебе
бумаги жалко, чи што? Напиши, — вот увидишь, привезу бак. И эту бумажку я написал Калине Ивановичу.
Засовывая её в карман, Калина Иванович наконец улыбнулся: — Не может того быть, чтобы такой
закон стоял: пропадает добро, а никто не думает. Это ж тебе не царское время. Из уисполкома Калина Иванович приехал
поздно вечером и даже не зашёл ни ко мне, ни в спальню. Только наутро он
пришёл в мою комнату и был надменно‑холоден, аристократически подобран
и смотрел через окно в какую‑то далёкую даль. — Ничего не выйдет, — сказал он
сухо, протягивая мне бумажку. Поперёк нашего обстоятельного текста на
ней было начертано красными чернилами коротко, решительно и до обидного
безапелляционно: «О т к а з а т ь». Калина Иванович страдал длительно и
страстно. Недели на две исчезло куда‑то его милое старческое оживление. В ближайший воскресный день, когда уже
здорово издевался март над задержавшимся снегом, я пригласил некоторых ребят
пойти погулять по окрестностям. Они раздобыли кое‑какие тёплые вещи, и
мы отправились… в имение Трепке. — А не устроить ли нам здесь нашу
колонию? — задумался я вслух. — Где «здесь»? — Да вот в этих домах. — Так как же? Тут же нельзя жить… — Отремонтируем. Задоров залился смехом и пошёл штопором
по двору. — У нас вот ещё три дома не
отремонтированы. Всю зиму не могли собраться. — Ну, хорошо, а если всё-таки отремонтировать? — О, тут была б колония! Речка ж и
сад, и мельница. Мы лазили среди развалин и мечтали: здесь
спальни, здесь столовая, тут клуб шикарный, это классы. Возвратились домой уставшие и энергичные.
В спальне шумно обсуждали подробности и детали будущей колонии. Перед тем как
расходиться, Екатерина Григорьевна сказала: — А знаете что, хлопцы, нехорошо это
— заниматься такими несбыточными мечтами. Это не по‑большевистски. В спальне неловко притихли. Я с остервенением глянул в лицо Екатерины
Григорьевны, стукнул кулаком по столу и сказал: — А я вам говорю: через месяц это
имение будет наше! По‑большевистски это будет? Хлопцы взорвались хохотом и закричали
«ура». Смеялся и я, смеялась и Екатерина Григорьевна. Целую ночь я просидел над докладом в
губисполком. Через неделю меня вызвал
завгубнаробразом. — Хорошо придумали — поедем,
посмотрим. Ещё через неделю наш проект
рассматривался в губисполкоме. Оказалось, что судьба имения давно беспокоила
власть. А я имел случай рассказать о бедности, бесперспективности,
заброшенности колонии, в которой уже родился живой коллектив. Предгубисполкома сказал: — Там нужен хозяин, а здесь хозяева
ходят без дела. Пускай берут. И вот я держу в руках ордер на имение,
бывшее Трепке, а к нему шестьдесят десятин пахотной земли и утверждённая
смета на восстановление. Я стою среди спальни, я ещё с трудом верю, что это
не сон, а вокруг меня взволнованная толпа колонистов, вихрь восторгов и
протянутых рук. — Дайте ж и нам посмотреть! Входит Екатерина Григорьевна. К ней
бросаются с пенящимся задором, и Шелапутин пронзительно звенит: — Это по‑большевицкому или по‑какому?
Вот теперь скажите. — Что такое, что случилось? — Это по‑большевицкому?
Смотрите, смотрите!.. Больше всех радовался Калина Иванович: — Ты молодец, ибо, як там сказано у
попов: просите — и обрящете, толцыте — и отверзется, и дастся вам… — По шее, — сказал Задоров. — Как же так — «по шее»? —
обернулся к нему Калина Иванович. — Вот же ордер. — Это вы «толцыте» за баком, и вам
дали по шее. А здесь дело, нужное для государства, а не то что мы выпросили… — Ты ещё молод разбираться в
писании, — пошутил Калина Иванович, так как сердиться в эту минуту он не
мог. В первый же воскресный день он со мной и
толпой колонистов отправился для осмотра нового нашего владения. Трубка его
победоносно дымила в физиономию каждого кирпича трепкинских остатков. Он
важно прошёлся мимо бака. — Когда же бак перевозить, Калина
Иванович? — серьёзно спросил Бурун. — А на что его, паразита,
перевозить? Он и здесь пригодится. Ты ж понимаешь: конюшня по последнему
слову заграничной техники. |
|
||||
|
|
7. «Ни одна блоха не плоха»
Наше торжество по поводу завоевания
наследства братьев Трепке не так скоро мы могли перевести на язык фактов.
Отпуск денег и материалов по разным причинам задерживался. Самое же главное
препятствие было в маленькой, но вредной речушке Коломак. Коломак, отделявший
нашу колонию от имения Трепке, в апреле проявил себя как очень солидный
представитель стихии. Сначала он медленно и упорно разливался, а потом ещё
медленнее уходил в свои скромные берега и оставлял за собой новое стихийное
бедствие: непролазную, непроезжую грязь. Поэтому «Трепке», как у нас тогда
называли новое приобретение, продолжало ещё долго оставаться в развалинах.
Колонисты в это время предавались весенним переживаниям. По утрам, после
завтрака, ожидая звонка на работу, они рядком усаживались возле амбара и
грелись на солнышке, подставляя его лучам свои животы и пренебрежительно
разбрасывая клифты по всему двору. Они могли часами молча сидеть на солнце,
навёрстывая зимние месяцы, когда у нас трудно было нагреться и в спальнях. Звонок на работу заставлял их подниматься
и нехотя брести к своим рабочим точкам, но и во время работы они находили
предлоги и технические возможности раз‑другой повернуться каким‑нибудь
боком к солнцу. В начале апреля убежал Васька Полещук. Он
не был завидным колонистом. В декабре я наткнулся в наробразе на такую
картину: толпа народу у одного из столиков окружила грязного и оборванного
мальчика. Секция дефективных признала его душевнобольным и отправляла в какой‑то
специальный дом. Оборванец протестовал, плакал и кричал, что он вовсе не
сумасшедший, что его обманом привезли в город, а на самом деле везли в
Краснодар, где обещали поместить в школу. — Чего ты кричишь? — спросил я
его. — Да вот, видишь, признали меня
сумасшедшим… — Слышал. Довольно кричать, едем со
мной. — На чём едем? — На своих двоих. Запрягай! — Ги‑ги‑ги!.. Физиономия у оборванца была действительно
не из интеллигентных. Но от него веяло большой энергией, и я подумал: «Да всё
равно: ни одна блоха не плоха…» Дефективная секция с радостью
освободилась от своего клиента, и мы с ним бодро зашагали в колонию. Дорогою
он рассказывал обычную историю, начинающуюся со смерти родителей и нищенства.
Звали его Васька Полещук. По его словам, он был человек «ранетый» —
участвовал во взятии Перекопа. В колонии на другой же день он замолчал,
и никому — ни воспитателям, ни хлопцам не удавалось его разговорить.
Вероятно, подобные явления и побудили учёных признать Полещука сумасшедшим. Хлопцы заинтересовались его молчанием и
просили у меня разрешения применить к нему какие‑то особые методы:
нужно обязательно перепугать, тогда он сразу заговорит. Я категорически
запретил это. Вообще я жалел, что взял этого молчальника в колонию. Вдруг Полещук заговорил, заговорил без
всякого повода. Просто был прекрасный тёплый весенний день, наполненный
запахами подсыхающей земли и солнца. Полещук заговорил энергично, крикливо,
сопровождая слова смехом и прыжками. Он по целым дням не отходил от меня,
рассказывая о прелестях жизни в Красной Армии и о командире Зубате. — Вот был человек! Глаза такие, аж
синие, такие чёрные, как глянет, так аж в животе холодно. Он как в Перекопе
был, так аж нашим было страшно. — Что ты всё о Зубате
рассказываешь? — спрашивают ребята. — Ты его адрес знаешь? — Какой адрес? — Адрес, куда ему писать, ты знаешь? — Нет, не знаю. А зачем ему писать?
Я поеду в город Николаев, там найду… — Да ведь он тебя прогонит… — Он меня не прогонит. Это другой
меня прогнал. Говорит: нечего с дурачком возиться. А я разве дурачок? Целыми днями Полещук рассказывал всем о
Зубате, о его красоте, неустрашимости и что он никогда не ругался матерной
бранью. Ребята прямо спрашивали: — Подрывать собираешься? Полещук поглядывал на меня и задумывался.
Думал долго, и, когда о нём уже забывали и ребята увлекались другой темой, он
вдруг тормошил задавшего вопрос: — Антон будет сердиться? — За что? — А вот если я подорву? — А ты ж думаешь, не будет? Стоило с
тобой возиться!.. Васька опять задумывался. И однажды после завтрака прибежал ко мне
Шелапутин. — Васьки в колонии нету… И не
завтракал — подорвал. Поехал к Зубате. На дворе меня окружили хлопцы. Им было
интересно знать, какое впечатление произвело на меня исчезновение Васьки. — Полещук‑таки дёрнул… — Весной запахло… — В Крым поехал… — Не в Крым, а в Николаев… — Если пойти на вокзал, можно
поймать… И незавидный был колонист Васька, а побег
его произвёл на меня очень тяжёлое впечатление. Было обидно и горько, что вот
не захотел человек принять нашей небольшой жертвы, пошёл искать лучшего. И
знал я в то же время, что наша колонистская бедность никого удержать не
может. Ребятам я сказал: — Ну и чёрт с ним! Ушёл — и ушёл.
Есть дела поважнее. В апреле Калина Иванович начал пахать.
Это событие совершенно неожиданно свалилось на нашу голову. Комиссия по делам
несовершеннолетних поймала конокрада, несовершеннолетнего. Преступника куда‑то
отправили, но хозяина лошади сыскать не могли. Комиссия неделю провела в
страшных мучениях: ей очень непривычно было иметь у себя такое неудобное
вещественное доказательство, как лошадь. Пришёл в комиссию Калина Иванович,
увидел мученическую жизнь и грустное положение ни в чём не повинной лошади,
стоявшей посреди мощёного булыжником двора — ни слова не говоря, взял её за
повод и привёл в колонию. Вслед ему летели облегчённые вздохи членов
комиссии. В колонии Калину Ивановича встретили
крики восторга и удивления. Гуд принял в трепещущие руки от Калины Ивановича
повод, а в просторы своей гудовской души такое напутствие: — Смотри ж ты мине! Это тебе не то,
как вы один з одним обращаетесь! Это животная — она языка не имеет и ничего
не может сказать. Пожалиться ей, сами знаете, невозможно. Но если ты ей
будешь досаждать и она тебе стукнет копытом по башке, так к Антону Семёновичу
не ходи. Хочь — плачь, хочь — не плачь, я тебе всё равно споймаю. И голову
провалю. Мы стояли вокруг этой торжественной
группы, и никто из нас не протестовал против столь грозных опасностей,
угрожающих башке Гуда. Калина Иванович сиял и улыбался сквозь трубку,
произнося такую террористическую речь. Лошадь была рыжей масти, ещё не стара
и довольно упитанна. Калина Иванович с хлопцами несколько дней
провозился в сарае. При помощи молотков, отверток, просто кусков железа,
наконец, при помощи многих поучительных речей ему удалось наладить нечто вроде
плуга из разных ненужных остатков старой колонии. И вот благословенная картина: Бурун с
Задоровым пахали. Калина Иванович ходил рядом и говорил: — Ах, паразиты, и пахать не умеют:
вот тебе огрих, вот огрих… Хлопцы добродушно огрызались: — А вы бы сами показали, Калина
Иванович. Вы, наверное, сами никогда не пахали. Калина Иванович вынимал изо рта трубку,
старался сделать зверское лицо: — Кто, я не пахав? Разве нужно
обязательно самому пахать? Нужно понимать. Я вот понимаю, что ты огрихав
наделав, а ты не понимаешь. Сбоку же ходили Гуд и Братченко. Гуд
шпионил за пахарями, не издеваются ли они над конём, а Братченко просто
влюблёнными глазами смотрел на Рыжего. Он пристроился к Губу в качестве
добровольного помощника по конюшне. В сарае возились несколько старших
хлопцев у старой сеялки. На них покрикивал и поражал их впечатлительные души
кузнечно‑слесарной эрудицией Софрон Головань. Софрон Головань имел несколько очень
ярких черт, заметно выделявших его из среды прочих смертных. Он был огромного
роста, замечательно жизнерадостен, всегда был выпивши и никогда не бывал
пьян. Обо всём имел своё собственное и всегда удивительно невежественное
мнение. Головань был чудовищное соединение кулака с кузнецом: у него были две
хаты, три лошади, две коровы и кузница. Несмотря на своё кулацкое состояние,
он всё же был хорошим кузнецом, и его руки были несравненно просвещённее его
головы. Кузница Софрона стояла на самом харьковском шляху, рядом с постоялым
двором, и в этом её географическом положении был запрятан секрет обогащений
фамилии Голованей. В колонию Софрон пришёл по приглашению
Калины Ивановича. В наших сараях нашёлся кое‑какой кузнечный
инструмент. Сама кузница в полуразрушенном состоянии, но Софрон предлагал
перенести сюда свою наковальню и горн, прибавить кое‑какой инструмент и
работать в качестве инструктора. Он брался даже за свой счёт поправить здание
кузницы. Я удивлялся, откуда это у Голованя такая готовность идти к нам на
помощь. Недоумение моё разрешил на «вечернем
докладе» Калина Иванович. Засовывая бумажку в стекло моего ночника,
чтобы раскурить трубку, Калина Иванович сказал: — А этот паразит Софрон недаром к
нам идёт. Его, знаешь, придавили мужички, так он боится, как бы кузницу у
него не отобрали, а тут он, знаешь, как будто на совецькой службе будет
считаться. — Что же нам с ним делать? —
спросил я Калину Ивановича. — А что ж нам делать? Кто сюда
пойдёт? Где мы горн возьмём? А струмент? И квартир у нас нету, а если и есть какая
халупа, так и столярей же нужно звать. И знаешь, — прищурился Калина
Иванович, — нам што: хоть рыжа, хоть кирпата, абы хата богата. Што ж с
того, што он кулак?.. Работать же он будет всё равно, как и настоящий
человек. Калина Иванович задумчиво дымил в низкий
потолок моей комнаты и вдруг заулыбался: — Мужики эти, паразиты, всё равно у
него отберут кузню, а толк какой с того? Всё равно проведуть без дела. Так
лучше пускай у нас кузня будет, а Софрону всё равно пропадать. Подождём
малость — дадим ему по шапке: у нас совецькая учреждения, а ты што ж, сукин
сын, мироедов був, кровь человеческую пил, хе‑хе‑хе!.. Мы уже получили часть денег на ремонт
имения, но их было так мало, что от нас требовалась исключительная
изворотливость. Нужно было всё делать своими руками. Для этого нужна была
кузница, нужна была и столярная мастерская. Верстаки у нас были, на них кое‑как
можно было работать, инструмент купили. Скоро в колонии появился и инструктор‑столяр.
Под его руководством хлопцы энергично принялись распиливать привезённые из
города доски и клеить окна и двери для новой колонии. К сожалению,
ремесленные познания наших столяров были столь ничтожны, что процесс
приготовления для будущей жизни окон и дверей в первое время был очень
мучительным. Кузнечные работы — а их было немало — сначала тоже не радовали
нас. Софрон не особенно стремился к скорейшему окончанию восстановительного
периода в советском государстве. Жалованье его как инструктора выражалось в
цифрах ничтожных: в день получки Софрон демонстративно все полученные деньги
отправлял с одним из ребят к бабе‑самогонщице с приказом: — Три бутылки первака. Я об этом узнал не скоро. И вообще в то
время я был загипнотизирован списком: скобы, навесы, петли, щеколды. Вместе
со мной все были увлечены вдруг развернувшейся работой, из ребят уже
выделились столяры и кузнецы, в кармане у нас стала шевелиться копейка. Нас прямо в восторг приводило то
оживление, которое принесла с собою кузница. В восемь часов в колонии
раздавался весёлый звук наковальни, в кузнице всегда звучал смех, у её широко
раскрытых ворот то и дело торчало два‑три селянина, говорили о
хозяйских делах, о продразвёрстке, о председателе комнезама Верхоле, о кормах
и сеялке. Селянам мы ковали лошадей, натягивали шины, ремонтировали плуги. С
незаможников мы брали половинную плату, и это обстоятельство сделалось
отправным пунктом для бесконечных дискуссий о социальной справедливости и о
социальной несправедливости. Софрон предложил сделать для нас шарабан.
В неистощимых на всякий хлам сараях колонии нашёлся какой‑то кузов.
Калина Иванович привёз из города пару осей. По ним в течение двух дней
колотили молотами и молотками в кузнице. Наконец, Софрон заявил, что шарабан
готов, но нужны рессоры и колёса. Рессор у нас не было, колёс тоже не было. Я
долго рыскал по городу, выпрашивал старые рессоры, а Калина Иванович
отправился в длительное путешествие в глубь страны. Он ездил целую неделю,
привёз две пары новеньких ободьев и несколько сот разнообразных впечатлений,
среди них главное было: — От некультурный народ — это
мужики! (В «Педагогической поэме» Софрон привёл с хутора Козыря. Козырю
было сорок лет, он осенял себя крестным знамением при всяком подходящем
случае, был очень тих, вежлив и всегда улыбчиво оживлен. Он недавно вышел из
сумасшедшего дома и до смерти дрожал при упоминании имени собственной
супруги, которая была виновницей неправильного диагноза губернских психиатров.
Козырь был колёсник. Он страшно обрадовался нашему предложению сделать для
нас четыре колёса. Особенности его семейной жизни и блестящие задатки
подвижничества особенно подтолкнули его на чисто деловое предложение: — Знаете что, товарищи, спаси господи,
позвали меня, старика, знаете, что я вам скажу? Я у вас тут и жить буду. — Так у нас же негде. — Ничего, ничего, вы не
беспокойтесь, я найду, и господь бог поможет. Теперь лето, а на зиму
соберёмся как‑нибудь, вон в том сарайчике я устроюсь, я хорошо устроюсь… — Ну, живите. Козырь закрестился и немедленно расширил
деловую сторону вопроса: — Ободьев мы достанем. То Калина
Иванович не знали, а я всё знаю. Сами привезут, сами привезут мужички, вот
увидите, господь нас не оставит. — Да нам же больше не нужно, дядя. — Как «не нужно», как «не нужно»,
спаси бог?.. Вам не нужно, так людям нужно: как же может мужичок без колеса?
Продадите — заработайте, мальчикам на пользу будет. Калина Иванович рассмеялся и поддержал
домогательство Козыря: — Да чёрт с ним, нехай останется. В
природе, знаешь, всё так хорошо устроено, что и человек на что‑нибудь
пригодится. Козырь сделался общим любимцем
колонистов. К его религиозности относились как к особому виду сумасшествия,
очень тяжёлого для больного, но нисколько не опасного для окружающих. Даже
больше: Козырь сыграл определённо положительную роль в воспитании отвращения
к религии. Он поселился в небольшой комнате возле
спален. Здесь он был прекрасно укрыт от агрессивных действий его супруги,
которая отличалась действительно сумасшедшим характером. Для ребят сделалось
истинным наслаждением защищать Козыря от пережитков его прошлой жизни.
Козыриха являлась в колонии всегда с криком и проклятиями. Требуя возвращения
мужа к семейному очагу, она обвиняла меня, колонистов, советскую власть и
«этого босяка» Софрона в разрушении её семейного счастья. Хлопцы с
нескрываемой иронией доказывали ей, что Козырь ей в мужья не годится, что
производство колёс — гораздо более важное дело, чем семейное счастье. Сам
Козырь в это время сидел, притаившись, в своей комнатке и терпеливо ожидал,
когда атака окончательно будет отбита. Только когда голос обиженной супруги
раздавался уже за озером и от посылаемых ею пожеланий долетали только
отдалённые обрывки: «…сыны… чтоб вам… вашу голову…», только тогда Козырь
появлялся на сцене: — Спаси, Христос, сынки! Такая
неаккуратная женщина… Несмотря на столь враждебное окружение,
колёсная мастерская начинала приносить доход. Козырь, буквально при помощи
одного крестного знамения, умел делать солидные коммерческие дела; к нам без
всяких хлопот привозили ободья и даже денег немедленно не требовали. Дело в
том, что он действительно был замечательный колёсник, и его продукция
славилась далеко за пределами нашего района. Наша жизнь стала сложнее и веселее.
Калина Иванович всё-таки посеял на нашей поляне десятин пять овса, в конюшне
красовался Рыжий, на дворе стоял шарабан, единственным недостатком которого
была его невиданная вышина: он поднимался над землёй не меньше как на сажень,
и сидящему в его корзинке пассажиру всегда казалось, что влекущая шарабан
лошадь помещается хотя и впереди, но где‑то далеко внизу. Мы развили настолько напряжённую
деятельность, что уже начинали ощущать недостаток в рабочей силе. Пришлось
наскоро отремонтировать ещё одну спальню‑казарму, и скоро к нам прибыло
подкрепление. Это был совершенно новый сорт. К тому времени ликвидировали многое число
атаманов и батьков, и все несовершеннолетние соратники разных Левчёнок и
Марусь, военная и бандитская роль которых не шла дальше обязанностей конюхов
и кухонных мальчиков, присылались в колонию. Благодаря этому историческому
обстоятельству в колонии появились имена: Карабанов, Приходько, Голос,
Сорока, Вершнев, Митягин и другие. |
|
||||
|
|
8. Характер и культура
Приход новых колонистов сильно расшатал наш
некрепкий коллектив, и мы снова приблизились к «малине». Наши первые воспитанники были приведены в
порядок только для нужд самой первой необходимости. Последователи
отечественного анархизма ещё менее склонны были подчиняться какому бы то ни
было порядку. Нужно, однако, сказать, что открытое сопротивление и
хулиганство по отношению к воспитательскому персоналу в колонии никогда не
возрождалось. Можно думать, что Задоров, Бурун, Таранец и другие умели
сообщить новеньким краткую историю первых горьковских дней. И старые и новые
колонисты всегда демонстрировали уверенность, что воспитательский персонал не
является силой, враждебной по отношению к ним. Главная причина такого
настроения безусловно лежала в работе наших воспитателей, настолько
самоотверженной и, очевидно, трудной, что она, естественно, вызывала к себе
уважение. Поэтому колонисты за очень редким исключением, всегда были в
хороших отношениях с нами, признавали необходимость работать и заниматься в
школе, в сильной мере понимали, что это вытекает из общих наших интересов.
Лень и неохота переносить лишения у нас проявлялись в чисто зоологических
формах и никогда не принимали формы протеста. Мы отдавали себе отчёт в том, что всё это
благополучие есть чисто внешняя форма дисциплины и что за ним не скрывается
никакая, даже самая первоначальная культура. Вопрос, почему колонисты продолжают жить
в условиях нашей бедности и довольно тяжёлого труда, почему они не
разбегаются, разрешался, конечно, не только в педагогической плоскости. 1921
год для жизни на улице не представлял ничего завидного. Хотя наша губерния не
была в списке голодающих, но в самом городе всё же было очень сурово и,
пожалуй, голодно. Кроме того, в первые годы мы почти не получали
квалифицированных беспризорных, привыкших к бродяжничеству на улице. Большею
частью наши ребята были дети из семьи, только недавно порвавшие с нею связь. Хлопцы наши представляли в среднем
комбинирование очень ярких черт характера с очень узким культурным
состоянием. Как раз таких и старались присылать в нашу колонию, специально
предназначенную для трудновоспитуемых. Подавляющее большинство их было
малограмотно или вовсе неграмотно, почти все привыкли к грязи и вшам, по
отношению к другим людям у них выработалась постоянная защитно‑угрожающая
поза примитивного героизма. Выделялись из всей этой толпы несколько
человек более высокого интеллектуального уровня, как Задоров, Бурун,
Ветковский, Братченко, а из вновь прибывших — Карабанов и Митягин, остальные
только очень постепенно и чрезвычайно медленно приобщались к приобретениям
человеческой культуры, тем медленнее, чем мы были беднее и голоднее. В первый год нас особенно удручало их
постоянное стремление к ссоре друг с другом, страшно слабые коллективные
связи, разрушаемые на каждом шагу из‑за первого пустяка. В значительной
мере это проистекало даже не из вражды, а всё из той же позы героизма, не
корректированной никаким политическим самочувствием. Хотя многие из них
побывали в классово‑враждебных лагерях, у них не было никакого ощущения
принадлежности к тому или другому классу. Детей рабочих у нас почти не было,
пролетариат был для них чем‑то далёким и неизвестным, к крестьянскому
труду большинство относилось с глубоким презрением, не столько, впрочем, к
труду, сколько к отсталому крестьянскому быту, крестьянской психике.
Оставался, следовательно, широкий простор для всякого своеволия, для
проявления одичавшей, припадочной в своём одиночестве личности. Картина в общем была тягостная, но всё же
зачатки коллектива, зародившиеся в течение первой зимы, потихоньку зеленели в
нашем обществе, и эти зачатки во что бы то ни стало нужно было спасти, нельзя
было новым пополнениям позволить приглушить эти драгоценные зеленя. Главной
своей заслугой я считаю, что тогда я заметил это важное обстоятельство и по
достоинству его оценил. Защита этих первых ростков потом оказалась таким
невероятно трудным, таким бесконечно длинным и тягостным процессом, что, если
бы я знал это заранее, я, наверное, испугался бы и отказался от борьбы.
Хорошо было то, что я всегда ощущал себя накануне победы, для этого нужно
было быть неисправимым оптимистом. Каждый день моей тогдашней жизни
обязательно вмещал в себя и веру, и радость, и отчаяние. Вот идёт всё как будто благополучно.
Воспитатели закончили вечером свою работу, прочитали книжку, просто
побеседовали, поиграли, пожелали ребятам спокойной ночи и разошлись. Хлопцы
остались в мирном настроении, приготовились укладываться спать. В моей
комнате отбиваются последние удары дневного рабочего пульса, сидит ещё Калина
Иванович и по обыкновению занимается каким‑нибудь обобщением, торчит
кто‑нибудь из любопытных колонистов, у дверей Братченко с Гудом
приготовились к очередной атаке на Калину Ивановича по вопросам фуражных, и
вдруг с криком врывается пацан: — В спальне хлопцы режутся! Я — бегом из комнаты. В спальне содом и
крик. В углу две зверски ощерившиеся группы. Угрожающие жесты и наскоки
перемешиваются с головокружительной руганью; кто-то кого‑то «двигает» в
ухо, Бурун отнимает у одного из героев финку, а издали ему кричат: — А ты чего мешаешься? Хочешь получить
мою расписку? На кровати, окружённый толпой
сочувствующих, сидит раненый и молча перевязывает куском простыни порезанную
руку. Я никогда не разнимал дерущихся, не
старался их перекричать. За моей спиной Калина Иванович испуганно
шепчет: — Ой, скорийше, скорийше, голубчику,
бо вони ж, паразиты, порежут один одного… Но я стою молча в дверях и наблюдаю.
Постепенно ребята замечают моё присутствие и замолкают. Быстро наступающая
тишина приводит в себя и самых разъярённых. Прячутся финки и опускаются
кулаки, гневные и матерные монологи прерываются на полуслове. Но я продолжаю
молчать: внутри меня самого закипают гнев и ненависть ко всему этому дикому
миру. Это ненависть бессилия, потому что я очень хорошо знаю: сегодня не
последний день. Наконец в спальне устанавливается жуткая,
тяжёлая тишина, утихают даже глухие звуки напряжённого дыхания. Тогда вдруг взрываюсь я сам, взрываюсь и
в приступе настоящей злобы и в совершенно сознательной уверенности, что так
нужно: — Ножи на стол! Да скорее, чёрт!.. На стол выкладываются ножи: финки,
кухонные, специально взятые для расправы, перочинные и самоделковые,
изготовленные в кузнице. Молчание продолжает висеть в спальне. Возле стола
стоит и улыбается Задоров, прелестный, милый Задоров, который сейчас кажется
мне единственным родным, близким человеком. Я ещё коротко приказываю: — Кистени! — Один у меня, я отнял, —
говорит Задоров. Все стоят, опустив головы. — Спать!.. Я не ухожу из спальни, пока все не
укладываются. На другой день ребята стараются не
вспоминать вчерашнего скандала. Я тоже ничем не напоминаю о нём. Проходит
месяц‑другой. В течение этого времени отдельные очаги вражды в каких‑то
тайных углах слабо чадят, и если пытаются разгореться, то быстро
притушиваются в самом коллективе. Но вдруг опять разрывается бомба, и опять
разъярённые, потерявшие человеческий вид колонисты гоняются с ножами друг за
другом. В один из вечеров я увидел, что мне
необходимо прикрутить гайку, как у нас говорят. После одной из драк я
приказываю Чоботу, одному из самых неугомонных рыцарей финки, идти в мою
комнату. Он покорно бредёт. У себя я ему говорю: — Тебе придётся оставить колонию. — А куда я пойду? — Я тебе советую идти туда, где
позволено резаться ножами. Сегодня ты из‑за того, что товарищ не
уступил тебе место в столовой, пырнул его ножом. Вот и ищи такое место, где
споры разрешаются ножом. — Когда мне идти? — Завтра утром. Он угрюмо уходит. Утром, за завтраком,
все ребята обращаются ко мне с просьбой: пусть Чобот останется, они за него
ручаются. — Чем ручаетесь? Не понимают. — Чем ручаетесь? Вот если он
всё-таки возьмёт нож, что вы тогда будете делать? — Тогда вы его выгоните. — Значит, вы ничем не ручаетесь?
Нет, он пойдёт из колонии. Чобот после завтрака подошёл ко мне и
сказал: — Прощайте, Антон Семёнович, спасибо
за науку… — До свиданья, не поминай лихом.
Если будет трудно, приходи, но не раньше как через две недели. Через месяц он пришёл, исхудавший и
бледный. — Я вот пришёл, как вы сказали. — Не нашёл такого места? Он улыбнулся. — Отчего «не нашёл»? Есть такие
места… Я буду в колонии, я не буду брать ножа в руки. Колонисты любовно встретили нас в
спальне: — Всё-таки простили! Мы ж говорили. |
|
||||
|
|
9. «Есть ещё лыцари на Украине»
В один из воскресных дней напился
Осадчий. Его привели ко мне потому, что он буйствовал в спальне. Осадчий
сидел в моей комнате и, не останавливаясь, нёс какую‑то пьяно‑обиженную
чепуху. Разговаривать с ним было бесполезно. Я оставил его у себя и приказал
ложиться спать. Он покорно заснул. Но, войдя в спальню, я услышал запах
спирта. Многие из хлопцев явно уклонялись от общения со мной. Я не хотел
подымать историю с розыском виновных и только сказал: — Не только Осадчий пьян. Ещё кто‑то
выпил. Через несколько дней в колонии снова
появились пьяные. Часть из них избегала встречи со мной, другие, напротив, в
припадке пьяного раскаяния приходили ко мне, слезливо болтали и признавались
в любви. Они не скрывали, что были в гостях на
хуторе. Вечером в спальне поговорили о вреде
пьянства, провинившиеся дали обещание больше не пить, я сделал вид, будто до
конца доволен развязкой, и даже не стал никого наказывать. У меня уже был
маленький опыт, и я хорошо знал, что в борьбе с пьянством нужно бить не по
колонистам — нужно бить кого‑то другого. Кстати, и этот другой был
недалеко. Мы были окружены самогонным морем. В самой
колонии очень часто бывали пьяные из служащих и крестьян. В это же время я
узнал, что Головань посылал ребят за самогоном. Головань и не отказывался: — Да что ж тут такого? Калина Иванович, который сам никогда не
пил, раскричался на Голованя: — Ты понимаешь, паразит, что значит
советская власть? Ты думаешь, советская власть для того, чтобы ты самогоном
наливался? Головань неловко поворачивался на шатком
и скрипучем стуле и оправдывался: — Да что ж тут такого? Кто не пьёт,
спросите… У всякого аппарат, и каждый пьёт, сколько ему по аппетиту. Пускай
советская власть сама не пьёт… — Какая советская власть? — Да кажная. И в городе пьют, и у
хохлов пьют. — Вы знаете, кто здесь продаёт
самогонку? — спросил я у Софрона. — Да кто его знает, я сам никогда не
покупал. Нужно — пошлёшь кого‑нибудь. А вам на что? Отбирать будете? — А что же вы думаете? И буду
отбирать… — Хе, сколько уже милиция отбирала,
и то ничего не вышло. На другой же день я в городе добыл мандат
на беспощадную борьбу с самогоном на всей территории нашего сельсовета.
Вечером мы с Калиной Ивановичем совещались. Калина Иванович был настроен
скептически: — Не берись ты за это грязное дело.
Я тебе скажу, тут у них лавочка: председатель свой, понимаешь, Гречаный. А на
хуторах, куда ни глянь, всё Гречаные да Гречаные. Народ, знаешь, того, на
конях не пашут, а все — волики. От ты посчитай: Гончаровка у них вот
где! — Калина Иванович показал сжатый кулак. — Держуть, паразиты, и
ничего не сделаешь. — Не понимаю, Калина Иванович. А при
чём тут самогонка? — Ой, и чудак же ты, а ещё
освиченный человек! Так власть же у них вся в руках. Ты их краще не чипай, а
то заедят. Заедят, понимаешь? В спальне я сказал колонистам: — Хлопцы, прямо говорю вам: не дам
пить никому. И на хуторах разгоню эту самогонную банду. Кто хочет мне помочь? Большинство замялось, но другие
накинулись на моё предложение со страстью. Карабанов сверкал чёрными
огромными, как у коня, глазами: — Это дуже (очень) хорошее дело.
Дуже хорошее. Этих граков нужно трохи той… прижмать. Я пригласил на помощь троих: Задорова,
Волохова и Таранца. Поздно ночью в субботу мы приступили к составлению
диспозиции. Вокруг моего ночника склонились над составленным мною планом
хутора, и Таранец, запустивши руки в рыжие патлы, водил по бумаге носом и
говорил: — Нападём на одну хату, так в других
попрячут. Троих мало. — Разве так много хат с самогоном? — Почти в каждой: у Мусия Карповича
варят, у Андрия Карповича варят и у самого председателя Сергия Гречаного
варят. Верхолы, так они всё делают, и в городе бабы продают. Надо больше
хлопцев, а то, знаете, понабивают нам морды — и всё. Волохов молча сидел в углу и зевал. — Понабивают — как же! Возьмём
одного Карабанова, и довольно. И пальцем никто не тронет. Я этих граков знаю.
Они нашего брата боятся. Волохов шёл на операцию без увлечения. Он
и в это время относился ко мне с некоторым отчуждением: не любил парень
дисциплины. Но он был сильно предан Задорову и шёл за ним, не проверяя
никаких принципиальных положений. Задоров, как всегда, спокойно и уверенно
улыбался; он умел всё делать, не растрачивая своей личности и не обращая в
пепел ни одного грамма своего существа. И, как и всегда, я никому так не
верил, как Задорову: так же, не растрачивая личности, Задоров может пойти на
любой подвиг, если к подвигу его призовёт жизнь. И сейчас он сказал Таранцу: — Ты не егози, Федор, говори кратко,
с какой хаты начнём и куда дальше. А завтра видно будет. Карабанова нужно
взять, это верно, он умеет с граками разговаривать, потому что и сам грак. А
теперь идём спать, а то завтра нужно выходить пораньше, пока на хуторах не
перепились. Так, Грицько? — Угу, — просиял Волохов. Мы разошлись. По двору гуляли Лидочка и
Екатерина Григорьевна, и Лидочка сказала: — Хлопцы говорят, что пойдёте
самогонку трусить? Ну, на что это вам сдалось? Что это, педагогическая
работа? Ну, на что это похоже? — Вот это и есть педагогическая
работа. Пойдёмте завтра с нами. — А что ж, думаете, испугалась? И
пойду. Только это не педагогическая работа… — Так вы идёте? — Иду. Екатерина Григорьевна отозвала меня в
сторону: — Ну для чего вы берёте этого
ребёнка? — Ничего, ничего, — закричала
Лидия Петровна, — я всё равно пойду! Таким образом у нас составилась комиссия
из пяти человек. Часов в семь утра мы постучали в ворота
Андрия Карповича Гречаного, ближайшего нашего соседа. Наш стук послужил
сигналом для сложнейшей собачьей увертюры, которая продолжалась минут пять. Только после увертюры началось самое
действие, как и полагается. Оно началось выходом на сцену деда Андрия
Гречаного, мелкого старикашки с облезлой головой, но сохранившего аккуратно
подстриженную бородку. Дед Андрий спросил нас неласково: — Чего тут добиваетесь? — У вас есть самогонный аппарат, мы
пришли его уничтожить, — сказал я. — Вот мандат от губмилиции… — Самогонный аппарат? — спросил
дед Андрий растерянно, бегая острым взглядом по нашим лицам и живописным
одеждам колонистов. Но в этот момент бурно вступил фортиссимо
собачий оркестр, потому что Карабанов успел за спиной деда продвинуться ближе
к заднему плану и вытянуть предусмотрительно захваченным «дрючком» рыжего
кудлатого пса, ответившего на это выступление оглушительным соло на две
октавы выше обыкновенного собачьего голоса. Мы бросились в прорыв, разгоняя собак.
Волохов закричал на них властным басом, и собаки разбежались по углам двора,
оттеняя дальнейшие события маловыразительной музыкой обиженного тявканья.
Карабанов был уже в хате, и когда мы туда вошли с дедом, он победоносно
показывал нам искомое: самогонный аппарат. — Ось! (вот) Дед Андрий топтался по хате и блестел,
как в опере, новеньким молескиновым пиджачком. — Самогон вчера варили? —
спросил Задоров. — Та вчера, — сказал дед
Андрий, растерянно почёсывая бородку и поглядывая на Таранца, извлекающего из‑под
лавки в переднем углу полную четверть розово‑фиолетового нектара. Дед Андрий вдруг обозлился и бросился к
Таранцу, оперативно правильно рассчитывая, что легче всего захватить его в
тесном углу, перепутанном лавками, иконами и столом. Таранца он захватил, но
четверть через голову деда спокойно принял Задоров, а деду досталась
издевательски открытая обворожительная улыбка Таранца: — А что такое, дедушка? — Як вам не стыдно! — с чувство
закричал дед Андрий. — Совести на вас нету, по хатам ходите, грабите! И
дивча с собою привели. Колы вже покой буде людям, колы вже на вас лыха годына
посядэ?.. — Э, да вы, диду, поэт, —
сказал с оживлённой мимикой Карабанов и, подпёршись дрючком, застыл перед
дедом в декоративно‑внимательной позе. — Вон из моей хаты! — закричал
дед Андрий и схвативши у печи огромный рогач, неловко стукнул им по плечу
Волохова. Волохов засмеялся и поставил рогач на
место, показывая деду новую деталь событий: — Вы лучше туда гляньте. Дед глянул и увидел Таранца, слезающего с
печи со второй четвертью самогона, улыбающегося по‑прежнему искренно и
обворожительно. Дед Андрий сел на лавку, опустил голову и махнул рукой. К нему подсела Лидочка и ласково
заговорила: — Андрию Карповичу! Вы ж знаете:
запрещено ж законом варить самогонку. И хлеб же на это пропадает, а кругом же
голод, вы же знаете. — Голод у ледаща (лодыря). А хто
робыв, у того не буде голоду. — А вы, диду, робылы? — звонко
и весело спросил Таранец, сидя на печи. — А можэ, у вас робыв Степан
Нечипоренко? — Степан? — Ага ж, Степан. А вы его выгнали и
не заплатили и одежи не далы, так он в колонию просится. Таранец весело щелкнул языком на деда и
соскочил с печи. — Куда всё это девать? —
спросил Задоров. — Разбейте всё на дворе. — И аппарат? — И аппарат. Дед не вышел на место казни, — он
остался в хате выслушивать ряд экономических, психологических и социальных
соображений, которые с таким успехом начала перед ним развивать Лидия
Петровна. Хозяйские интересы на дворе представляли собаки, сидевшие по углам,
полные негодования. Только когда мы выходили на улицу, некоторые из них
выразили запоздавший бесцельный протест. Лидочку Задоров предусмотрительно вызвал
из хаты: — Идите с нами, а то дед Андрий из
вас колбас наделает… Лидочка выбежала, воодушевлённая беседой
с дедом Андрием: — А вы знаете, он всё понял! Он
согласился, что варить самогон — преступление. Хлопцы ответили смехом. Карабанов
прищурился на Лидочку: — Согласился? От здорово. Як бы вы
посидели с ним подольше, то он и сам разбил бы аппарат? Правда ж! — Скажите спасибо, что бабы его дома
не было, — сказал Таранец, — до церкви пошла, в Гончаровку. Про то
вам ещё с верхолыхой поговорить придётся. Лука Семёнович Верхола часто бывал в
колонии по разным делам, и мы иногда обращались к нему по нужде: то хомут, то
бричка, то бочка. Лука Семёнович был талантливейший дипломат, разговорчивый,
услужливый и вездесущий. Он был очень красив и умел холить курчавую ярко‑рыжую
бороду. У него было три сына: старший, Иван, был неотразим на пространстве
радиусом десять километров, потому что играл на трёхрядной венской гармонике
и носил умопомрачительные зелёные фуражки. Лука Семёнович встретил нас приветливо: — А, соседи дорогие! Пожалуйте,
пожалуйте! Слышал, слышал, самовары шукаете? Хорошее дело, хорошее дело.
Сидайте! Молодой человек, сидайте ж на ослони ось. Ну, как? Достали
каменщиков для Трепке? А то я завтра поеду на Бригадировку, так привезу вам.
Ох, знаете, и каменщики ж!.. Та чего ж вы, молодой человек, не сидаете? Та
нема в мэнэ аппарата, нэма, я таким делом не занимаюсь! Низзя! Что вы… как
можно! Раз совецкая власть сказала — низзя, я ж понимаю, как же… Жинко, ты ж
там не барыся, — дорогие ж гости! На столе появилась миска, до краёв полная
сметаны, и горка пирогов с творогом. Лука Семёнович упрашивал, не лебезил, не
унижался. Он ворковал приветливым открытым басом, у него были манеры хорошего
хлебосольного барина. Я заметил, как при виде сметаны дрогнули сердца
колонистов: Волохов и Таранец глаз не могли отвести от дорого угощения.
Задоров стоял у двери и, краснея, улыбался, понимая полную безвыходность
положения. Карабанов сидел рядом со мной и, улучив подходящий момент, шептал: — От и сукин же сын!.. Ну, що ты
робытымешь? Ий‑богу, приыйдётся исты. Я не вдержусь, ий‑богу, не
вдержусь! Лука Семёнович поставил Задорову стул: — Кушайте, дорогие гости, кушайте!
Можно было бы и самогончику достать, так вы ж по такому делу… Задоров сел против меня, опустил глаза и
закусил полпирога, обливая свой подбородок сметаной; у Таранца до самых ушей
протянулись сметанные усы; Волохов пожирал пирог за пирогом без видимых
признаков какой‑либо эмоции. — Ты ещё подсыпь пирогов, —
приказал Лука Семёнович жене. — Сыграй, Иване… — Та в церке ж служиться, —
сказала жинка. — Это ничего, возразил Лука
Семёнович, — для дорогих гостей можно. Молчаливый, гладкий красавец Иван заиграл
«Светит месяц». Карабанов лез под лавку от смеха: — От так попали в гости!.. После угощения разговорились. Лука
Семёнович с великим энтузиазмом поддерживал наши планы в имении Трепке и
готов был прийти на помощь всеми своими хозяйскими силами: — Вы не сидить тут, в лесу. Вы
скорийше туды перебирайтесь, там хозяйского глазу нэма. И берить мельницу,
берить мельницу. Этой самый комбинат — он не умеет этого дела руководить.
Мужики жалуются, дуже жалуются. Надо бывает крупчатки змолоть на пасху, на
пироги ж, так месяц целый ходишь‑ходишь, не добьёшься. Мужик любит
пироги исты, а яки ж пироги, когда нету самого главного — крупчатки? — Для мельницы у нас ещё пороху
мало, — сказал я. — Чего там «мало»? Люди ж помогут…
Вы знаете, как вас тут народ уважает. Прямо все говорят: вот хороший человек. В этот лирический момент в дверях
появился Таранец, и в хате раздался визг перепуганной хозяйки. У Таранца в
руках была половина великолепного самогонного аппарата, самая жизненная его
часть — змеевик. Как‑то мы и не заметили, что Таранец оставил нашу
компанию. — Это на чердаке, — сказал
Таранец, — там и самогонка есть. Ещё тёплая. Лука Семёнович захватил бороду кулаком и
сделался серъёзен — на самое короткое мгновение. Он сразу же оживился,
подошёл к Таранцу и остановился против него с улыбкой. Потом почесал за ухом
и прищурил на меня один глаз: — С этого молодого человека толк
будет. Ну, что ж, раз такое дело, ничего не скажу, ничего… и даже не
обижаюсь. Раз по закону, значить — по закону. Поломаете, значит? Ну что ж…
Иван, ты им помоги… Но Верхолыха не разделила лояльности
своего мудрого супруга. Она вырвала у Таранца змеевик и закричала: — Та хто вам дасть, хто вам дасть
ломать?! Зробите, а тоди — ломайте! Босяки чортови, иды, бо як двыну по
голови… Монолог Верхолыхи оказался бесконечно
длинен. Притихшая до того в переднем углу Лидочка пыталась открыть спокойную
дискуссию о вреде самогона, но Верхолыха обладала замечательными лёгкими. Уже
были разбиты бутылки с самогоном, уже Карабанов железным ломом доканчивал
посреди двора уничтожение аппарата, уже Лука Семёнович приветливо прощался с
нами и просил заходить, уверяя, что он не обижается, уже Задоров пожал руку
Ивана, и уже Иван что‑то захрипел на гармошке, а Верхолыха всё кричала
и плакала, всё находила новые краски для характеристики нашего поведения и
для предсказания нашего печального будущего. В соседних дворах стояли
неподвижные бабы, выли и лаяли собаки, прыгая на протянутых через дворы
проволоках, и вертели головами хозяева, вычищая в конюшнях. Мы выскочили на улицу, и Карабанов
повалился на ближайший плетень. — Ой, не можу, ий‑богу, не
можу! От гости, так гости!.. Так як вона каже? Щоб вам животы попучило вид
тией сметаны? Як у тебя с животом, Волохов? В этот день мы уничтожили шесть
самогонных аппаратов. С нашей стороны потерь не было. Только выходя из
последней хаты, мы наткнулись на председателя сельсовета Сергея Петровича
Гречаного. Председатель был похож на казака Мамая: примасленная чёрная голова
и тонкие усы, закрученные колечками. Несмотря на свою молодость, он был самым
исправным хозяином в округе и считался очень разумным человеком. Председатель
крикнул нам ещё издали: — А ну, постойте! Постояли. — Драствуйте, с праздником… А как же
это так, разрешите полюбопытствовать, на каком мандате основано такое
самовольное врутчение (вмешательство), что разбиваете у людей аппараты,
которые вы права не имеете? Он ещё больше закрутил усы и пытливо
рассматривал наши незаконные физиономии. Я молча протянул ему мандат на
«самовольное врутчение». Он долго вертел его в руках и недовольно возразил
мне: — Это, конечно, разрешение, но
только и люди обижаются. Если так будет делать какая‑то колония, тогда
совецкой власти будет нельзя сказать, чтобы благополучно могло кончиться. Я и
сам борюсь с самогононением. — И у вас же аппарат есть, —
сказал тихо Таранец, разрешив своим всевидящим гляделкам бесцеремонно
исследовать председательское лицо. Председатель свирепо глянул на
оборванного Таранца: — Ты! Твоё дело — сторона. Ты кто
такой? Колоньский? Мы это дело доведём до самого верху, и тогда окажется,
почему председателя власти на местах без всяких препятствий можно оскорблять
разным проступникам. Мы разошлись в разные стороны. Наша экспедиция принесла большую пользу.
На другой день возле кузницы Задоров говорил нашим клиентам: — В следующее воскресенье мы ещё не
так сделаем: вся колония — пятьдесят человек — пойдёт. Селяне кивали бородами и соглашались: — Та оно, конешно, что правильно.
Потому же и хлеб расходуется, и раз запрещено, так оно правильно. Пьянство в колонии прекратилось, но
появилась новая беда — картёжная игра. Мы стали замечать, что в столовой тот
или иной колонист обедает без хлеба, уборка или какая‑нибудь другая из
неприятных работ совершается не тем, кому следует. — Почему сегодня ты убираешь, а не
Иванов? — Он меня попросил. Работа по просьбе становилась бытовым
явлением, и уже сложились определённые группы таких «просителей». Стало
увеличиваться число колонистов, уклоняющихся от пищи, уступающих свои порции
товарищам. В детской колонии не может быть большего
несчастья, чем картёжная игра. Она выводит колониста из общей сферы
потребления и заставляет его добывать дополнительные средства, а единственным
путём для этого является воровство. Я поспешил броситься в атаку на этого
нового врага. Из колонии убежал Овчаренко, весёлый и
энергичный мальчик, уже успевший сжиться с колонией. Мои расспросы, почему
убежал, ни к чему не привели. На второй день я встретил его в городе на
толкучке, но, как его ни уговаривал, он отказался возвратиться в колонию.
Беседовал он со мной в полном смятении. Карточный долг в кругу наших
воспитанников считался долгом чести. Отказ от выплаты этого долга мог
привести не только к избиению и другим способам насилия, но и к общему
презрению. Возвратившись в колонию, я вечером
пристал к ребятам: — Почему убежал Овчаренко? — Откуда ж нам знать? — Вы знаете. Молчание. В ту же ночь, вызвав на помощь Калину
Ивановича, я произвёл общий обыск. Результаты меня поразили: под подушками, в
сундучках, в коробках, в карманах у некоторых колонистов нашлись целые склады
сахару. Самым богатым оказался Бурун: у него в сундуке, который он с моего
разрешения сам сделал в столярной мастерской, нашлось более тридцати фунтов.
Но интереснее всего была находка у Митягина. Под подушкой, в старой
барашковой шапке, у него было спрятано на пятьдесят рублей медных и
серебряных денег. Бурун чистосердечно и с убитым видом признался: — В карты выиграл. — У колонистов? — Угу! Митягин ответил: — Не скажу. Главные склады сахару, каких‑то
чужих вещей, кофточек, платков, сумочек хранились в комнате, в которой жили
три наши девочки: Оля, Раиса и Маруся. Девочки отказались сообщить, кому
принадлежат запасы. Оля и Маруся плакали, Раиса отмалчивалась. Девушек в колонии было три. Все они были
присланы комиссией за воровство в квартирах. Одна из них, Оля Воронова,
вероятно, попалась случайно в неприятную историю — такие случайности часто
бывают у малолетних прислуг. Маруся Левченко и Раиса Соколова были очень
развязны и распущенны, ругались и участвовали в пьянстве ребят и в картёжной
игре, которая главным образом и происходила в их комнате. Маруся отличалась
невыносимо истеричным характером, часто оскорбляла и даже била своих подруг
по колонии, с хлопцами тоже всегда была в ссоре по всяким вздорным поводам,
считала себя «пропащим» человеком и на всякое замечание и совет отзывалась
однообразно: — Чего вы стараетесь? Я — человек
конченый. Раиса была очень толста, неряшлива и
смешлива, но далеко не глупа и сравнительно образованна. Она когда‑то
была в гимназии, и наши воспитательницы уговаривали её готовиться на рабфак.
отец её был сапожником в нашем городе, года два назад его зарезали в пьяной
компании, мать пила и нищенствовала. Раиса утверждала, что это не её мать,
что её в детстве подбросили к Соколовым, но хлопцы уверяли, что Раиса
фантазирует: — Она скоро скажет, что её папаша
принц был. (Далее в «Год 17‑тый», альманах 3, 1933 с.113 следует: «Мать
Раисы как‑то пришла в колонию, узнала, что дочка отказывается от
дочерних чувств, и напала на Раису со всей страстью пьяной бабы. Ребята
насилу выставили её»). Раиса и Маруся держали себя независимо по
отношению к мальчикам и пользовались с их стороны некоторым уважением, как
старые и опытные «блатнячки». Именно поэтому им были доверены важные детали
тёмных операций Митягина и других. С прибытием Митягина блатной элемент в
колонии усилился и количественно и качественно. Митягин был квалифицированный вор,
ловкий, умный, удачливый и смелый. При всем том он казался чрезвычайно
симпатичным. Ему было лет семнадцать, а может быть, и больше. В его лице была неповторимая «особая
примета» — ярко‑белые брови, сложенные из совершенно седых густых
пучков. По его словам, это примета часто мешала успеху его предприятий. Тем
не менее ему и в голову не приходило, что он может заняться каким‑либо
другим делом, кроме воровства. В самый день своего прибытия в колонию он
очень свободно и дружелюбно разговаривал со мной вечером: — О вас хорошо говорят ребята, Антон
Семёнович. — Ну, и что же? — Это славно. Если ребята вас
полюбят, это для них легче. — Значит, и ты меня должен полюбить. — Да нет… я долго в колонии жить не
буду. — Почему? — Да на что? Всё равно буду вором. — От этого можно отвыкнуть. — Можно, да я считаю, что незачем
отвыкать. — Ты просто ломаешься, Митягин. — Ни чуточки не ломаюсь. Красть
интересно и весело. Только это нужно умеючи делать, и потом — красть не у
всякого. Есть много таких гадов, у которых красть сам бог велел. А есть такие
люди — у них нельзя красть. — Это ты верно говоришь, —
сказал я Митягину, — только беда главная не для того, у кого украли, а
для того, кто украл. — Какая же беда? — А такая: привык ты красть, отвык
работать, всё тебе легко, привык пьянствовать, остановился на месте: босяк —
и всё. Потом в тюрьму попадешь, а там ещё куда… — Будто в тюрьме не люди. На воле
много живёт хуже, чем в тюрьме. Этого не угадаешь. — Ты слышал об октябрьской
революции? — Как же не слышал! Я и сам походил
за Красной гвардией. — Ну вот, теперь людям будет житьё
не такое, как в тюрьме. — Это ещё кто его знает, —
задумался Митягин. — Сволочей всё равно до чёрта осталось. Они своё
возьмут, не так, так иначе. Посмотрите, кругом колонии какая публика! Ого! Когда я громил картёжную организацию
колонии, Митягин отказался сообщить, откуда у него шапка с деньгами. — Украл? Он улыбнулся: — Какой вы чудак, Антон Семёнович!..
Да, конечно же, не купил. Дураков ещё много на свете. Эти деньги все дураками
снесены в одно место, да ещё с поклонами отдавали толстопузым мошенникам. Так
чего я буду смотреть? Лучше я себе возьму. Ну, и взял. Вот только в вашей
колонии и спрятать негде. Никогда не думал, что вы будете обыски устраивать… — Ну, хорошо. Деньги эти я беру для
колонии. Сейчас составим акт и заприходуем. Пока не о тебе разговор. Я заговорил с ребятами о кражах: — Игру в карты я решительно
запрещаю. Больше вы играть в карты не будете. Играть в карты — значит,
обкрадывать товарища. — Пусть не играют. — Играют по глупости. У нас в
колонии многие колонисты голодают, не едят сахара, хлеба. Овчаренко из‑за
этих самых карт ушёл из колонии, теперь ходит — плачет, пропадает на
толкучке. — Да, с Овчаренко… это нехорошо
вышло, — сказал Митягин. Я продолжал: — Выходит так, что в колонии
защищать слабого товарища некому. Значит, защита лежит на мне. Я не могу
допускать, чтобы ребята голодали и теряли здоровье только потому, что подошла
какая‑то дурацкая карта. Я этого не допущу. Вот и выбирайте. Мне
противно обыскивать ваши спальни, но когда я увидел в городе Овчаренко, как
он плачет и погибает, так я решил с вами не церемониться. А если хотите,
давайте договоримся, чтобы больше не играть. Можете дать честное слово? Я вот
только боюсь… насчёт чести у вас, кажется, кишка тонка: Бурун давал слово… Бурун вырвался вперёд: — Неправда, Антон Семёнович, стыдно
вам говорить неправду!.. Если вы будете говорить неправду, тогда нам… Я про
карты никакого слова не давал. — Ну, прости, верно, это я виноват,
не догадался сразу с тебя и на карты взять слово, потом ещё на водку… — Я водки не пью. — Ну, добре, конечно. Теперь как же? Вперёд медленно выдвигается Карабанов. Он
неотразимо ярок, грациозен и, как всегда, чуточку позирует. От него несёт
выдержанной в степях воловьей силой, и он как будто её нарочно сдерживает. — Хлопцы, тут дело ясное. Товарищей
обыгрывать нечего. Вы хоть обижайтесь, хоть что, я буду против карт. Так и
знайте: ни в чём не засыплю, а за карты засыплю, а то и сам возьму за вясы,
трохы подержу. Потому что я бачив Овчаренко, когда он уходил — можно сказать,
человека в могилу загоняем: Овчаренко, сами знаете, без воровского хисту
(таланта). Обыграли его Бурун с Раисой. Я считаю: нехай идут и шукают, и
пусть не приходят, пока не найдут. Бурун горячо согласился: — Только на биса мне Раиса? Я и сам
найду. Хлопцы заговорили все сразу. Всем было по
сердцу найденное соглашение. Бурун собственноручно конфисковал все карты и
бросил в ведро. Калина Иванович весело отбирал сахар: — Вот спасибо! Экономию сделали! Из спальни меня проводил Митягин: — Мне уйти из колонии? Я ему грустно ответил: — Нет, чего ж, поживи ещё. — Всё равно красть буду. — Ну и чёрт с тобой, кради. Не мне
пропадать, а тебе. Он испуганно отстал. На другое утро Бурун отправился в город
искать Овчаренко. Хлопцы тащили за ним Раису. Карабанов ржал на всю колонию и
хлопал Буруна по плечам: — Эх, есть ещё лыцари на Украине! Задоров выглядывал из кузницы и скалил
зубы. Он обратился ко мне, как всегда, по‑приятельски: — Сволочной народ, а жить с ними
можно. — А ты кто? — спросил его
свирепо Карабанов. — Бывший потомственный скокарь, а
теперь кузнец трудовой колонии имени Максима Горького, Александра
Задоров, — вытянулся он. — Вольно! — грассируя, сказал
Карабанов и гоголем прошёлся мимо кузницы. К вечеру Бурун привёл Овчаренко, счастливого
и голодного. |
|
||||
|
|
10. «Подвижники соцвоса»
Таковых, считая в том числе и меня, было
пятеро. Называли нас в то время «подвижниками соцвоса». (Использовано
выражение Григория Фёдоровича Гринько, 1890‑1938, народного комиссара
просвещения УССР в 1919‑22. В июле 1922 Макаренко писал: «В бытность в
Полтаве Наркомпроса т. Гринько я в присутствии коллегии губнаробраза
докладывал о состоянии ремонта. Тогда т. Гринько сказал, что колония будет
иметь всеукраинское значение» (ЦГАОР УССР, ф.166, оп.2, д.1687, л.3). Сами мы
не только так никогда себя не называли, но никогда и не думали, что мы
совершаем подвиг. Не думали так в начале существования колонии, не думали и
тогда, когда колония праздновала свою восьмую годовщину). Говоря о подвижничестве, имели в виду не
только работников колонии имени Горького, поэтому в глубине души мы считали
эти слова крылатой фразой, необходимой для поддержания духа работников
детских домов и колоний. В то время много было подвига в советской
жизни, в революционной борьбе, а наша работа слишком была скромна и в своих
выражениях и в своей удаче. Люди мы были самые обычные, и у нас
находилось пропасть разнообразных недостатков. И дела своего мы, собственно
говоря, не знали: наш рабочий день полон был ошибок, неуверенных движений, путанной
мысли. А впереди стоял бесконечный туман, в котором с большим трудом мы
различали обрывки контуров будущей педагогической жизни. О каждом нашем шаге можно было сказать
что угодно, настолько наши шаги были случайны. Ничего не было бесспорного в
нашей работе. А когда мы начинали спорить, получалось ещё хуже: в наших
спорах почему‑то не рождалась истина. Были у нас только две вещи, которые не
вызывали сомнений: наша твёрдая решимость не бросать дела, довести его до
какого‑то конца, пусть даже и печального. И было ещё вот это самое
«бытие» — у нас в колонии и вокруг нас. Когда в колонию приехали Осиповы, они
очень брезгливо отнеслись к колонистам. По нашим правилам, воспитатель обязан
был обедать вместе с колонистами. И Иван Иванович и его жена решительно мне
заявили, что они обедать с колонистами за одним столом не будут, потому что
не могут пересилить своей брезгливости. Я им сказал: — Там будет видно. В спальне во время вечернего дежурства
Иван Иванович никогда не садился на кровать воспитанника, а ничего другого
здесь не было. Так он и проводил своё вечернее дежурство на ногах. Иван
Иванович и его жена говорили мне: — Как вы можете сидеть на этой
постели! Она же вшивая. Я им говорил: — Это ничего, как‑нибудь
образуется: вши выведутся или ещё как‑нибудь… Через три месяца Иван Иванович не только
уплетал за одним столом с колонистами, но даже потерял привычку приносить с
собой собственную ложку, а брал обыкновенную деревянную из общей кучи на
столе и проводил по ней для успокоения пальцами. А вечером в спальне в задорном кружке
хлопцев Иван Иванович сидел на кровати и играл в «вора и доносчика». Игра
состояла в том, что всем играющим раздавались билетики с надписями «вор»,
«доносчик», «следователь», «судья», «кат» и так далее. Доносчик объявлял о
выпавшем на его долю счастье, брал в руки жгут и старался угадать, кто вор.
Все протягивали к нему руки, и из них нужно было ударом жгута отметить
воровскую руку. Обычно он попадал на судью или следователя, и эти обиженные
его подозрением честные граждане колотили доносчика по вытянутой руке
согласно установленному тарифу за оскорбление. Если за следующим разом
доносчик всё-таки угадывал вора, его страдания прекращались, и начинались
страдания вора. Судья приговаривал: пять горячих, десять горячих, пять
холодных. Кат брал в руки жгут, и совершалась казнь. Так как роли играющих всё время менялись
и вор в следующем туре превращался в судью или ката, то вся игра имела
главную прелесть в чередовании страдания и мести. Свирепый судья или
безжалостный кат, делаясь доносчиком или вором, получал сторицею и от
действующего судьи, и от действующего ката, которые теперь вспоминали ему все
приговоры и все казни. Екатерина Григорьевна и Лидия Петровна
тоже играли в эту игру с хлопцами, но хлопцы относились к ним по‑рыцарски:
назначали в случае воровства три‑четыре холодных, кат делал во время
казни самые нежные рожи и только поглаживал жгутом нежную женскую ладонь. Играя со мной, ребята в особенности
интересовались моей выдержкой, поэтому мне ничего другого не оставалось, как
бравировать. В качестве судьи я назначал ворам такие нормы, что даже каты
приходили в ужас, а когда мне приходилось приводить в исполнение приговоры, я
заставлял жертву терять чувство собственного достоинства и кричать: — Антон Семёнович, нельзя же так! Но зато и мне доставалось: я всегда
уходил домой с опухшей левой рукой; менять руки считалось неприличным, а
правая рука нужна была мне для писания. Иван Иванович малодушно демонстрировал
женскую линию тактики, и ребята к нему относились сначала деликатно. Я сказал
как‑то Ивану Ивановичу, что такая политика неверна: наши хлопцы должны
расти выносливыми и смелыми. Они не должны бояться опасностей, тем более
физического страдания. Иван Иванович со мной не согласился. Когда в один из
вечеров я оказался в одном круге с ним, я в роли судьи приговорил его к
двенадцати горячим, а в следующем туре, будучи катом, безжалостно дробил его
руку свистящим жгутом. Он обозлился и отомстил мне. Кто‑то из моих
«корешков» не мог оставить такое поведение Ивана Ивановича без возмездия и
довёл его до перемены руки. Иван Иванович в следующий вечер пытался
увильнуть от участия в «этой варварской игре», но общая ирония колонистов
пристыдила его, и в дальнейшем Иван Иванович с честью выдерживал испытание,
не подлизывался, когда бывал судьей, и не падал духом в роли доносчика или
вора. Часто Осиповы жаловались, что много вшей
приносят домой. Я сказал им: — Со вшами нужно бороться не дома, а
в спальнях… Мы и боролись. С большими усилиями мы
добились двух смен белья, двух костюмов. Костюмы эти составляли «латку на
латке», как говорят украинцы, но всё же они выпаривались, и насекомых
оставалось в них минимальное количество. Вывести их совершенно нам удалось не
так скоро благодаря постоянному прибытию новеньких, общению с селянами и
другим причинам. Официальным образом работа воспитателей
делилась на главное дежурство, рабочее дежурство и вечернее дежурство. Кроме
того, по утрам воспитатели занимались в школе. Главное дежурство представляло собой
каторгу от пяти часов утра до звонка «спать». Главный дежурный руководил всем
днём, контролировал выдачу пищи, следил за выполнением работы, разбирал
всякие конфликты, мирил драчунов, уговаривал протестантов, выписывал продукты
и проверял кладовую Калины Ивановича, следил за сменой белья и одежды. Работы
главному дежурному было так много, что уже в начале второго года в помощь
воспитателю стали дежурить старшие колонисты, надевая красные повязки на
левый рукав. Рабочий дежурный воспитатель просто
принимал участие в какой‑нибудь работе, обыкновенно там, где работало
более всего колонистов или где было больше новеньких. Участие воспитателя
было участием реальным, иначе в наших условиях было бы невозможно.
Воспитатели работали в мастерских, на заготовках дров, в поле и в огороде, по
ремонту. Вечернее дежурство оказалось скоро
простой формальностью: вечером в спальнях собирались все воспитатели — и
дежурные, и не дежурные. Это не было тоже подвигом: нам некуда было пойти,
кроме спален колонистов. В наших пустых квартирах было и неуютно и немного
страшно по вечерам при свете наших ночников, а в спальнях после вечернего чая
нас с нетерпением ожидали знакомые остроглазые весёлые рожи колонистов с
огромными запасами всяких рассказов, небылиц и былей, всяких вопросов,
злободневных, философских, политических и литературных, с разными играми,
начиная от «кота и мышки» и кончая «вором и доносчиком». Тут же разбирались и
разные случаи нашей жизни, подобные вышеописанным, перемывались косточки
соседей‑хуторян, проектировались детали ремонта и будущей нашей
счастливой жизни во второй колонии. Иногда Митягин рассказывал сказки. Он был
удивительный мастер на сказки, рассказывал их умеючи, с элементами
театральной игры и богатой мимикой. Митягин любил малышей, и его сказки
доставляли им особенное наслаждение. В его сказках почти не было чудесного:
фигурировали глупые мужики и умные мужики, растяпы‑дворяне и хитроумные
мастеровые, удачливые, смелые воры и одураченные полицейские, храбрые,
победительные солдаты и тяжёлые, глуповатые попы. Вечерами в спальнях мы часто устраивали
общие чтения. У нас с первого дня образовалась библиотека, для которой книги
я покупал и выпрашивал в частных домах. К концу зимы у нас были почти все
классики и много специальной политической и сельскохозяйственной литературы.
Удалось собрать в запущенных складах губнаробраза много популярных книжек по
разным отраслям знания. Читать книги любили многие колонисты, но далеко не
все умели осиливать книжку. Поэтому мы и вели общие чтения вслух, в которых
обыкновенно участвовали все. Читали либо я, либо Задоров, обладавший
прекрасной дикцией. В течение первой зимы мы прочитали многое из Пушкина,
Короленко, Мамина‑Сибиряка, Вересаева и в особенности Горького. Горьковские вещи в нашей среде
производили сильное, но двойственное впечатление. Карабанов, Волохов и другие
восприимчивее были к горьковскому романтизму и совершенно не хотели замечать
горьковского анализа. Они с горящими глазами слушали «Макара Чудру», ахали и
размахивали кулаками перед образом Игната Гордеева и скучали над трагедией
«Деда Архипа и Леньки». Карабанову в особенности понравилась сцена, когда
старый Гордеев смотрит на уничтожение ледоходом «Боярыни». Семён напрягал все
мускулы лица и голосом трагика восхищался: — Вот это человек! Вот если бы такие
все люди были! С таким же восторгом он слушал историю
гибели Ильи и в повести «Трое». — Вот молодец, так молодец! Вот это
смерть: головою об камень… Митягин, Задоров, Бурун снисходительно
посмеивались над восторгом наших романтиков и задирали их за живое: — Слушаете, олухи, а ничего не
слышите. — Я не слышу? — А то слышишь? Ну, чего такого
хорошего — головою об камень? Илья этот самый — дурак и слякоть… Какая‑то
там баба скривилась на него, так он слезу и пустил. Я на его месте ещё б
одного купца задавил, их всех давить нужно, и твоего Гордеева тоже. Обе стороны сходились только в оценке
Луки «На дне». Карабанов вертел башкой: — Нет, такие старикашки — вредные.
Зудит‑зудит, а потом взял и смылся, и нет его. Я таких тоже знаю. — Лука этот умный, стерва, —
говорит Митягин. — Ему хорошо, он всё понимает, так он везде своё
возьмёт: там схитрит, там украдёт, а там прикинется добрым. Так и живёт. Сильно поразили всех «Детство» и «В
людях». Их слушали, затаив дыхание, и просили читать «хоть до двенадцати».
Сначала не верили мне, когда я рассказал действительную историю жизни Максима
Горького, были ошеломлены этой историей и внезапно увлеклись вопросом: — Значит, выходит, Горький вроде
нас? Вот, понимаешь, здорово! Этот вопрос их волновал глубоко и
радостно. Жизнь Максима Горького стала как будто
частью нашей жизни. Отдельные её эпизоды сделались у нас образцами для
сравнений, основаниями для прозвищ, транспарантами для споров, масштабами для
измерения человеческой ценности. Когда в трёх километрах от нас поселилась
детская колония имени В.Г. Короленко, наши ребята недолго им завидовали.
Задоров сказал: — Маленьким этим как раз и хорошо
называться Короленками. А мы — Горькие. И Калина Иванович был того же мнения. — Я Короленко этого видав и даже
говорив с ним: вполне приличный человек. А вы, конешно, и теорехтически босяки
и прахтически. Мы стали называться колонией имени
Горького без всякого официального постановления и утверждения. Постепенно в
городе привыкли к тому, что мы так себя называем, и не стали протестовать
против наших новых печатей и штемпелей с именем писателя. К сожалению,
списаться с Алексеем Максимовичем мы не смогли так скоро, потому что никто в
нашем городе не знал его адреса. Только в 1925 году в одном иллюстрированном
еженедельнике мы прочитали статью о жизни Горького в Италии; в статье была
приведена итальянская транскрипция его имени: Massimo Gorky. Тогда наудачу мы
послали первое письмо с идеально лаконическим адресом: Italia. Massimo
Gorkiy. Горьковскими рассказами и горьковской
биографией увлекались и старшие и малыши, несмотря на то что малыши почти все
были неграмотны. Малышей, в возрасте от десяти лет, у нас
было человек двенадцать. Всё это был народ живой, пронырливый, вороватый на
мелочи и вечно донельзя измазанный. Приходили в колонию они всегда в очень
печальном состоянии: худосочные, золотушные, чесоточные. С ними без конца
возилась Екатерина Григорьевна, добровольная наша фельдшерица и сестра
милосердия. Они всегда липли к ней, несмотря на её серьёзность. Она умела их
журить по‑матерински, знала все их слабости, никому не верила на слово
(я никогда не был свободен от этого недостатка), не пропускала ни одного
преступления и открыто возмущалась всяким безобразием. Но зато она замечательно умела самыми
простыми словами, с самым человеческим чувством поговорить с пацаном о жизни,
о его матери, о том, что из него выйдет — моряк, красный командир, или
инженер; умела понимать всю глубину той страшной обиды, какую проклятая,
глупая жизнь нанесла пацанам. Кроме того, она умела их и подкармливать:
втихомолку, разрушая все правила и законы продовольственной части, легко
преодолевая одним ласковым словом свирепый педантизм Калины Ивановича. Старшие колонисты видели эту связь между
Екатериной Григорьевной и пацанами, не мешали ей и благодушно,
покровительственно всегда соглашались исполнить небольшую просьбу Екатерины
Григорьевны: посмотреть, чтобы пацан искупался как следует, чтобы намылился
как нужно, чтобы не курил, не рвал одежды, не дрался с Петькой и так далее. В значительной мере благодаря Екатерине
Григорьевне в нашей колонии старшие ребята всегда любили пацанов, всегда
относились к ним, как старшие братья: любовно, строго и заботливо. |
|
||||
|
|
11. Триумфальная сеялка
Все больше и больше становилось ясным,
что в первой колонии хозяйничать трудно. Всё больше и больше наши взоры
обращались ко второй колонии, туда, на берега Коломака, где так буйно весной
расцвели сады и земля лоснилась матёрым черноземом. Но ремонт второй колонии подвигался
необычайно медленно. Плотники, нанятые за гроши, способны были строить
деревенские хаты, но становились в тупик перед каким‑нибудь сложным
перекрытием. Стёкла мы не могли достать ни за какие деньги, да и денег у нас
не было. Два‑три крупных дома были всё-таки приведены в приличный вид
уже к концу лета, но в них нельзя было жить потому, что они стояли без
стёкол. Несколько маленьких флигелей мы отремонтировали до конца, но там
поселились плотники, каменщики, печники, сторожа. Ребят переселять смысла не
было, так как без мастерских и хозяйства им делать было нечего. Колонисты бывали во второй колонии
ежедневно, значительную часть работы исполняли они. Летом десяток ребят жили
в шалашах, работая в саду. Они присылали в первую колонию целые возы яблок и
груш. Благодаря им трепкинский сад принял если не вполне культурный, то во
всяком случае приличный вид. Жители села Гончаровки было очень
расстроены появлением среди трепкинских руин новых хозяев, да ещё столь мало
почтенных, оборванных и ненадёжных. Наш ордер на шестьдесят десятин
неожиданно для меня оказался ордером почти дутым: вся земля Трепке, в том
числе и наш участок, была уже с семнадцатого года распахана крестьянами. В
городе на наше недоумение улыбнулись: — Если ордер у вас, то и земля,
значит, ваша: выезжайте и работайте. Но Сергей Петрович Гречаный, председатель
сельсовета, был другого мнения: — Вы понимаете, что значит, когда
трудящийся крестьянин получил землю по всем правильностям закона. Так он,
значит, и буде пахать. А если кто пишет ордера и разные бумажки, то
безусловно он против трудящихся нож в спину. И вы лучше не лезьте с этим
ордером. Пешеходные дорожки во вторую колонию вели
к реке Коломак, которую нужно было переплывать. Мы устроили на Коломаке свой
перевоз и держали всегда дежурного лодочника, колониста. С грузом же и вообще
на лошадях во вторую колонию можно было проехать только кружным путём, через гончаровский
мост. В Гончаровке нас встречали достаточно враждебно. Парубки при виде
нашего небогатого выезда насмехались: — Эй вы, ободранцы! Вы нам вшей на
мосту не трусите! Даром сюда лазите: всё одно выженем з Трепке. Мы осели в Гончаровке не милыми соседями,
а непрошеными завоевателями. И если бы в этой военной позиции мы не выдержали
тона, показали бы себя неспособными к борьбе, мы обязательно потеряли бы и
землю, и колонию. Крестьяне понимали, что спор будет решён не в канцеляриях,
а здесь, на полях. Они уже три года пахали трепкинскую землю, у них уже была
какая‑то давность, на которую они и опирались в своих протестах. Им во
что бы то ни стало нужно было продлить эту давность, в этой политике
заключалась вся их надежда на успех. Точно так же для нас единственным выходом
было как можно скорее приступить к фактическому хозяйству на земле. Летом приехали землемеры намечать наши
межи, но выйти в поле с инструментами побоялись, а показали нам на карте, по
каким канавам, ярам и зарослям мы должны отсчитать нашу землю. С землемерским
актом поехал я в Гончаровку, взяв с собой старших хлопцев. Председатель совета был теперь наш старый
знакомый Лука Семёнович Верхола. Он нас встретил очень любезно и предложил
садиться, но на землемерский акт даже не посмотрел. — Дорогие товарищи, ничего не могу
сделать. Мужички давно пашут, не могу обидеть мужичков. Просите в другом
поле. Когда на наши поля крестьяне выехали
пахать, я вывесил объявление, что за вспашку нашей земли колония платить не
будет. Я сам не верил в значение принимаемых
мер, не верил потому, что меня замораживало сознание: землю нужно отнимать у
крестьян, у трудящихся крестьян, которым эта земля нужна, как воздух. Но в один из ближайших вечеров в спальне
Задоров подвёл ко мне постороннего селянского юношу. Задоров был чем‑то
сильно возбужден. — Вот вы послушайте его, вы только
послушайте! Карабанов в тон ему выделывал какие‑то
гопаковские па и орал на всю спальню: — О! Дайте мне сюда Верхолу! Колонисты обступили нас. Юноша оказался комсомольцем с Гончаровки. — Много комсомольцев на Гончаровке? — Нас только три человека. — Только три? — Вы знаете, нам очень
трудно, — сказал он. — Село кулацкое, хутора, знаете, верх ведут.
Ребята послали к вам — перебирайтесь скорийше, куда дело пойдёт, ого! У вас
же хлопци — боевые хлопци. Як бы нам таких! — Да вот с землёй беда. — Ось же я про землю и пришёл.
Берите силою. Не смотрите на этого рыжего чёрта — Луку. Вы знаете, у кого та
земля, что вам назначена? — Ну? — Кажи, кажи, Спиридон! Спиридон начал загибать пальцы: — Гречаный Андрий Карпович… — Дед Андрий? Так он же здесь имеет
поле. — Як бачите… Гречаный Петро,
Оноприй, Стомуха,, той, шо биля церкви… ага, Серёга… Стомуха Явтух та сам
Лука Семёнович. От и всё. Шесть человек. — Да что вы говорите! Как же это
случилось? А комнезам ваш где? — Комнезам у нас маленький. А
случилось так: земля ж та осталась при усадьбе, собирались же там что‑то
делать. А сельсовет свой, поразбирали. Тай годи! — Ну, теперь дело пойдёт
веселей! — закричал Карабанов. — Держись, Лука! В начале сентября я возвращался из
города. Было часа два дня. Трёхэтажный наш шарабан не спеша подвигался
вперёд, сонно журчал рассказ Антона о характере Рыжего. Я и слушал его, и
думал о разных колонистских вопросах. Вдруг Братченко замолчал, пристально
глянул вдаль по дороге, приподнялся, хлестнул по лошади, и мы со страшным
грохотом понеслись по мостовой. Антон колотил Рыжего, чего с ним никогда не
было, и что‑то кричал мне. Я, наконец, разобрал, в чём дело. — Наши… с сеялкой! У поворота в колонию мы чуть не столкнулись
с летящей карьером, издающей странный жестяной звук сеялкой. Пара гнедых
лошадок в беспамятстве перла вперёд, напуганная треском непривычной для них
колесницы. Сеялка с грохотом скатилась с каменной мостовой, зашуршала по
песку и вновь загремела уже по нашей дороге в колонию. Антон нырнул с
шарабана на землю и погнался за сеялкой, бросив вожжи мне на руки. На сеялке,
на концах натянутых вожжей, каким‑то чудом держались Карабанов и
Приходько. Насилу Антон остановил странный экипаж. Карабанов, захлёбываясь от
волнения и утомления, рассказал нам о совершившихся событиях: — Мы кирпичи складывали на дворе.
Смотрим, выехали, важно так, сеялка и человек пять народу. Мы до них:
забирайтесь, говорим. А нас четверо: был ещё Чобот и… кто ж? — Сорока, — сказал Приходько. — Ага, и Сорока. Забирайтесь,
говорю, всё равно сеять не будете. А там чёрный такой, мабудь цыган… та вы
его знаете… бац кнутом Чобота! Ну, Чобот ему в зубы. Тут, смотрим, Бурун
летит с палкой. Я хватил коня за уздечку, а председатель меня за грудки… — Какой председатель? — Да какой же? Наш — рыжий Лука
Семёнович. Ну, Приходько его как брыкнет сзади, он и покатился в рылю носом.
Я кажу Приходьку: сидай сам на сеялку — и пайшли, и пайшли! В Гончаровку
вскочили, там парубки по дороге, так куды?.. Я по коням, так галопом и
вынесли на мост, а тут уже на мостовую выехали… Там осталось наших трое,
мабудь их здорово помолотили. Карабанов весь трепетал от победного
восторга. Приходько невозмутимо скручивал цыгарку и улыбался. Я представил
себе дальнейшие главы этой занимательной повести: комиссии, допросы, выезды… — Чёрт бы вас побрал, опять наварили
каши! Карабанов был несказанно обескуражен моим
недовольным видом: — Так они же первые… — Ну, хорошо, поезжайте в колонию,
там разберём. В колонии нас встретил Бурун. На его лбу
торчал огромный синяк, и ребята хохотали вокруг него. Возле бочки с водой
умывались Чобот и Сорока. Карабанов схватил Буруна за плечи: — Що, втик? От молодец! — Они за сеялкой бросились, а потом
увидели, что ихнее не варит, так за нами. Ой, и бежали ж! — А они где? — Мы в лодке переплыли, так они на
берегу ругались. Мы их там и бросили. — Ребята остались в колонии? —
спросил я. — Там пацаны: Тоська и ещё двое. Тех
не тронут. Через час в колонию пришли Лука Семёнович
и двое селян. Хлопцы встретили их приветливо: — Что, за сеялкой? В кабинете нельзя было повернуться от
толпы заинтересованных граждан. Положение было затруднительным. Лука Семёнович уселся за стол и начал: — Позовите тех хлопцев, которые вот
избили меня и ещё двух человек. — Вот что, Лука Семёнович, —
сказал я ему. — Если вас избили, жалуйтесь куда хотите. Сейчас я никого
звать не буду. Скажите, что вам ещё нужно и чего вы пришли в колонию. — Вы, значит, отказываетесь позвать? — Отказываюсь. — Ага! Значит, отказываетесь?
Значит, будем разговаривать в другом месте. — Хорошо. — Кто отдаст сеялку? — Кому? — А вот хозяину. Он показал на человека с цыганским лицом,
чёрного, кудлатого и сумрачного. — Это ваша сеялка? — Моя. — Так вот что: сеялку я отправлю в
район милиции как захваченную во время самовольного выезда на чужое поле, а
вас прошу назвать свою фамилию. — Моя фамилия: Гречаный Оноприй. На
какое чужое поле? Моё поле. И было мое… — Ну, об этом не здесь разговор.
Сейчас мы составим акт о самовольном выезде и об избиении воспитанников,
работавших на поле. Бурун выступил вперёд: — Этот тот самый, что меня чуть не
убил. — Та кому ты нужен? Убивать тебя!
Хай ты сказився! Беседа в таком стиле затянулась надолго.
Я уже успел забыть, что пора обедать и ужинать, уже в колонии прозвонили спать,
а мы сидели с селянами и то мирно, то возбуждённо‑угрожающе, то
хитроумно‑иронически беседовали. Я держался крепко, сеялки не отдавал и
требовал составления акта. К счастью, у селян не было никаких следов драки,
колонисты же козыряли синяками и царапинами. Решил дело Задоров. Он хлопнул
ладонью по столу и произнёс такую речь: — Вы бросьте, дядьки! Земля наша, и
с нами вы лучше не связывайтесь. На поле мы вас не пустим. Нас пятьдесят
человек, и хлопцы боевые. Лука Семёнович долго думал, наконец
погладил свою бороду и крякнул: — Да… Ну, чёрт с вами! Заплатите
хоть за вспашку. — Нет, — сказал я
холодно. — Я предупреждал. Ещё молчание. — Ну что ж, давайте сеялку. — Подпишите акт землемеров. — Та… давайте акт. Осенью мы всё-таки сеяли жито во второй
колонии. Агрономами были все. Калина Иванович мало понимал в сельском
хозяйстве, остальные понимали ещё меньше, но работать за плугом и за сеялкой
была у всех охота, кроме Братченко. Братченко страдал и ревновал, проклинал и
землю, и жито, и наши увлечения: — Мало им хлеба, жита захотели! Восемь десятин в октябре зеленели яркими
всходами. Калина Иванович с гордостью тыкал палкой с резиновым напёрстком на
конце куда‑то в восточную часть неба и говорил: — Надо, знаешь, там чачавыцю
посеять. Хорошая вещь — чачавыця. Рыжий с Бандиткой трудились над яровым
клином, а Задоров по вечерам возвращался усталый и пыльный. — Ну его к бесу, трудная эта
граковская работа. Пойду опять в кузницу. Снег захватил нас на половине работы. Для
первого раза это было сносно. |
|
||||
|
|
12. Братченко и райпродкомиссар
Развитие нашего хозяйства шло путём чудес
и страданий. Чудом удалось Калине Ивановичу выпросить при каком‑то
расформировании старую корову, которая, по словам Калины Ивановича, была
«яловая от природы»; чудом достали в далёком от нас ультрахозяйственном
учреждении не менее старую вороную кобылу, брюхатую, припадочную и ленивую;
чудом появились в наших сараях возы, арбы и даже фаэтон. Фаэтон был для
парной запряжки, очень красивый по тогдашним нашим вкусам и удобный, но
никакое чудо не могло помочь нам организовать для этого фаэтона
соответствующую пару лошадей. Нашему старшему конюху, Антону Братченко,
занявшему этот пост после ухода Гуда в сапожную мастерскую, человеку очень
энергичному и самолюбивому, много пришлось пережить неприятных минут,
восседая на козлах замечательного экипажа, но в запряжке имея высокого
худощавого Рыжего и приземистую кривоногую Бандитку, как совершенно
незаслуженно окрестил Антон вороную кобылу. Бандитка на каждом шагу
спотыкалась, иногда падала на землю, и в таких случаях нашему богатому выезду
приходилось заниматься восстановлением нарушенного благополучия посреди
города, под насмешливые реплики извозчиков и беспризорных. Антон часто не
выдерживал насмешек и вступал в жестокую битву с непрошеными зрителями, чем
ещё более дискредитировал конюшенную часть колонии имени Горького. Антон Братченко ко всякой борьбе был
страшно охоч, умел переругиваться с любым противником, и для этого дела у
него был изрядный запас словечек, оскорбительных полутонов и талантов физиономических. Антон не был беспризорным. Отец его
служил в городе пекарем, была у него и мать, и он был единственным сыном у
этих почтенных родителей. Но с малых лет Антон возымел отвращение к пенатам,
дома бывал только ночью и свёл крупное знакомство с беспризорными и ворами в
городе. Он отличился в нескольких смелых и занятных приключениях, несколько
раз попадал в допр и наконец очутился в колонии. Ему было всего пятнадцать
лет, был он хорош собой, кучеряв, голубоглаз, строен. Антон был невероятно общителен
и ни одной минуты не мог пробыть в одиночестве. Где‑то он выучился
грамоте и знал напролёт всю приключенческую литературу, но учиться ни за что
не хотел, и я принуждён был силой усадить его за учебный стол. На первых
порах он часто уходил из колонии, но через два‑три дня возвращался и
при этом не чувствовал за собой никакой вины. Стремление к бродяжничеству он
и сам старался побороть и меня просил: — Вы со мною построже, пожалуйста,
Антон Семёнович, а то я обязательно босяком буду. В колонии он никогда ничего не крал,
любил отстаивать правду, но совершенно не способен был понять логику
дисциплины, которую он принимал лишь постольку, поскольку был согласен с тем
или иным положением в каждом отдельном случае. Никакой обязанности в порядках
колонии он не признавал и не скрывал этого. Меня он немного боялся, но и мои
выговоры никогда не выслушивал до конца, прерывал меня страстной речью,
непременно обвиняя своих многочисленных противников в различных неправильных
действиях, в подлизывании ко мне, в бесхозяйственности, грозил кнутом
отсутствующим врагам, хлопал дверью и, негодующий, уходил из моего кабинета.
С воспитателями был невыносимо груб, но в его грубости всегда было что‑то
симпатичное, так что наши воспитатели и не оскорблялись. В его тоне не было
ничего хулиганского, даже просто неприязненного, настолько в нём всегда
преобладала человечески страстная нотка, — он никогда не ссорился из‑за
эгоистических побуждений. Поведение Антона в колонии скоро стало
определяться его влюблённостью в лошадей и в дело конюха. Трудно было понять
происхождение этой страсти. По своему развитию Антон стоял гораздо выше
многих колонистов, говорил правильным городским языком, только для фасона
вставлял украинизмы. Он старался быть подтянутым в одежде, много читал и
любил поговорить о книжке. И всё это не мешало ему день и ночь толочься в
конюшне, вычищать навоз, вечно запрягать и распрягать, чистить шлею или
уздечку, плести кнут, ездить в любую погоду в город или во вторую колонию — и
всегда жить впроголодь, потому что он никогда не поспевал ни на обед, ни на
ужин, и если ему забывали оставить его порцию, он даже и не вспоминал о ней. Свою деятельность конюха он всегда
перемежал с непрекращающимися ссорами с Калиной Ивановичем, кузнецами,
кладовщиками и обязательно с каждым претендентом на поездку. Приказ запрягать
и куда‑нибудь ехать он исполнял только после длинной перебранки,
наполненной обвинениями в безжалостном отношении к лошадям, воспоминаниями о
том, когда Рыжему или Малышу натёрли шею, требованиями фуража и подковного железа.
Иногда из колонии нельзя было выехать просто потому, что не находилось ни
Антона, ни лошадей и никаких следов их пребывания. После долгих поисков, в
которых участвовало полколонии, они оказывались или в Трепке, или на соседнем
лугу. Антона всегда окружал штаб из двух‑трёх
хлопцев, которые были влюблены в Антона в такой же мере, в какой он был
влюблён в лошадей. Братченко содержал их в очень строгой дисциплине, и
поэтому в конюшне всегда царил образцовый порядок: всегда было убрано, упряжь
развешана в порядке, возы стояли правильными шеренгами, над головами лошадей
висели дохлые сороки, лошади вычищены, гривы заплетены и хвосты подвязаны. В июне, поздно вечером, прибежали ко мне
из спальни: — Козырь заболел, совсем умирает… — Как это — «умирает»? — Умирает: горячий и не дышит. Екатерина Григорьевна подтвердила, что у
Козыря сердечный припадок, необходимо сейчас же найти врача. Я послал за
Антоном. Он пришёл, заранее настроенный против любого моего распоряжения. — Антон, немедленно запрягай, нужно
скорее в город… Антон не дал мне кончить. — И никуда я не поеду, и лошадей
никуда не дам! Целый день гоняли лошадей, — посмотрите, ещё и доси не
остыли… Не поеду! — За доктором, ты понимаешь? — Наплевать мне на ваших больных!
Рыжий тоже болен, так к нему докторов не возят. Я взбеленился: — Немедленно сдай конюшню Опришко! С
тобой невозможно работать!.. — Ну и сдам, что ж такого!
Посмотрим, как вы с Опришко наездите. Вам кто ни наговорит, так вы верите:
болен, умирает. А на лошадей никакого внимания, — пусть, значит, дохнут…
Ну и пускай дохнут, а я лошадей всё равно не дам. — Ты слышал? Ты уже не старший
конюх, сдай конюшню Опришко. Немедленно! — Ну и сдам… Пусть кто хочет сдаёт,
а я в колонии жить не хочу. — Не хочешь — и не надо, никто не
держит! Антон со слезами в глазах полез в
глубокий карман, вытащил связку ключей, положил на стол. В комнату вошёл
Опришко, правая рука Антона и с удивлением уставился на плачущего начальника.
Братченко с презрением посмотрел на него, хотел что‑то сказать, но
молча вытер рукавом нос и вышел. Из колонии он ушёл в тот же вечер, не
зайдя даже в спальню. Когда ехали в город за доктором, видели его шагающим по
шоссе; он даже не попросился, чтобы его подвезли, а на приглашение отмахнулся
рукой. Через два дня вечером ко мне в комнату ввалился
плачущий, с окровавленным лицом Опришко. Не успел я расспросить, в чём дело,
прибежала вконец расстроенная Лидия Петровна, дежурная по колонии. — Антон Семёнович, идите в конюшню:
там Братченко, просто не понимаю, такое выделывает… По дороге в конюшню мы встретили второго
конюха, огромного Федоренко, ревущего на весь лес. — Чего так? — Да як же… хиба ж можно так? Взяв
нарытники и як размахнется прямо по морди… — Кто? Братченко? — Та Братченко ж… В конюшне я застал Антона и ещё одного из
конюхов за горячей работой. Он неприветливо со мной поздоровался, но, увидев
за моей спиной Опришко, забыл обо мне и накинулся на него: — Ты лучше сюда и не заходи, всё
равно буду бить чересседельником! Ишь, охотник нашёлся кататься! Посмотрите,
что он с Рыжим наделал! Антон схватил одной рукой фонарь, а
другой потащил меня к Рыжему. У коня действительно была отчаянно стерта
холка, но на ране уже лежала белая тряпочка, и Антон любовно её поднял и
снова положил на место. — Ксероформом присыпал, —
сказал он серьёзно. — Всё‑таки какое же ты имел
право самовольно прийти в конюшню, устраивать здесь расправы, драться? — Вы думаете, это ему всё? Пусть
лучше не попадается мне на глаза: всё равно бить буду! В воротах конюшни стояла толпа колонистов
и хохотала. Сердиться на Антона у меня не нашлось силы: уж слишком он сам был
уверен в своей и лошадиной правоте. — Слушай, Антон, за то, что ты побил
хлопцев, отсидишь сегодня вечер под арестом в моей комнате. — Да когда же мне? — Довольно болтать! — закричал
я на него. — Ну, ладно, ещё и сидеть там где‑то… Вечером он, сердитый, сидел у меня и
читал книжку. Зимой 1922 года для меня и Антона настали
тяжёлые дни. Овсяное поле, засеянное Калиной Ивановичем на сыпучем песке без
удобрения, почти не дало ни зерна, ни соломы. Луга у нас ещё не было. К
январю мы оказались без фуража. Кое‑как перебивались, выпрашивали то в
городе, то у соседей, но и давать нам скоро перестали. Сколько мы с Калиной
Ивановичем ни обивали порогов в продовольственных канцеляриях, всё было
напрасно. Наконец наступила катастрофа. Братченко
со слезами повествовал мне, что лошади второй день без корма. Я молчал. Антон
с плачем и ругательствами чистил конюшню, но другой работы у него уже и не
было. Лошади лежали на полу, и на это обстоятельство Антон особенно напирал. На другой день Калина Иванович
возвратился из города злой и растерянный. — Что ты будешь делать? Не дают… Что
делать? Антон стоял у дверей и молчал. Калина Иванович развёл руками и глянул на
Братченко: — Чи грабить идти, чи што? Что ты
будешь делать?.. Ведь животная бессловесная. Антон круто нажал на двери и выскочил из
комнаты. Через час мне сказали, что он из колонии ушёл. — Куда? — А кто ж его знает!.. Никому ничего
не сказал. На другой день он явился в колонию в
сопровождении селянина с возом соломы. Селянин был в новом серяке и в хорошей
шапке. Воз ладно постукивал хорошо пригнанными втулками, кони лоснились.
Селянин признал в Калине Ивановиче хозяина. — Тут хлопец на дороге сказал, что
продналог принимается… — Какой хлопец? — Да тут же був… Разом прийшов… Антон выглядывал из конюшни и делал мне
какие‑то непонятные знаки. Калина Иванович смущённо ухмыльнулся в
трубку и отвёл меня в сторону. — Что же ты будешь делать? Давай
приимем у него этот возик, а там видно будет. Я уж понял, в чём дело. — Сколько здесь? — Да пудов двадцать будет. Я не
важил. Антон появился на месте действия и
возразил: — Сам говорил дорогою — семнадцать,
а теперь двадцать? Семнадцать пудов. — Сваливайте. Зайдите в канцелярию
за распиской. В канцелярии, то есть в небольшом
кабинетике, который я для себя к этому времени выкроил среди колонистских
помещений, я преступной рукой написал на нашем бланке, что у гражданина Ваця
Онуфрия принято в счёт причитающегося с него продналога объёмного фуража —
овсяной соломы — семнадцать пудов. Подпись. Печать. Ваць Онуфрий низко кланялся и за что‑то
благодарил. Уехал. Братченко весело действовал со
своей компанией в конюшне и даже пел. Калина Иванович потирал руки и виновато
посмеивался: — Вот, чёрт, попадёт тебе за эту
штуку, но что ж ты будешь делать? Не пропадать же животному. Она же
государственная, всё едино… — А чего это дядько такой весёлый
уехал? — спросил я у Калины Ивановича. — Да, а как же ты думаешь? То ему в
город, на гору ехать, да там ещё в очереди стоять, а тут он, паразит, сказал
— семнадцать пудов, никто и не проверял, а может, там пятнадцать. Через день к нам во двор въехал воз с
сеном. — Ось продналог. Тут Ваць у вас
здавав… — А ваша как фамилия? — Та и я ж з Вацив, тоже Ваць,
Стэпан Ваць. — Сейчас. Пошёл я искать Калину Ивановича посоветоваться.
На крыльце встретил Антона. — Вот показал дорогу с продналогом,
а теперь… — Принимайте, Антон Семёнович,
оправдаемся. Принимать было нельзя, не принимать тоже
нельзя. Почему, спрашивается, у одного Ваця приняли, а другому отказали? — Иди, принимай сено, я пока
расписку напишу. И ещё приняли мы воза два объёмного
фуража и пудов сорок овса. Ни жив, ни мёртв, ожидал я расправы.
Антон внимательно на меня поглядывал и еле‑еле улыбался одним углом
рта. Зато он перестал сражаться со всеми потребителями транспортной энергии,
охотно выполнял все наряды на перевозки и в конюшне работал, как богатырь. Наконец я получил краткий, но
выразительный запрос: "Предлагаю немедленно сообщить, на
каком основании колония принимает продналог. Райпродкомиссар Агеев" Я даже Калине Ивановичу не сказал о
полученной бумажке. И отвечать не стал. Что я мог ответить? В апреле в колонию влетела на паре
вороных тачанка, а в мой кабинет — перепуганный Братченко. — Сюда идёт, — сказал он,
задыхаясь. — Кто это? — Мабудь, насчёт соломы… Сердитый. Он присел за печкой и притих. Райпродкомиссар был обыкновенный: в
кожаной куртке, с револьвером, молодой и подтянутый. — Вы заведующий? — Я. — Вы получили мой запрос? — Получил. — Почему вы не отвечаете? Что это
такое, я сам должен ехать! Кто вам разрешил принимать продналог? — Мы принимали продналог без
разрешения. Райпродкомиссар соскочил со стула и
заорал. — Как это так — «без разрешения»? Вы
знаете, чем это пахнет? Вы сейчас будете арестованы, знаете вы это? Я это знал. — Кончайте как‑нибудь, —
сказал я райпродкомиссару глухо, — ведь я не оправдываюсь и не
выкручиваюсь. И не кричите. Делайте то, что вы находите нужным. Он забегал по диагонали моего бедного
кабинета. — Чёрт знает что такое! —
бурчал он как будто про себя и фыркал, как конь. Антон вылез из‑за печки и следил за
сердитым, как горчица, райпродкомиссаром. Неожиданно он низким альтом, как
жук, загудел. — Всякий бы не посмотрел, чи
продналог, чи что, если четыре дня кони не кормлены. Если бы вашим вороным
четыре дня газеты читать, так бы вы влетели в колонию? Агеев остановился удивлённый: — А ты кто такой? Тебе здесь что
надо? — Это наш старший конюх, он лицо
более или менее заинтересованное, — сказал я. Райпродкомиссар снова забегал по комнате
и вдруг остановился против Антона: — У вас хоть заприходовано? Чёрт
знает что!.. Антон прыгнул к моему столу и тревожно
прошептал: — Заприходовано ж, Антон Семёнович? Засмеялись и я и Агеев. — Заприходовано. — Где вы такого хорошего парня
достали? — Сами делаем, — улыбнулся я. Братченко поднял глаза на
райпродкомиссара и спросил серьёзно, приветливо: — Ваших вороных покормить? — Что ж, покорми. |
|
||||
|
|
13. Осадчий
Зима и весна 1922 года были наполнены
страшными взрывами в колонии имени Горького. Они следовали один за другим
почти без передышки и в моей памяти сейчас сливаются в какой‑то общий
клубок несчастья. Однако, несмотря на всю трагичность этих
дней, они были днями роста и нашего хозяйства, и нашего здоровья. Как
логически совмещались эти явления, я сейчас не могу объяснить, но совмещались
Обычный день в колонии был и тогда прекрасным днём, полным труда, доверия,
человеческого, товарищеского чувства и всегда — смеха, шутки, подъёма и очень
хорошего, бодрого тона. И почти не проходило недели, чтобы какая‑нибудь
совершенно ни на что не похожая история не бросала нас в глубочайшую яму, в
такую тяжёлую цепь событий, что мы почти теряли нормальное представление о
мире и делались больными людьми, воспринимающими мир воспалёнными нервами. Неожиданно у нас открылся антисемитизм.
До сих пор в колонии евреев не было. Осенью в колонию был прислан первый
еврей, потом один за другим ещё несколько. Один из них почему‑то раньше
работал в губрозыске, и на него первого обрушился дикий гнев наших
старожилов. В проявлении антисемитизма я сначала даже
не мог различить, кто больше, кто меньше виноват. Вновь прибывшие колонисты
были антисемитами просто потому, что нашли безобидные объекты для своих,
хулиганских инстинктов, старшие же имели больше возможности издеваться и
куражиться над евреями. Фамилия первого была Остромухов. Остромухова стали бить по всякому поводу
и без всякого повода. Избивать, издеваться на каждом шагу, отнять хороший
пояс или целую обувь и дать взамен их негодное рванье, каким‑нибудь
хитрым способом оставить без пищи или испортить пищу, дразнить без конца,
поносить разными словами и, самое ужасное, всегда держать в страхе и
презрении — вот что встретило в колонии не только Остромухова, но и Шнайдера,
и Глейсера, и Крайника. Бороться с этим оказалось невыносимо трудно. Всё
делалось в полной тайне, очень осторожно и почти без риска, потому что евреи
прежде всего запугивались до смерти и боялись жаловаться. Только по косвенным
признакам, по убитому виду, по молчаливому и несмелому поведению можно было
строить догадки, да просачивались самыми отдалёнными путями, через дружеские
беседы наиболее впечатлительных пацанов с воспитателями неуловимые слухи. Всё же совершенно скрыть от
педагогического персонала регулярное шельмование целой группы колонистов было
нельзя, и пришло время, когда разгул антисемитизма в колонии ни для кого уже
секретом не был. Установили и список насильников. Всё это были наши старые
знакомые: Бурун, Митягин, Волохов, Приходько, но самую заметную роль в этих
делах играли двое: Осадчий и Таранец. Живость, остроумие и организационные способности
давно выдвинули Таранца в первые ряды колонистов, но приход более старших
ребят не давал Таранцу простора. Теперь наклонность к преобладанию нашла
выход в пуганье евреев и издевательствах над ними. Осадчий был лет
шестнадцати, угрюмый, упрямый, сильный и очень запущенный. Он гордился своим
прошлым, но не потому, что находил в нём какие‑либо красоты, а просто
из упрямства, потому что это его прошлое и никому никакого дела нет до его
жизни. Осадчий имел вкус к жизни и всегда
внимательно следил за тем, чтобы его день не проходил без радости. К радостям
он был очень неразборчив и большей частью удовлетворялся прогулками на село
Пироговку, расположенное ближе к городу и населённое полукулаками‑полумещанами.
Пироговка в то время блистала обилием интересных девчат и самогона; эти
предметы и составляли главную радость Осадчего. Неизменным спутником бывал
известный колонистский лодырь и обжора Галатенко. Осадчий носил умопомрачительную холку,
которая мешала ему смотреть на свет божий, но, очевидно, составляла важное
преимущество в борьбе за симпатии пироговских девчат. Из‑под этой холки
он всегда угрюмо и, кажется, с ненавистью поглядывал на меня во время моих
попыток вмешаться в его личную жизнь: я не позволял ему ходить на Пироговку и
настойчиво требовал, чтобы он больше интересовался колонией. Осадчий сделался главным инквизитором
евреев. Осадчий едва ли был антисемитом. Но его безнаказанность и
беззащитность евреев давали ему возможность блистать в колонии первобытным
остроумием и геройством. Поднимать явную, открытую борьбу против
шайки наших изуверов нужно было осмотрительно: она грозила тяжёлыми
расправами прежде всего для евреев; такие, как Осадчий, в крайнем случае не
остановились бы и перед ножом. Нужно было или действовать исподволь и очень
осторожно, или прикончить дело каким‑нибудь взрывом. Я начал с первого. Мне нужно было
изолировать Осадчего и Таранца. Карабанов, Митягин, Приходько, Бурун
относились ко мне хорошо, и я рассчитывал на их поддержку. Но самое большое,
что мне удалось — это уговорить их не трогать евреев. — От кого их защищать? От всей
колонии? — Не ври, Семён. Ты знаешь — от
кого. — Что с того, что я знаю? Я пойду на
защиту, так не привяжу к себе Остромухова, — всё равно поймают и набьют
ещё хуже. — Я за это дело не берусь — не с руки,
а трогать не буду: они мне не нужны. Задоров больше всех сочувствовал моему
положению, но он не умел вступить в прямую борьбу с такими, как Осадчий. — Тут как‑то нужно очень круто
повернуть, не знаю. Да от меня всё это скрывают, как и от вас. При мне никого
не трогают. Положение с евреями становилось тем
временем всё тяжелее. Их уже можно было ежедневно видеть в синяках, но при
опросе они отказывались назвать тех, кто избивает. Осадчий ходил по колонии
гоголем и вызывающе посматривал на меня и на воспитателей из‑под своей
замечательной холки. Я решил идти напролом и вызвал его в
кабинет. Он решительно всё отрицал, но всем своим видом показывал, что
отрицает только из приличия, а на самом деле ему безразлично, что я о нём
думаю. — Ты избиваешь их каждый день. — Ничего подобного, — говорил
он неохотно. Я пригрозил отправить его из колонии. — Ну что ж. И отправляйте! Он очень хорошо знал, какая это длинная и
мучительная история — отправить из колонии. Нужно было долго хлопотать об
этом в комиссии, — представлять всякие опросы и характеристики, раз
десять послать самого Осадчего на допрос да ещё разных свидетелей. Для меня, кроме того, не сам по себе
Осадчий был занятен. На его подвиги взирала вся колония, и многие относились
к нему с одобрением и с восхищением. Отправить его из колонии значило бы
законсервировать эти симпатии в виде постоянного воспоминания о пострадавшем
герое Осадчем, который ничего не боялся, никого не слушал, бил евреев, и его
за это «засадили». Да и не один Осадчий орудовал против евреев: Таранец не
был так груб, как Осадчий, но гораздо изобретательнее и тоньше. Он никогда их
не бил и на глазах у всех относился к евреям даже нежно, но по ночам
закладывал тому или другому между пальцами ног бумажки и поджигал их, а сам
укладывался в постель и представлялся спящим. Или, достав машинку, уговаривал
какого‑нибудь дылду вроде Федоренко остричь Шнайдеру полголовы, а потом
имитировать, что машинка испорчена, куражиться над бедным мальчиком, когда
тот ходит за ним и просит со слезами окончить стрижку. Спасение во всех этих бедах пришло самым
неожиданным и самым позорным способом. Однажды вечером отворилась дверь моего
кабинета, и Иван Иванович ввёл Остромухова и Шнайдера, обоих окровавленных,
плюющих кровью, но даже не плачущих от привычного страха. — Осадчий? — спросил я. Дежурный рассказал, что Осадчий за ужином
приставал к Шнайдеру, бывшему дежурным по столовой, заставлял его переменять
порцию, подавать другой хлеб, и, наконец, за то, что Шнайдер, подавая суп,
нечаянно наклонил тарелку и коснулся пальцами супа, Осадчий вышел из‑за
стола и при дежурном, и при всей колонии ударил Шнайдера по лицу. Шнайдер,
пожалуй, и промолчал бы, но дежурство оказалось не из трусливых, да у нас
никогда и не было драк при дежурном. Иван Иванович приказал Осадчему выйти из
столовой и пойти ко мне доложить. Осадчий из столовой направился к дверям, но
в дверях остановился и сказал: — Я к завколу пойду, но раньше этот
жид у меня попоёт! Здесь произошло небольшое чудо.
Остромухов, бывший всегда самым беззащитным из евреев, вдруг выскочил из‑за
стола и бросился к Осадчему: — Я тебе не дам его бить! Все это кончилось тем, что тут же, в
столовой, Осадчий избил Остромухова, а выходя, заметил притаившегося в сенях
Шнайдера и ударил его так сильно, что у того выскочил зуб. Ко мне Осадчий
идти отказался. В моём кабинете Остромухов и Шнайдер
размазывали кровь по лицам грязными рукавами клифтов, но не плакали, и,
очевидно, прощались с жизнью. Я тоже был уверен, что если сейчас не разрешу
до конца всё напряжение, то евреям нужно будет немедленно спасаться бегством
или приготовиться к настоящим мукам. Меня подавляло и прямо замораживало то
безразличие к побоям в столовой, которое проявили все колонисты, даже такие,
как Задоров. Я вдруг почувствовал, что сейчас я так же одинок, как в первые
дни колонии. Но в первые дни я и не ожидал поддержки и сочувствия ниоткуда,
это было естественное и заранее учтённое одиночество, а теперь я уже успел
избаловаться и привыкнуть к постоянному сотрудничеству колонистов. В кабинете вместе с потерпевшими находилось
несколько человек. Я сказал одному из них: — Позови Осадчего. Я был почти уверен, что Осадчий закусил
удила и откажется прийти, и твёрдо решил в крайнем случае привести его сам,
хотя бы и с револьвером. Но Осадчий пришёл, ввалился в кабинет в
пиджаке внакидку, руки в карманах, по дороге двинул стулом. Вместе с ним
пришёл и Таранец. Таранец делал вид, что всё это страшно интересно и он
пришёл только потому, что ожидается занимательное представление. Осадчий глянул на меня через плечо и
спросил: — Ну, я пришёл… Чего? Я показал ему на Остромухова и Шнайдера: — Это что такое? — Ну, что ж такое! Подумаешь!.. Два
жидка. Я думал, вы что покажете. И вдруг педагогическая почва с треском и
грохотом провалилась подо мною. Я очутился в пустом пространстве. Тяжёлые
счёты, лежавшие на моём столе, вдруг полетели в голову Осадчего. Я
промахнулся, и счёты со звоном ударились в стену и скатились на пол. В полном беспамятстве я искал на столе
что‑нибудь тяжёлое, но вдруг схватил в руки стул и ринулся с ним на
Осадчего. Он в панике шарахнулся к дверям, но пиджак свалился с его плеч на
пол, и Осадчий, запутавшись в нём, упал. Я опомнился: кто‑то взял меня за
плечи. Я оглянулся — на меня смотрел Задоров и улыбался: — Не стоит того эта гадина! Осадчий сидел на полу и начинал
всхлипывать. На окне притаился бледный Таранец, у него дрожали губы. — Ты тоже издевался над этими
ребятами! Таранец сполз с подоконника. — Даю честное слово, никогда больше
не буду! — Вон отсюда! Он вышел на цыпочках. Осадчий, наконец, поднялся с полу, держа
пиджак в руке, а другой рукой ликвидировал последний остаток своей нервной
слабости — одинокую слезу на грязной щеке. Он смотрел на меня спокойно,
серьёзно. — Четыре дня отсидишь в сапожной на
хлебе и на воде. Осадчий криво улыбнулся и, не задумываясь,
ответил: — Хорошо, я отсижу. На второй день ареста он вызвал меня в
сапожную и попросил: — Я не буду больше, простите. — О прощении будет разговор, когда
отсидишь свой срок. Отсидев четыре дня, он уже не просил
прощения, а заявил угрюмо: — Я ухожу из колонии. — Уходи. — Дайте документ. — Никаких документов! — Прощайте. — Будь здоров. |
|
||||
|
|
14. Чернильницы по‑соседски
Куда ушёл Осадчий, мы не знали. Говорили,
что он отправился в Ташкент, потому что там всё дёшево и можно прожить
весело, другие говорили, что у Осадчего в нашем городе дядя, а третьи
поправляли, что не дядя, а знакомый извозчик. Я никак не мог прийти в себя после нового
педагогического падения. Колонисты приставали ко мне с вопросами, не слышал
ли я чего‑нибудь об Осадчем. — Да что вам Осадчий? Чего вы так
беспокоитесь? — Мы не беспокоимся, — сказал
Карабанов, — а только лучше, если бы он был здесь. Вам было б лучше… — Не понимаю. Карабанов глянул на меня мефистотельским
глазом: — Мабудь, нехорошо, у вас там, на
душе… Я на него раскричался: — Убирайтесь от меня с вашими
душевными разговорами! Вы что вообразили? Уже и душа в вашем распоряжении? Карабанов тихонько отошёл от меня. В колонии звенела жизнь, я слышал
здоровый и бодрый тон колонии, под моим окном звучали шутки и проказы между
делом (все почему‑то собирались под моим окном), никто ни на кого не
жаловался. И Екатерина Григорьевна однажды сказала мне с таким выражением,
будто я тяжёлобольной, а она сестра милосердия: — Вам нечего мучиться, пройдёт. — Да я и не мучаюсь. Пройдёт, конечно.
Как в колонии? — Я и сама не знаю, как это
объяснить. В колонии сейчас хорошо, человечно как‑то. Евреи наши —
прелесть: они немного испуганы всем, прекрасно работают и страшно смущаются.
Вы знаете, старшие за ними ухаживают. Митягин, как нянька, ходит: заставил
Глейзера вымыться, остриг, даже пуговицы пришил. Да. Значит, всё было хорошо. Но какой
беспорядок и хлам заполняли мою педагогическую душу! Меня угнетала одна
мысль: неужели я так и не найду, в чём секрет? Ведь вот, как будто в руках
было, ведь только ухватить оставалось. Уже у многих колонистов по‑новому
поблёскивали глаза… и вдруг всё так безобразно сорвалось. Неужели всё
начинать сначала? Меня возмущали безобразно организованная
педагогическая техника и моё техническое бессилие. И я с отвращением и
злостью думал о педагогической науке: «Сколько тысяч лет она существует! Какие
имена, какие блестящие мысли: Песталоцци, Руссо, Наторп, Блонский! Сколько
книг, сколько бумаги, сколько славы! А в то же время пустое место, ничего
нет, с одним хулиганом нельзя управиться, нет ни метода, ни инструмента, ни
логики, просто ничего нет. Какое‑то шарлатанство». Об Осадчем я думал меньше всего. Я его
вывел в расход, записал в счёт неизбежных в каждом производстве убытков и
брака. Его кокетливый уход ещё меньше смущал. Да, кстати, он скоро вернулся. На нашу голову свалился новый скандал,
при сообщении о котором я, наконец, узнал, что это значит, когда говорят, что
волосы встали дыбом. В тихую морозную ночь шайка колонистов‑горьковцев
с участием Осадчего вступила в ссору с пироговскими парубками. Ссора перешла
в драку: с нашей стороны преобладало холодное оружие — финки, с их стороны
горячее — обрезы. Бой кончился в нашу пользу. Парубки были оттеснены с того
места, где собирается улица, а потом позорно бежали и заперлись в здании
сельсовета. К трём часам здание сельсовета было взято приступом, то есть
выломаны двери и окна, и бой перешёл в энергичное преследование. Парубки
повыскакивали в те же двери и окна и разбежались по домам, а колонисты
возвратились в колонию с великим торжеством. Самое ужасное было в том, что сельсовет
оказался разгромленным вконец, и на другой день в нём нельзя было работать.
Кроме окон и дверей были приведены в негодность столы и лавки, разбросаны
бумаги и разбиты чернильницы. Бандиты утром проснулись, как невинные
младенцы, и пошли на работу. В полдень пришёл ко мне пироговский председатель
и рассказал о событиях минувшей ночи. Я смотрел с удивлением на этого
старенького, щупленького, умного селянина: почему он со мной ещё
разговаривает, зачем он не зовёт милицию, не берёт под стражу всех этих
мерзавцев и меня вместе с ними? Но председатель повествовал обо всём не
столько с гневом, сколько с грустью и больше всего беспокоился о том,
исправит ли колония окна и двери, исправит ли столы и не может ли колония
сейчас выдать ему, пироговскому председателю, две чернильницы. Я прямо обалдел от удивления и никак не
мог понять, чем объяснить такого «человеческое» отношение к нам со стороны
власти. Потом я решил, что председатель, как и я, ещё не может вместить в
себя весь ужас событий: он просто бормочет что‑то, чтобы хоть как‑нибудь
«реагировать». Я по себе судил: я сам был только
способен кое‑что бормотать: — Ну, хорошо… конечно, мы всё
исправим… А чернильницы? Да вот эти можно взять. Председатель взял чернильницы и осторожно
собрал в левой руке, прижимая к животу. Это были обыкновенные невыливайки. — Так мы всё исправим. Я сейчас же
пошлю мастера. Вот только со стеклом придётся подождать, пока привезём из
города. Председатель посмотрел на меня с благодарностью. — Да нет, можно и завтра. Тогда,
знаете, как стекло будет, можно всё сразу сделать… — Ага… Ну, хорошо, значит, завтра. Отчего же он всё-таки не уходит, этот
шляпа‑председатель? — Вы домой сейчас? — спросил я
его. — Да. Председатель оглянулся, достал из кармана
жёлтый платок и вытер им совершенно чистые усы. Подвинулся ближе ко мне. — Тут, понимаете, такое дело… Там
вчера ваши хлопцы забрали. Та там, знаете, народ молодой… и мой там
мальчишка. Ну, народ молодой, для баловства, ни для чего другого, боже
борони… Как товарищи, знаете, заводят, ну, и себе ж нужно… Я вже говорил:
время такое, правда… что у каждого есть… — Да в чём дело? — спросил я
его. — Простите, не понимаю. — Обрез, — сказал в упор
председатель. — Обрез? — Обрез же. — Так что? — Ах ты, господи, та я ж кажу: ну
баловались, чи што, ну… отож вчера произошло… Так ваши забрали… у моего, и
ещё там не знаю, може, и потерял кто, бо, знаете, народ выпивший… И где они
самогонку эту достают? — Кто народ выпивший? — Ах ты, господи, да кто ж… Да разве
там разберёшь? Я ж там не був, а разговоры такие, что ваши были все пьяные. — А ваши? Председатель замялся: — Та я ж там не був… Што оно,
правда, вчера воскресенье. Та я ж не про то. Дело, знаете, молодое, шо ж, и
ваши мальчики, я ж ничего, ну, там… побились, никого ж и не убили и не
поранили. Може, с ваших кого? — спросил он вдруг со страхом. — Да с нашими я ещё не говорил. — Я не чув… а кто говорит, что были
будто выстрелы, два чи три, те вже, мабудь, як тикалы, потому что ваши ж,
знаете, народ горячий, а наши деревенские, конешно ж, пока повернулись туда‑сюда…
Хэ‑хэ‑э‑хэ! — Смеётся старик и глазки сощурил,
ласковый такой и родной‑родной. Таких стариков «папашами» всегда
называют. Смеюсь и я, глядя на него, а в душе беспорядок невыносимый. — Значит, по‑вашему, ничего
страшного — подрались и помирятся? — Вот именно, вот именно, помирятся.
Хиба ж, як я молодой був, хиба ж так за девок бились? Моего брата Якова так и
до смерти прибили парубки. Вы вот хлопцев позовите, поговорите с ними, чтоб,
знаете, больше такого не было. Я вышел на крыльцо. — Позови тех, кто был вчера на
Пироговке. — А где они? — спросил меня
шустрый пацан, пробегавший по каким‑то срочным делам по двору. — Не знаешь разве, кто был вчера на
Пироговке? — О, вы хитрый… Я вам лучше Буруна
позову. — Ну, зови Буруна. Бурун явился на крыльцо. — Осадчий в колонии? — Пришёл, работает в столярной. — Скажи ему вот что: вчера наши
надебоширили на Пироговке, и дело очень серьёзное. — Да, у нас говорили хлопцы. — Так вот, скажи сейчас Осадчему,
чтобы все собрались ко мне, тут председатель сидит у меня. Да чтобы не
брехали, может очень печально кончиться. В кабинете набилось «пироговцев» полно:
Осадчий, Приходько, Чобот, Опришко, Галатенко, Голос, Сорока, ещё кто‑то,
не помню. Осадчий держался свободно, как будто с ним ничего не было. При
постороннем я не хотел вспоминать старое. — Вы вчера были на Пироговке, были
пьяные, хулиганили, вас хотели утихомирить, так вы побили парней, разгромили
сельсовет. Так? — Не совсем так, как вы
говорите, — выступил Осадчий. — Это действительно, что хлопцы были
на Пироговке, а я там три дня жил, потому ж, знаете… Пьяные не были, это
неправда. Вот ихний Панас ещё днём гулял с Сорокой, и Сорока действительно
быв выпивши… немножко, да. Голосу кто‑то поднёс по знакомству. А так все
были как следует. И ни с кем мы не заедались, гуляли, как и все. А потом
подходит один там, Харченко, ко мне и кричит: «Руки вверх!», а сам обрез на
меня. Ну, я ему, правда, и дал по морде. Ну, тут и пошло… Они злы на нас, что
девчата с нами больше… — Что ж пошло? — Да ничего, подрались. Если бы они
не стреляли, так ничего и не было бы. А Панас выстрелил, и Харченко тоже, ну,
за ними и погнались. Мы их бить не хотели, только обрезы поотнимать, а они
заперлись. Так Приходько — вы ж знаете его — как двинет… — Двинет! Надвигали! Обрезы где?
Сколько? — Два. Осадчий обернулся к Сороке: — Принеси. Принесли обрезы. Хлопцев я отпустил в
мастерские. Председатель мялся возле обрезов: — Так как же, можно забрать? — Зачем же? Ваш сын не имеет права
ходить с обрезом, и Харченко тоже. Я не имею права отдавать. — Да нет, на что они мне? И не
отдавайте, пусть у вас останутся, може, там в лесу когда попугать воров
придётся. Я к тому, знаете, вы вже не придавайте этому делу… Дело молодое,
знаете. — Это… чтоб я никуда не жаловался? — Ну конешно ж… Я рассмеялся: — Да зачем же? Мы по‑соседски. — Во‑во, — обрадовался
дед, — по‑соседски… Чего не бывает! Да если всё до начальства… Ушёл председатель, отлегло от сердца. Собственно говоря, я ещё обязан был всю
эту историю размазать на педагогическом транспаранте. Но я и хлопцы так были
рады, что всё кончилось благополучно, что обошлось без педагогики на этот
раз. Я их не наказывал; они мне слово дали на Пироговку без моего разрешения
не ходить и наладить отношения с пироговскими парубками. |
|
||||
|
|
15. «Наш — найкращий»
К зиме 1922 в колонии было шесть девочек.
К тому времени выровнялась и замечательно похорошела Оля Воронова. Хлопцы
заглядывались на неё не шутя, но Оля была со всеми одинаково ласкова,
недоступна, и только Бурун был её другом. За широкими плечами Буруна Оля
никого не боялась в колонии и могла пренебрежительно относиться даже к
влюблённости Приходько, самого сильного, самого глупого и бестолкового
человека в колонии. Бурун не был влюблён, у них с Олей была действительно
хорошая юношеская дружба; и это обстоятельство много прибавляло уважения
среди колонистов и к Буруну, и к Вороновой. Несмотря на свою красоту, Оля не
была сколько‑нибудь заметной. Ей очень нравилось сельское хозяйство;
работа на поле, даже самая тяжёлая, её увлекала, как музыка, и она мечтала: — Как вырасту, обязательно за грака
замуж выйду. Верховодила у девчат Настя Ночевная.
Прислали её в колонию с огромнейшим пакетом, в котором много было написано
про Настю: и воровка, и продавщица краденого, и содержательница «малины». И
поэтому мы смотрели на Настю как на чудо. Это был исключительной честный и
симпатичный человек. Насте не больше пятнадцати лет, но отличалась она
дородностью, белым лицом, гордой посадкой головы и твёрдым характером. Она
умела покрикивать на девчат без вздорности и визгливости, умела одним
взглядом привести к порядку любого колониста и прочитать ему короткий
внушительный выговор: — Ты что это хлеб наломал и бросил?
Богатым стал или у свиней техникум окончил? Убери сейчас же!.. И голос у Насти был глубокий, грудной,
отдававший сдержанной силой. Настя подружилась с воспитательницами, упорно и
много читала и без всяких сомнений шла к намеченной цели — к рабфаку. Но
рабфак был ещё за далёким горизонтом для Насти, так как и для других людей,
стремившихся к нему: Карабанова, Вершнева, Задорова, Ветковского. Слишком уж
были малограмотны наши первенцы и с трудом осиливали премудрости арифметики и
политграмоты. Образованнее всех была Раиса Соколова, и её мы отправили в
киевский рабфак осенью 1921 года. Собственно говоря, это было безнадёжное
предприятие, но уж очень хотелось нашим воспитанницам иметь в колонии
рабфаковку. Цель прекрасная, но Раиса мало подходила для такого святого дела.
Целое лето она готовилась в рабфак, но к книжке её приходилось загонять
силой, потому что Раиса ни к какому образованию не стремилась. Задоров, Вершнев, Карабанов — все люди,
обладавшие вкусом к науке, — очень были недовольны, что на рабфаковскую
линию выходит Раиса. Вершнев, колонист, отличавшийся замечательной способностью
читать в течение круглых суток, даже в то время, когда он дует мехом в
кузнице, большой правдолюб и искатель истины, всегда ругался, когда вспоминал
о светозарном Раисином будущем. Заикаясь, он говорил мне: — Как эттого нне пппонять? Раиса
ввсе равно в ттюрьме кончит. Карабанов выражался ещё определённее: — Никогда не ожидал от вас такой
дурости. Задоров, не стесняясь присутствием Раисы,
брезгливо улыбался и безнадёжно махал рукой: — Рабфаковка! Приклеили горбатого до
стены. Раиса кокетливо и сонно улыбалась в ответ
на все эти сарказмы, и хотя на рабфак не стремилась, но была довольна: ей
нравилось, что она поедет в Киев. Я был согласен с хлопцами. Действительно,
какая из Раисы рабфаковка! Она и теперь, готовясь на рабфак, получала из
города какие‑то подозрительные записки, тайком уходила из колонии; а к
ней так же скрытно приходил Корнеев, неудавшийся колонист, пробывший в
колонии всего три недели, обкрадывавший нас сознательно и регулярно, потом
попавшийся на краже в городе, постоянный скиталец по угрозыскам, существо в
высшей степени гнилое и отвратительное, один из немногих людей, от которых я
отказывался с первого взгляда на них. Экзамен в рабфаке Раиса выдержала. Но
через неделю после этого счастливого известия наши откуда‑то узнали,
что Корнеев тоже отправился в Киев. — Вот теперь начнётся настоящая
наука, — сказал Задоров. Проходила зима. Раиса изредка писала, но
ничего нельзя было разобрать из её писем. То казалось, что у неё всё
благополучно, то выходило, что с ученьем очень трудно, и всегда не было
денег, хотя она и получала стипендию. Раз в месяц мы посылали ей двадцать‑тридцать
рублей. Задоров уверял, что на эти деньги Корнеев хорошо поужинает, и это
было похоже на правду. Больше всего доставалось воспитательницам, инициаторам
киевской затеи. — Ну, вот каждому человеку видно,
что это не годится, а вам не видно. Как же это может быть: нам видно, а вам
не видно? В январе Раиса неожиданно приехала в
колонию со всеми своими корзинками и сказала, что отпущена на каникулы. Но у
неё не было никаких отпускных документов, и по всему её поведению было видно,
что возвращаться в Киев она не собирается. На мой запрос киевский рабфак
сообщил, что Раиса Соколова перестала посещать институт и выехала из
общежития неизвестно куда. Вопрос был выяснен. Нужно отдать
справедливость ребятам: они Раису не дразнили, не напоминали о неудачном
рабфаке и как будто даже забыли обо всём этом приключении. В первые дни после
её приезда посмеялись всласть над Екатериной Григорьевной, которая и без того
была смущена крайне, но вообще считали, что случилась самая обыкновенная
вещь, которую они и раньше предвидели. В марте ко мне обратилась Осипова с
тревожным сомнением: по некоторым признакам, Раиса беременна. Я похолодел. Мы находились в положении
ужасном: подумайте, в детской колонии воспитанница беременна. Я ощущал вокруг
нашей колонии, в городе, в наробразе присутствие очень большого числа тех
добродетельных ханжей, которые обязательно воспользуются случаем и поднимут
страшный визг: в колонии половая распущенность, в колонии мальчики живут с
девочками. Меня пугала и самая обстановка в колонии, и затруднительное
положение Раисы как воспитанницы. Я просил Осипову поговорить с Раисой «по
душам». Раиса решительно отрицала беременность и
даже обиделась: — Ничего подобного! Кто это выдумал
такую гадость? И откуда это пошло, что и воспитательницы стали заниматься
сплетнями? Осипова, бедная, в самом деле
почувствовала, что поступила нехорошо, Раиса была очень полна, и кажущуюся
беременность можно было объяснить просто нездоровым ожирением, тем более что
на вид действительно определённого ничего не было. Мы Раисе поверили. Но через неделю Задоров вызвал меня
вечером во двор, чтобы поговорить наедине. — Вы знаете, что Раиса беременна? — А ты откуда знаешь? — Вот чудак! Да что же, не видно,
что ли? Это все знают — я думал, что и вы знаете. — Ну а если беременна, так что? — Да ничего… Только чего она
скрывает это? Ну, беременна — и беременна, а чего вид такой делает, что
ничего подобного. Да вот и письмо от Корнеева. Тут… видите… — «дорогая
женушка». Да мы это и раньше знали. Беспокойство усилилось и среди педагогов.
Наконец меня вся эта история начала злить. — Ну чего так беспокоиться?
Беременна, значит, родит. Если теперь скрывает, то родов уже нельзя будет
скрыть. Ничего ужасного нет, будет ребёнок, вот и всё. Я вызвал Раису к себе и спросил: — Скажи, Раиса, правду: ты
беременна? — И чего ко мне все пристают? Что
это такое, в самом деле, — пристали все, как смола: беременна да
беременна! Ничего подобного, понимаете или нет? Раиса заплакала. — Видишь ли, Раиса, если ты
беременна, то не нужно этого скрывать. Мы тебе поможем устроиться на работу,
хотя бы и у нас в колонии, поможем и деньгами. Для ребёнка всё нужно же
приготовить, пошить и всё такое… — Да ничего подобного! Не хочу я
никакой работы, отстаньте! — Ну, хорошо, иди. Так ничего в колонии и не узнали. Можно
было бы отправить её к врачу на исследование, но по этому вопросу мнения
педагогов разделились. Одни настаивали на скорейшем выяснении дела, другие
поддерживали меня и доказывали, что для девушки такое исследование очень
тяжело и оскорбительно, что, наконец, и нужды в таком исследовании
нет, — всё равно или поздно вся правда выяснится, да и куда спешить:
если Раиса беременна, то не больше как на пятом месяце. Пусть она успокоится,
привыкнет к этой мысли, а тем временем и скрывать уже станет трудно. Раису оставили в покое. Пятнадцатого апреля в городском театре
было большое собрание педагогов, на этом собрании я читал доклад о
дисциплине. В первый вечер мне удалось закончить доклад, но вокруг моих
положений развернулись страстные прения, пришлось обсуждение доклада
перенести на второй день. В театре присутствовали почти все наши воспитатели
и кое‑кто из старших колонистов. Ночевать мы остались в городе. Колонией в то время уже заинтересовались
не только в нашей губернии, и на другой день народу в театре было видимо‑невидимо.
Между прочими вопросами, какие мне задавали, был и вопрос о совместном
воспитании. Тогда совместное воспитание в колониях для правонарушителей было
запрещено законом; наша колония была единственной в Союзе, проводившей опыт
совместного воспитания. Отвечая на вопрос, я мельком вспомнил о
Раисе, но даже возможная беременность её в моём представлении не меняла
ничего в вопросе о совместном воспитании. Я доложил собранию о полном
благополучии у нас в этой области. Во время перерыва меня вызвали в фойе. Я
наткнулся на запыхавшегося Братченко: он верхом прилетел в город и не захотел
сказать ни одному из воспитателей, в чём дело. — У нас несчастье, Антон Семёнович.
У девочек в спальне нашли мёртвого ребёнка. — Как — мёртвого ребёнка?! — Мёртвого, совсем мёртвого. В
корзине Раисиной. Ленка мыла полы и зачем‑то заглянула в корзинку,
может, взять что хотела, а там — мёртвый ребёнок. — Что ты болтаешь? Что можно сказать о нашем самочувствии? Я
никогда ещё не переживал такого ужаса. Воспитательницы, бледные и плачущие,
кое‑как выбрались из театра и на извозчике поехали в колонию. Я не мог
ехать, так как мне ещё нужно было отбиваться от нападений на мой доклад. — Где сейчас ребёнок? — спросил
я Антона. Иван Иванович запер в спальне. Там, в
спальне. — А Раиса? — Раиса сидит в кабинете, там её
стерегут хлопцы. Я послал Антона в милицию с заявлением о
находке, а сам остался продолжать разговоры о дисциплине. Только к вечеру я был в колонии. Раиса
сидела на деревянном диване в моём кабинете, растрёпанная и в грязном
переднике, в котором она работала в прачечной. Она не посмотрела на меня,
когда я вошёл, и ещё ниже опустила голову. На том же диване Вершнев обложился
книгами: очевидно, он искал какую‑то справку, потому что быстро
перелистывал книжку за книжкой и ни на кого не обращал никакого внимания. Я распорядился снять замок спальни и
корзинку с трупом перенести в бельевую кладовку. Поздно вечером, когда уже
все разошлись спать, я спросил Раису: — Зачем ты это сделала? Раиса подняла голову, посмотрела на меня
тупо, как животное, и поправила фартук на коленях. — Сделала — и всё. — Почему ты меня не послушала? Она вдруг тихо заплакала. — Я сама не знаю. Я оставил её ночевать в кабинете под охраной
Вершнева, читательская страсть которого гарантировала его совершенную
бдительность. Мы все боялись, что Раиса над собой что‑нибудь сделает. Наутро приехал следователь, следствие
заняло немного времени, допрашивать было некого. Раиса рассказала о своём
преступлении в скупых, но точных выражениях. Родила она ребёнка ночью, тут же
в спальне, в которой спало ещё пять девочек. Ни одна из них ночью не
проснулась. Раиса объяснила это как самое простое дело: — Я старалась не стонать. Немедленно после родов она задушила
ребёнка платком. Отрицала преднамеренное убийство: — Я не хотела так сделать, а он стал
плакать. Она спрятала труп в корзинку, с которой
ездила на рабфак, и рассчитывала в следующую ночь вынести его и бросить в
лесу. Думала, что лисицы съедят и никто ничего не узнает. Утром пошла на
работу в прачечную, где девочки стирали своё бельё. Завтракала и обедала со
всеми колонистами, была только «:скучная», по словам хлопцев. Следователь увез Раису с собой, а труп
распорядился отправить в трупный покой одной из больниц для вскрытия. Педагогический персонал этим событием был
деморализован до последней степени. Думали, что для колонии настали последние
времена. Колонисты были в несколько приподнятом
настроении. Девочек пугала вечерняя темнота и собственная спальня, в которой
они ни за что не хотели ночевать без мальчиков. Несколько ночей у них в
спальне торчали Задоров и Карабанов. Всё это кончилось тем, что ни девочки,
ни мальчики не спали и даже не раздевались. Любимым занятием хлопцев в эти
дни стало пугать девчат: они являлись под их окнами в белых простынях,
устраивали кошмарные концерты в печных ходах, тайно забирались под кровать
Раисы и вечером оттуда пищали благим матом. К самому убийству хлопцы отнеслись как к
очень простой вещи. При этом все они составляли оппозицию воспитателям в
объяснении возможных побуждений Раисы. Педагоги были уверены, что Раиса
задушила ребёнка в припадке девичьего стыда: в напряжённом состоянии среди
спящей спальни действительно нечаянно запищал ребёнок — стало страшно, что
вот‑вот проснутся. Задоров разрывался на части от смеха,
выслушивая эти объяснения слишком психологически настроенных педагогов. — Да бросьте эту чепуху говорить!
Какой там девичий стыд! Заранее всё было обдумано, потому и не хотела
признаться, что скоро родит. Всё заранее обдумали и обсудили с Корнеевым. И
про корзинку заранее, и чтобы в лес отнести. Если бы она от стыда сделала,
разве она так спокойно пошла бы на работу утром? Я бы эту самую Раису, если
бы моя воля, завтра застрелил бы. Гадиной была, гадиной всегда и останется. А
вы про девичий стыд! Да у неё никакого стыда никогда не было. — В таком случае какая же цель,
зачем это она сделала? — ставили педагоги убийственный вопрос. — Очень простая цель: на что ей
ребёнок? С ребёнком возиться нужно — и кормить, и всё такое. Очень нужен им
ребёнок, особенно Корнееву. — Ну‑у! Это не может быть… — Не может быть? Вот чудаки!
Конечно, Раиса не скажет, а я уверен, если бы взять её в работу, так там
такое откроется… Ребята были согласны с Задоровым без малейших намёков на
сомнение. Карабанов был уверен в том, что «такую штуку» Раиса проделывает не
первый раз, что ещё до колонии, наверное, что‑нибудь было. На третий день после убийства Карабанов
отвёз труп ребёнка в какую‑то больницу. Возвратился он в большом воодушевлении: — Ой, чого я там тилько не бачив!
Там в банках понаставлено всяких таких пацанов, мабудь десятка три. Там таки
страшни: з такою головою, одно — ножки скрючило, и не разберёшь, чы чоловик,
чы жаба яка. Наш — куды! Наш — найкращий. Екатерина Григорьевна укоризненно
покачала головой, но и она не могла удержаться от улыбки: — Ну что вы говорите, Семён, как вам
не стыдно! Кругом хохочут ребята, им уже надоели
убитые, постные физиономии воспитателей. Через три месяца Раису судили. В суд был
вызван весь педсовет колонии имени Горького. В суде царствовали психология и
теория девичьего стыда. Судья укорял нас за то, что мы не воспитали
правильного взгляда. Протестовать мы, конечно, не могли, Меня вызвали на
совещание суда и спросили: — Вы её снова можете взять в
колонию? — Конечно. Раиса была приговорена условно на восемь
лет и немедленно отдана под ответственный надзор в колонию. К нам она возвратилась как ни в чём не
бывало, принесла собою великолепные жёлтые полусапожки и на наших вечеринках
блистала в вихре вальса, вызывая своими полусапожками непереносимую зависть
наших прачек и девчат с Пироговки. Настя Ночевная сказала мне: — Вы Раису убирайте с колонии, а то
мы её сами уберём. Отвратительно жить с нею в одной комнате. Я поспешил устроить её на работу на
трикотажной фабрике. Я несколько раз встречал её в городе. В
1928 году я приехал в этот город по делам и неожиданно за буфетной стойкой
одной из столовых увидел Раису и сразу её узнал: она раздобрела и в то же
время стала мускулистее и стройнее. — Как живешь? — Хорошо. Работаю буфетчицей. Двое
детей и муж хороший. — Корнеев? — Э, нет, — улыбнулась
она, — старое забыто. Его зарезали на улице давно… А знаете что, Антон
Семёнович? — Ну? — Спасибо вам, тогда не утопили
меня. Я как пошла на фабрику, с тех пор старое выбросила. |
|
||||
|
|
16. Габерсуп
Весною нагрянула на нас новая беда —
сыпной тиф. Первым заболел Костя Ветковский. (Далее в «Педагогической поэме» Врача в колонии не было. Екатерина
Григорьевна, побывавшая когда‑то в медицинском институте, врачевала в
тех необходимых случаях, когда и без врача обойтись невозможно и врача
приглашать неловко. Её специальностью уже в колонии сделались чесотка и
скорая помощь при порезах, ожогах, ушибах, а зимой, благодаря несовершенству
нашей обуви, у нас много было ребят с отмороженными ногами. Вот, кажется, и
все болезни, которыми снисходительно болели колонисты, — они не
отличались склонностью возиться с врачами и лекарствами. Я всегда относился к колонистам с
глубоким уважением именно за их медицинскую непритязательность и сам много у
них в этой области научился. У нас сделалось совершенно привычным не
считаться больным при температуре в тридцать восемь градусов, и
соответствующей выдержкой мы один перед другим щеголяли. Впрочем, это было
почти необходимым просто потому, что врачи к нам очень неохотно ездили. Вот почему, когда заболел Костя и у него
оказалась температура под сорок, мы отметили это как новость в колонистском
быту. Костю уложили в постель и старались оказать ему всяческое внимание. По
вечерам у его постели собирались приятели, а так к нему многие относились
хорошо, то его вечером окружала целая толпа. Чтобы не лишать Костю общества и
не смущать ребят, мы тоже у кровати больного проводили вечерние часы. Дня через три Екатерина Григорьевна тревожно
сообщила мне о своём беспокойстве: очень похоже на сыпной тиф. Я запретил
ребятам подходить к его постели, но изолировать Костю как‑нибудь по‑настоящему
было всё равно невозможно: приходилось и заниматься в той же комнате и
собираться вечером. Ещё через день, когда Ветковскому стало
очень плохо, мы завернули его в ватное одеяло, которым он укрывался, усадили
в фаэтон, и я повёз его в город. В приёмной больницы ходят, лежат и стонут
человек сорок. Врача должного нет. Видно, тут давно сбились с ног и что
помещение больного в больницу ничего особенно хорошего не сулит. Наконец
приходит врач. Лениво поднимает рубашку у нашего Ветковского, старчески
кряхтит и лениво говорит записывающему фельдшеру: — Сыпной. В больничный городок. За городом, в поле, от войны осталось
десятка два деревянных бараков. Я долго брожу между сестрами, санитарами,
выносящими закрытые простынями носилки. Говорят, что больного должен принять
дежурный фельдшер, но никто не знает, где он, и никто не хочет его найти. Я,
наконец, теряю терпение и набрасываюсь на ближайшую сестру, употребляя слова
«безобразие», «бесчеловечно», «возмутительно». Мой гнев приносит пользу:
Костю раздевают и куда‑то ведут. Возвратясь в колонию, я узнал, что слегли
с такой же температурой Задоров, Осадчий и Белухин. Задорова, впрочем, я
застал ещё на ногах в тот самый момент, когда он отвечал на уговоры Екатерины
Григорьевны лечь в постель: — И какая вы женщина странная! Ну,
чего я лягу? Я вот сейчас пойду в кузницу, там меня Софрон моментально
вылечит… — Как вас Софрон вылечит? Что вы
говорите глупости!.. — А вот тем самым, что и себя лечит:
самогон, перец, соль, олеонафт и немного колёсной мази! — заливался
Задоров по обыкновению выразительно и открыто. — Смотрите, Антон Семёнович, до чего
вы их распустили! — обращается ко мне Екатерина Григорьевна. — Он
будет лечиться у Софрона!.. Ступайте, укладывайтесь! От Задорова несло страшным жаром, и было
видно, что он еле держится на ногах. Я взял его за локоть и молча направил в
спальню. В спальне уже лежали в кроватях Осадчий и Белухин. Осадчий страдал и
был недоволен своим состоянием. Я давно заметил, что такие «боевые» парни
всегда очень трудно переносят болезнь. Зато Белухин по обыкновению был в
радужном настроении. Не было в колонии человека веселее и
радостнее Белухина. Он происходил из столбового рабочего рода в Нижнем
Тагиле; во время голода отправился за хлебом, в Москве был задержан при какой‑то
облаве и помещён в детский дом, оттуда убежал и освоился на улице, снова был
задержан и снова убежал. Как человек предприимчивый, он старался не красть, а
больше спекулировал, но сам потом рассказывал о своих спекуляциях с
добродушным хохотом, так они всегда были смелы, своеобразны и неудачны.
Наконец Белухин убедился, что он для спекуляции не годится, и решил ехать на
Украину. Белухин когда‑то учился в школе,
знал обо всём понемножку, парень был разбитной и бывалый, но на удивление и
дико неграмотный. Бывают такие ребята: как будто всю грамоту изучил, и дроби
знает, и о процентах имеет понятие, но всё это у него удивительно коряво и
даже смешно получается. Белухин и говорил на таком же корявом языке, тем не
менее умном и с огоньком. Лежа в тифу, он был неистощимо болтлив,
и, как всегда, его остроумие удваивалось случайно комическим сочетанием слов: — Тиф — это медицинская
интеллигентность, так почему она прицепилась к рабочему от природы? Вот когда
социализм уродится, тогда эту бациллу и на порог не пустим, а если, скажем,
ей приспичит по делу: паёк получить или что, потому что и ей же, по
справедливости, жить нужно, так обратись к моему секретарю‑писателю. А
секретарём приклепаем Кольку Вершнева, потому он с книжкой, как собака с
блохой, не разлучается. Колька интеллигентность совершит, и ему — что блоха,
что бацилла соответствует по демократическому равносилию. — Я буду секретарём, а ты что будешь
делать при социализме? — спрашивает Колька Вершнев, заикаясь. Колька сидит в ногах у Белухина, по
обыкновению с книжкой, по обыкновению взлохмаченный и в изодранной рубашке. — А я буду законы писать, как вот
тебя одеть, чтобы у тебя приспособленность к человечеству была, а не как к
босяку, потому что это возмущает даже Тоську Соловьёва. Какой же ты читатель,
если ты на обезьяну похож? Да и то не у всякого обезьянщика чёрная выступает.
Правда ж, Тоська? Хлопцы хохотали над Вершневым. Вершнев не
сердился и любовно посматривал на Белухина серыми добрыми глазами. Они были
большими друзьями, пришли в колонию вместе и рядом работали в кузнице, только
Белухин уже стоял у наковальни, а Колька предпочитал дуть мехом, чтобы иметь
одну свободную руку для книжки. Тоська Соловьёв, чаще называвшийся
Антоном Семёновичем, — были мы с ним двойные тезки — имел отроду только
десять лет. Он был найден Белухиным в нашем лесу умирающим от голода уже в
беспамятстве. На Украину он выехал из Самарской губернии вместе с родителями,
в дороге потерял мать, а что потом было, и не помнит. У Тоськи хорошенькое,
ясное, детское лицо, и оно всегда обращено к Белухину. Тоська, видимо, прожил
свою маленькую жизнь без особенно сильных впечатлений, и его навсегда поразил
и приковал к себе этот весёлый, уверенный зубоскал Белухин, который
органически не мог бояться жизни и всему на свете знал цену. Тоська стоит в головах у Белухина, и его
глазёнки горят любовью и восхищением. Он звенит взрывным дискантным смехом
ребёнка: — Чёрная обезьяна! — Вот Тоська у меня будет
молодец, — Белухин вытаскивает его из‑за кровати. Тоська в смущении склоняется на
белухинский живот, покрытый ватным одеялом. — Слушай, Тоська, ты книжки не так
читай, как Колька, а то, видишь, он всякую сознательность заморочил себе. — Не он книжки читает, а книжки его
читают, — сказал Задоров с соседней кровати. Я сижу рядом за партией в шахматы с
Карабановым и думаю: «Они, кажется, забыли, что у них тиф». — Кто‑нибудь там, позовите
Екатерину Григорьевну. Екатерина Григорьевна приходит в образе
гневного ангела. — Это что за нежности? Почему здесь
Тоська вертится? Вы соображаете что‑нибудь? Это ни на что не похоже! Тоська испуганно срывается с кровати и
отступает. Карабанов цепляется за его руку, приседает и в паническом ужасе
дурашливо отшатывается в угол: — И я боюсь… Задоров хрипит: — Тоська, так ты же и Антона
Семёновича возьми за руку. Что же ты его бросил? Екатерина Григорьевна беспомощно
оглядывается среди радостной толпы. — Совершенно так, как у зулусов. — Зулусы — это которые без штанов
ходят, а для продовольствия употребляют знакомых, — говорит важно
Белухин. — Подойдет этак к барышне: «Позвольте вас сопроводить». Та,
конечно, рада: «Ах, зачем же, я сама проводюся». — «Нет, как же можно, разве
можно, чтобы самой». Ну, до переулка доведёт и слопает. И даже без горчицы. Из дальнего угла раздаётся заливчатый
дискант Тоськи. И Екатерина Григорьевна улыбается: — Там барышень едят, а здесь малых
детей пускают к тифозному. Всё равно. Вершнев находит момент отомстить
Белухину: — Зззулусы нне едят ннникаких
ббарышень. И конечно, кккультурнее ттебя. Зззаразишь Тттоську. — А вы, Вершнев, почему сидите на
этой кровати? — замечает его Екатерина Григорьевна. — Немедленно
уходите отсюда! Вершнев смущённо начинает собирать свои
книжки, разбросанные на кровати Белухина. Задоров вступается: — Он не барышня. Его Белухин не
будет шамать. Тоська уже стоит рядом с Екатериной
Григорьевной и говорит как будто задумчиво: — Матвей не будет есть чёрную
обезьяну. Вершнев под одной рукой уносит целую кучу
книг, а под другой неожиданно оказывается Тоська, дрыгает ногами, хохочет.
Вся эта группа сваливается на кровать Вершнева, в самом дальнем углу. Наутро глубокий воз, изготовленный по
проекту Калины Ивановича и немного похожий на гроб, наполнен до отказа.
Завернутые в одеяла, сидят на дне подводы наши тифозные. На краю гроба
положена доска, и на ней возвышаемся мы с Братченко. На душе у меня скверно,
потому что предчувствую повторение той же канители, которая встретила
Ветковского. И нет у меня никакой уверенности, что ребята едут именно
лечиться. (В «Педагогической поэме» Осадчий лежит и судорожно стягивает одеяло
на плечах. Из одеяла выглядывает чёрно‑серая вата, у моих ног я вижу
ботинок Осадчего, корявый и истерзанный. Белухин надел одеяло на голову,
построил из него трубку и говорит: — Народы эти подумают, что попы
едут. Зачем такую массу попов везут? Задоров улыбается в ответ, и по этой
улыбке видно, как ему плохо. В больничном городке прежняя обстановка. Я
нахожу сестру, которая работает в палате, где лежит Костя. Она с трудом
затормаживает стремительный бег по коридору. — Ветковский? Кажется, в этой
палате… — В каком он состоянии? — Ещё ничего не известно. Антон за спиной дёргает кнутом по
воздуху: — Вот ещё: неизвестно! Как же это —
неизвестно? — Это с вами мальчик? — сестра
брезгливо смотрит на отсыревшего, пахнущего навозом Антона, к штанам которого
прицепились соломинки. — Мы из колонии имени
Горького, — начинаю я осторожно. — Здесь наш воспитанник
Ветковский. А сейчас я привёз ещё троих, кажется тоже с тифом. — Так вы обратитесь в приёмную. — Да в приёмной толпа. А кроме того,
я хотел бы, чтобы ребята были вместе. — Мы не можем всяким капризам
потурать! Так и сказала «потурать». И двинулась
вперёд. Но Антон у неё на дороге: — Как же это? Вы же можете
поговорить с человеком! — Идите в приёмную, товарищи, нечего
здесь разговаривать. Сестра рассердилась на Антона,
рассердился на Антона и я: — Убирайся отсюда, не мешай! Антон никуда, впрочем, не убирается. Он
удивлённо смотрит на меня и на сестру, а я говорю сестре тем же раздраженным
тоном: — Дайте себе труд выслушать два
слова. Мне нужно, чтобы ребята выздоровели обязательно. За каждого
выздоровевшего я уплачиваю два пуда пшеничной муки. Но я бы желал иметь дело
с одним человеком. Ветковский у вас. Устройте так, чтобы и остальные ребята
были у вас. Сестра обалдевает, вероятно, от
оскорбления. — Как это — «пшеничной муки»? Что
это — взятка? Я не понимаю! — Это не взятка — это премия,
понимаете? Если вы не согласны, я найду другую сестру. Это не взятка: мы
просим некоторого излишнего внимания к нашим больным, некоторой, может быть,
добавочной работы. Дело, видите ли, в том, что они плохо питались и у них
нет, понимаете, родственников. — Я без пшеничной муки возьму их к
себе, если вы хотите. Сколько их? — Сейчас я привёз троих, но,
вероятно, ещё привезу. — Ну идёмте. Я и Антон идём за сестрой. Антон хитро
щурит глаза и кивает на сестру, но, видимо, и он поражён таким оборотом дела.
Он покорно принимает моё нежелание отвечать его гримасам. Сестра нас проводит в какую‑то
комнату в дальнем углу больницы, Антон привёл наших больных. У всех, конечно, тиф. Дежурный фельдшер
несколько удивлённо рассматривает наши ватные одеяла, но сестра убедительным
голосом говорит ему: — Это из колонии имени Горького,
отправьте их в мою палату. — А разве у вас есть места? — Это мы устроим. Двое сегодня
выписываются, а третью кровать найдём, где поставить. Белухин весело с нами прощается: — Привозите ещё, теплее будет. Его желание мы исполнили через день:
привезли Голоса и Шнайдера, а через неделю ещё троих. На этом, к счастью, и кончилось. Несколько раз Антон заезжал в больницу и
узнавал у сестры, в каком положении наши дела. Тифу не удалось ничего
поделать с колонистами. Мы уже собирались кое за кем ехать в
город, как вдруг в звенящий весенний полдень из лесу вышла тень, завёрнутая в
ватноеь одеяло. Тень прямо вошла в кузницу и запищала: — Ну хлебные токари, как вы тут
живёте? А ты всё читаешь? Смотри, вон у тебя мозговая нитка из уха лезет… Ребята пришли в восторг: Белухин, хоть и
худой и почерневший, был по‑прежнему весел и ничего не боялся в жизни. Екатерина Григорьевна накинулась на него:
зачем пришёл пешком, почему не подождал, пока приедут? — Видите ли, Екатерина Григорьевна,
я бы и подождал, но очень уж по шамовке соскучился. Как подумаю: там же наши
житный хлеб едят, и кондёр едят, и кашу едят по полной миске, — так,
понимаете, такая тоска у меня по всей психологии распространяется… не могу я
наблюдать, как они этот габерсуп… ха‑ха‑ха‑ха! — Что за габерсуп? — Да это, знаете, Гоголь такой суп
изобразил, так мне страшно понравилось. И в больнице этот габерсуп полюбили
употреблять, а я как увижу его, так такая смешливость в моём
организме, — не могу себя никак приспособить: хохочу, и всё. Аж сестра
уже ругаться начала, а мне после того ещё охотнее — смеюсь и смеюсь. Как
вспомню: габерсуп… А есть никак не могу: только за ложку — умираю со смеху.
Так я и ушёл от них… У вас что, обедали? Каша, небось, сегодня? Екатерина Григорьевна достала где‑то
молока: нельзя же больному сразу кашу! Белухин радостно поблагодарил: — Вот спасибо, уважили умирающего. Но молоко всё же вылил в кашу. Екатерина
Григорьевна махнула на него рукой. Скоро возвратились и остальные. Сестре Антон отвёз на квартиру мешок
белой муки. |
|
||||
|
|
17. Шарин на расправе
Забывался постепенно «наш найкращий»,
забывались тифозные неприятности, забывалась зима с отмороженными ногами, с
рубкой дров и «ковзалкой», но не могли забыть в наробразе моих «аракчеевских»
формул дисциплины. Разговаривать со мною в наробразе начали тоже почти по‑аракчеевски: — Мы этот ваш жандармский опыт
прихлопнем. Нужно строить соцвос, а не застенок. В своём докладе о дисциплине я позволил
себе усомниться в правильности общепринятых в то время положений,
утверждающих, что наказание воспитывает раба, что необходимо дать полный
отпор творчеству ребёнка, нужно больше всего полагаться на самоорганизацию и
самодисциплину. Я позволил себе выставить несомненное для меня утверждение,
что пока не создан коллектив и органы коллектива, пока нет традиций и не
воспитаны первичные трудовые и бытовые навыки, воспитатель имеет право и
должен не отказываться от принуждения. Я утверждал также, что нельзя
основывать всё воспитание на интересе, что воспитание чувства долга часто
становится в противоречие с интересом ребёнка, в особенности так, как он его
понимает. Я требовал воспитания закалённого, крепкого человека, могущего проделывать
и неприятную работу, и скучную работу, если она вызывается интересами
коллектива. В итоге я отстаивал линию создания
сильного, если нужного, и сурового, воодушевлённого коллектива, и только на
коллектив возлагал все надежды; мои противники тыкали мне в нос аксиомами
педологии и танцевали только от «ребёнка». Я был уже готов к тому, что колонию
«прихлопнут», но злобы дня в колонии — посевная кампания и всё тот же ремонт
второй колонии — не позволяли мне специально страдать по случаю
наробразовских гонений. Кто‑то меня, очевидно, защищал, потому что меня
не прихлопывали очень долго. А чего бы, кажется, проще: взять и снять с
работы. Но в наробраз я старался не ездить:
слишком неласково и даже пренебрежительно со мной там разговаривали. Особенно
заедал меня один из инспекторов, Шарин — очень красивый кокетливый брюнет с
прекрасными вьющимися волосами, победитель сердцем губернских дам. У него
толстые, красные и влажные губы и круглые подчёркнутые брови. Кто его знает,
чем он занимался до 1917 года, но теперь он великий специалист как раз по
социальному воспитанию. Он прекрасно усвоил несколько сот модных терминов и
умел бесконечно низать пустые словесные трели, убеждённый, что за ними
скрываются педагогические и революционные ценности. Ко мне он относился высокомерно‑враждебно
с того дня, когда я не удержался от действительно неудержимого смеха. Заехал он как‑то в колонию. В моём
кабинете увидел на столе барометр‑анероид. — Что это за штука? — спросил
он. — Барометр. — Какой барометр? — Барометр, — удивился
я, — погоду у нас предсказывает. — Предсказывает погоду? Как же он
может предсказывать погоду, когда он стоит у вас на столе? Ведь погода не
здесь, а на дворе. Вот в этот момент я и расхохотался
неприлично, неудержимо. Если бы Шарин не имел такого учёного вида, если бы не
его приват‑доцентская шевелюра, если бы не его апломб учёного! Он очень рассердился: — Что вы смеетесь? А ещё педагог.
Как вы можете воспитывать ваших воспитанников? Вы должны мне объяснить, если
видите, что я не знаю, а не смеяться. Нет, я не способен был на такое
великодушие — я продолжал хохотать. Когда‑то я слышал анекдот, почти
буквально повторявший мой разговор с Шариным о барометре, и мне показалось
удивительно забавным, что такие глупые анекдоты повторяются в жизни и что в
них принимают участие инспектора губнаробраза. Шарин обиделся и уехал. Во время моего доклада о дисциплине он
меня «крыл» беспощадно. — Локализованная система медико‑педагогического
воздействия на личность ребёнка, поскольку она дифференцируется в учреждении
социального воспитания, должна превалировать настолько, насколько она
согласуется с естественными потребностями ребёнка и настолько она выявляет
творческие перспективы в развитии данной структуры — биологической,
социальной и экономической. Исходя из этого мы констатируем… Он в течение двух часов, почти не
переводя духа и с полузакрытыми глазами, давил собрание подобной учёной
резиной, но закончил с чисто житейским пафосом: — Жизнь есть весёлость. Вот этот самый Шарин и нанёс мне
сокрушительный удар весной 1922 года. Особый отдел Первой запасной прислал в
колонию воспитанника с требованием обязательно принять. И раньше особый отдел
и ЧК, случалось, присылали ребят. Принял. Через два дня меня вызвал Шарин. — Вы приняли Евгеньева? — Принял. — Какое вы имели право принять
воспитанника без нашего разрешения? — Прислал Особый отдел Первой
запасной. — Что мне Особый отдел? Вы не имеете
права принимать без нашего разрешения. — Я не могу не принять, если
присылает Особый отдел. А если вы считаете, что он присылать не может, то как‑нибудь
уладьте с ним этот вопрос. Не могу же я быть судьей между вами и Особым
отделом. — Немедленно отправьте Евгеньева
обратно. — Только по вашему письменному
распоряжению. — Для вас должно быть действительно
и моё устное распоряжение. — Дайте письменное распоряжение. — Я ваш начальник и могу вас сейчас
арестовать на семь суток за неисполнение моего устного распоряжения. — Хорошо, арестуйте. Я видел, что человеку очень хочется
использовать своё право арестовать меня на семь суток. Зачем искать другие
поводы, когда уже есть повод? — Вы не отправите мальчика? — Не отправлю без письменного
приказа. Мне выгоднее, видите ли, быть арестованным товарищем Шариным, чем
Особым отделом. — Почему Шариным выгоднее? —
серьёзно заинтересовался инспектор. — Знаете, как‑то приятнее.
Всё-таки по педагогической линии. — В таком случае вы арестованы. Он ухватил телефонную трубку. — Милиция?.. Немедленно пришлите
милиционера взять заведующего колонией Горького, которого я арестовал на семь
суток… Шарин. — Мне что же? Ожидать в вашем
кабинете? — Да, вы будете здесь ожидать. — Может быть, вы меня отпустите на
честное слово? Пока придёт милиционер, я получу кое‑что в складе и
отправлю мальчика в колонию. — Вы никуда не пойдёте отсюда. Шарин схватил с вешалки плюшевую шляпу,
которая очень шла к его чёрной шевелюре, и вылетел из кабинета. Тогда я взял
телефонную трубку и вызвал предгубисполкома. Он терпеливо выслушал мой
рассказ: — Вот что, голубчик, не
расстраивайтесь, и поезжайте домой спокойно. Впрочем, лучше подождите милиционера
и скажите, чтобы он вызвал меня. Пришёл милиционер. — Вы заведующий колонией? — Я. — Так, значит, идёмте. — Предгубисполкома распорядился, что
я могу ехать домой. Просил вас позвонить. — Я никуда не буду звонить, пускай в
районе начальник звонит. Идёмте. На улице Антон с удивлением посмотрел на
меня в сопровождении конвоя. — Подожди меня здесь. — А вас скоро выпустят? — Ты откуда знаешь, что меня можно
выпустить? — А тут чёрный проходил, так сказал:
поезжай домой, заведующий не поедет. А бабы вышли какие‑то в шапочках,
так говорят: ваш заведующий арестован. — Подожди, я сейчас приду. В районе пришлось ожидать начальника.
Только к четырём часам он выпустил меня на свободу. Подвода была нагружена доверху мешками и
ящиками. Мы с Антоном мирно ползли по Харьковскому шоссе, думали о своих
делах, он, вероятно, — о фураже и выпасе, а я — о превратностях судьбы,
специально приготовленных для завколов. Несколько раз останавливались,
поправляли расползавшиеся мешки, вновь взбирались на них и ехали дальше. Антон уже дёрнул левую вожжу, поворачивая
на дорогу к колонии, как вдруг Малыш хватил в сторону, вздёрнул голову,
попробовал вздыбиться: с дороги к колонии на нас налетел, загудел, затрещал,
захрипел и пронесся к городу автомобиль. Промелькнула зелёная плюшевая шляпа,
и Шарин растерянно глянул на меня. Рядом с ним сидел и придерживал воротник
пальто усатый Черненко, председатель РКИ. Антон не имел времени удивляться
неожиданному наскоку автомобиля: что‑то напутал Малыш в сложной и
неверной системе нашей упряжи. Но и я не имел времени удивляться: на нас
карьером неслась пара колонистских лошадей, запряжённая в громыхающую гарбу,
набитую до отказа ребятами. На передке стоял и правил лошадьми Карабанов,
втянув голову в плечи и свирепо сверкая чёрными цыганскими глазами вдогонку
удиравшему автомобилю. Гарба с разбегу пронеслась мимо нас, ребята что‑то
кричали, соскакивали с воза на землю, останавливали Карабанова, смеялись.
Карабанов, наконец, очнулся и понял, в чём дело. На дорожном перекрестке
образовалась целая ярмарка. Хлопцы обступили меня. Карабанов, видимо,
был недоволен, что всё так прозаически кончилось. Он даже не слез с гарбы, а
со злобой поворачивал лошадей и ругался: — Да, повертайся ж, сатана! От,
чорты б тебе, позаводылы кляч!.. Наконец, он с последним взрывом гнева
перетянул правую и галопом понесся в колонию, стоя на передке и угрюмо
покачиваясь на ухабах. — Что у вас случилось? Что за
пожарная команда? — спросил я. — Чого вы як показылысь? —
спросил Антон. Перебивая друг друга и толкаясь, ребята
рассказали мне о том, что случилось. Представление о событии у них было очень
смутное, несмотря на то, что все они были его свидетелями. Куда они летели на
парной гарбе и что собирались совершить в городе, для них тоже было покрыто
мраком неизвестности, и мои вопросы на этот счёт они встречали даже
удивлённо. — А кто его знает? Там было бы
видно. Один Задоров мог связно поведать о
происшедшем: — Да вы знаете, это как‑то
быстро произошло, прямо налетело откуда‑то. Они проехали на машине,
мало кто и заметил, работали все. Пошли к вам, там что‑то делали, ну,
кое‑кто из наших проведал, говорит — в ящиках роются. Что такое? Хлопцы
сбежались к вашему крыльцу, а тут и они вышли. Слышим, говорят Ивану
Ивановичу: «Принимайте заведование». Ну, тут такое заварилось, ничего не
разберёшь: кто кричит, кто уже за грудки берётся, Бурун на всю колонию орёт:
«Куда Антона девали?» Настоящий бунт. Если бы не я и Иван Иванович, так до
кулаков бы дошло, а у меня даже пуговицы поотрывали. Чёрный, тот здорово
испугался да к машине, а машина тут же. Они очень быстро тронули, а ребята
бегом за машиной да кричат, руками размахивают, чёрт знает что. И как раз же
Семён из второй колонии с пустой гарбой. Мы вошли в колонию. Успокоенный Карабанов
у конюшни распрягал лошадей и отбивался от наседавшего Антона: — Вам лошади — всё равно как
автомобиль, смотри — запарили. — Ты понимаешь, Антон, тут было не
до коней. Понимаешь? — весело блестел зубами и глазами Карабанов. — Да ещё раньше тебя, в городе,
понял. Вы тут обедали, а нас по милициям водили. Воспитателей я нашёл в состоянии
последнего испуга. Иван Иванович был такой — хоть в постель укладывай. — Вы подумайте, Антон Семёнович, чем
это могло кончиться? Такие свирепые рожи у всех, — я думал, без ножей не
обойдётся. Спасибо Задорову: один не потерял головы. Мы их разбрасываем, а
они, как собаки, злые, кричат… Фу‑у!.. Я ребят не расспрашивал и вообще сделал
вид, что ничего особенного не случилось, и они меня тоже ни о чём не пытали.
Это было для них, пожалуй, и неинтересно: горьковцы были большими реалистами,
их могло занимать только то, что непосредственно определяло поведение. В наробраз меня не вызывали, по своему
почину я тоже не ездил. Через неделю пришлось мне зайти в губРКИ. Меня
пригласили в кабинет к председателю. Черненко, встретил меня, как
родственника. — Садись, голубь, садись, —
говорил он, потрясая мою руку и разглядывая меня с радостной улыбкой. —
Ах, какие у тебя молодцы! Ты знаешь, после того, что мне наговорил Шарин, я
думал, встречу забитых, несчастных, ну, понимаешь, жалких таких… А они,
сукины сыны, как завертелись вокруг нас: черти, настоящие черти. А как за
нами погнались, чёрт, такое дело! Шарин сидит и всё толкует: «Я думаю, они
нас не догонят». А я ему отвечаю: «Хорошо, если в машине всё исправно». Ах,
какая прелесть! Давно такой прелести не видел. Я тут рассказал кой‑кому,
животы рвали, под столы лезли… С этого дня началась у нас дружба с
Черненко. |
|
||||
|
|
18. «Смычка» с селянством
Ремонт имения Трепке оказался для нас
невероятно громоздкой и тяжёлой штукой. Домов было много, все они требовали
не ремонта, а почти полной перестройки. С деньгами было всегда напряжённо.
Помощь губернских учреждений выражалась главным образом в выдаче нам разных
нарядов на строительные материалы, с этими нарядами нужно было ездить в
другие города — Киев, Харьков. Здесь к нашим нарядам относились свысока,
материалы выдавали в размере десяти процентов требуемого, а иногда и вовсе не
выдавали. Полвагона стекла, которое нам после нескольких путешествий в
Харьков удалось всё же получить, были у нас отняты на рельсах, в самом нашем
городе, гораздо более сильной организацией, чем колония. Недостаток денег ставил нас в очень
затруднительное положение с рабочей силой, на наёмных рабочих надеяться почти
не приходилось. Только плотничьи работы мы производили при помощи артели
плотников. Но скоро мы нашли источник денежной
энергии. Это были старые, разрушенные сараи и конюшни, которых во второй
колонии было видимо‑невидимо. Трепке имели конный завод; в наши планы
производство племенных лошадей пока что не входило, да и восстановление этих
конюшен для нас оказалось бы не по силам — «не к нашему рылу крыльцо», как
говорил Калина Иванович. Мы начали разбирать эти постройки и
кирпич продавать селянам. Покупателей нашлось множество: всякому порядочному
человеку нужно и печку поставить, и погреб выложить, а представители племени
кулаков, по свойственной этому племени жадности, покупали кирпич просто в
запас. Разборку производили колонисты. В кузнице
из разного старого барахла наделали ломиков, и работа закипела. Так как колонисты работали половину дня,
а вторую половину проводили за учебными столами, то в течение дня ребята
отправлялись во вторую колонию дважды: первая и вторая смены. Эти группы
курсировали между колониями с самым деловым видом, что, впрочем, не мешало им
иногда отвлекаться от прямого пути в погоне за какой‑нибудь
классической «зозулястой» куркой, доверчиво вышедшей за пределы двора
подышать свежим воздухом. Поимки этой курки, а тем более полное использование
всех калорий, в ней заключающихся, были операциями сложными и требовали
энергии, осмотрительности, хладнокровия и энтузиазма. Операции эти
усложнялись ещё и потому, что наши колонисты всё-таки имели отношение к
истории культуры и без огня обходиться не могли. Походы на работу во вторую колонию вообще
позволяли колонистам стать в более тесные отношения с крестьянским миром,
причём, в полном согласии с положениями исторического материализма, раньше
всего колонистов заинтересовала крестьянская экономическая база, к которой
они придвинулись вплотную в описываемый период. Не забираясь далеко в
рассуждения о различных надстройках, колонисты прямым путём проникали в
каморки и погреба и, как умели, распоряжались собранными в них богатствами.
Вполне правильно ожидая сопротивления своим действиям со стороны мелкособственнических
инстинктов населения, колонисты старались проходить историю культуры в такие
часы, когда инстинкты эти спят, то есть по ночам. И в полном согласии с
наукой колонисты в течение некоторого времени интересовались исключительно
удовлетворением самой первичной потребности человека — в пище. Молоко,
сметана, сало, пироги — вот краткая номенклатура, которая в то время
применялась колонией имени Горького в деле «смычки» с селом. Пока этим столь научно обоснованным делом
занимались Карабановы, Таранцы, Волоховы, Осадчие, Митягины, я мог спать
спокойно, ибо эти люди отличались полным знанием дела и добросовестностью.
Селяне по утрам после краткого переучёта своего имущества приходили к
заключению, что двух кувшинов молока не хватает, тем более что и сами кувшины
стояли тут же и свидетельствовали о своевременности переучёта. Но замок на
погребе находился в полной исправности и даже был заперт непосредственно
перед переучётом, крыша была цела, собака ночью «не гавкав», и вообще все
предметы, одушевлённые и неодушевлённые, глядели на мир открытыми и
доверчивыми глазами. Совсем другое началось, когда к
прохождению курса первобытной культуры приступило молодое поколение. В этом
случае замок встречал хозяина с перекошенной от ужаса физиономией, ибо самая
жизнь его была, собственно говоря, ликвидирована неумелым обращением с
отмычкой, а то и ломиком, предназначенным для дела восстановления бывшего
имения Трепке. Собака, как вспомнил хозяин, ночью не только «гавкав», но
прямо‑таки «разрывався на части», и только хозяйская лень была причиной
того, что собака не получила своевременного подкрепления.
Неквалифицированная, грубая работа наших пацанов привела к тому, что скоро им
самим пришлось переживать ужас погони разъярённого хозяина, поднятого с
постели упомянутой собакой или даже с вечера поджидавшего непрошеного гостя.
В этих погонях заключались уже первые элементы моего беспокойства.
Неудачливый пацан бежал, конечно, в колонию, чего никогда бы не сделало
старшее поколение. Хозяин приходил тоже в колонию, будил меня и требовал
выдачи преступника. Но преступник уже лежал в постели, и я имел возможность
наивно спрашивать: — Вы можете узнать этого мальчика? — Да как же я его узнаю? Видел, как
сюды побигло. — А может быть это не наш? —
делал я ещё более наивный подход. — Как же — не ваш? Пока ваших не
было, у нас такого не водилось. Потерпевший начинал загибать пальцы и
отмечать фактический материал, имевшийся в его распоряжении: — Вчора в ночи у Мирошничена молоко
выпито, позавчора поломано замка у Степана Верхолы, в ту субботу двое курей у
Гречаного Петра, а за день перед тем… там вдова живёт Стовбина, може знаете,
так приготовила на базарь два глечика сметаны, пришла, бедная женщина, в
погреб, а там всё чисто перевернуло и сметану попсувало. А у Василия Мощенко,
а у Укова Верхолы, а у того горбатого, як его… Нечипора Мощенка… — Да какие же доказательства? — Да какие же доказательства? Вот я
ж пришёл, бо сюды побигло. Да больше и некому. Ваши ходят в Трепке и всё
поглядывают… В то время я далеко не так добродушно относился
к событиям. Жалко было и селян, досадно и тревожно было ощущать своё полное
бессилие. Особенно неуютно было мне оттого, что я даже не знал всех историй,
и можно было подозревать что угодно. А в то время, благодаря событиям зимы, у
меня расшатались нервы. В колонии на поверхности всё
представлялось благополучным. Днём все ребята работали и учились, вечером
шутили, играли, на ночь укладывались спать и утром просыпались весёлыми и
довольными жизнью. А как раз ночью и происходили экскурсии на село. Старшие
хлопцы встречали мои возмущённые и негодующие речи покорным молчанием. На
некоторое время жалобы крестьян утихали, но потом снова возобновлялись,
разгоралась их вражда к колонии. Наше положение осложнялось тем
обстоятельством, что на большой дороге грабежи продолжались. Они приняли
теперь несколько иной характер, чем прежде: грабители забирали у селян не
столько деньги, сколько продукты, и при этом в самом небольшом количестве.
Сначала я думал, что это не наших рук дело, но селяне в интимных разговорах
доказывали: — Ни, це, мабудь, ваши. От когось
споймают, прибьют, тогда увидите. Хлопцы с жаром успокаивали меня: — Брешут граки! Может быть, кто‑нибудь
из наших и залез куда в погреб, ну… бывает. Но чтоб на дороге — так это
чепуха! Я увидел, что хлопцы искренно убеждены,
что на дороге наши не грабят, видел и то, что такой грабёж старшими
колонистами оправдан не будет. Это несколько уменьшало моё нервное
напряжение, но только до первого слуха, до ближайшей встречи с селянским
активом. Вдруг, однажды вечером, в колонию налетел
взвод конной милиции. Все выходы из наших спален были заняты часовыми, и
начался повальный обыск. Я тоже был арестован в своём кабинете, и это как раз
испортило всю затею милиции. Ребята встретили милиционеров в кулаки,
выскакивали из окон, в темноте уже начали летать кирпичи, по углам двора
завязались свалки. На стоявших у конюшни лошадей налетела целая толпа, и
лошади разбежались по всему лесу. В мой кабинет после шумной ругани и борьбы
ворвался Карабанов и крикнул: — Выходите скорийше, бо бида буде! Я выскочил во двор, и вокруг меня
моментально сгрудились оскорблённые, шипящие злобой колонисты. Задоров был в
истерике: — Когда это кончится? Пускай меня
отправят в тюрьму, надоело!.. Арестант я или кто? Арестант? Почему так,
почему обыскивают, лазят все?.. Перепуганный начальник взвода всё же
старался не терять тона: — Немедленно прикажите вашим
воспитанникам идти по спальням и стать возле своих кроватей. — На каком основании производите
обыск? — спросил я начальника. — Не ваше дело. У меня приказ. — Немедленно уезжайте из колонии. — Как это — «уезжайте»! — Без разрешения завгубнаробразом
обыска производить не дам, понимаете, не дам, буду препятствовать силой! — Как бы мы вас не обшукали! —
крикнул кто‑то из колонистов, но я на него загремел: — Молчать! — Хорошо, — сказал с угрозой
начальник, — вам придётся разговаривать иначе… Он собрал своих, кое‑как, уже при
помощи развеселившихся колонистов, нашли лошадей и уехали, сопровождаемые
ироническими напутствиями. В городе я добился выговора какому‑то
начальству. После этого налёта события стали разворачиваться быстро. Селяне
приходили ко мне возмущённые, грозили, кричали: — Вчора на дороге ваши отняли масло
и сало у Явтоховой жинки. — Брехня! — Ваши! Только шапку на глаза
надвинув, шоб не пизналы. — Да сколько же их было? — Та одын був, каже баба. И пинжачок
такой же. — Брехня! Наши не могут этим делом
заниматься. Селяне уходили, мы подавленно молчали, и
Карабанов вдруг выпаливал: — Брешут, а я говорю — брешут! Мы б
знали! Мою тревогу ребята давно уже разделяли,
даже походы на погреба как будто прекратились. С наступлением вечера колония
буквально замирала в ожидании чего‑то неожиданно нового, тяжёлого и
оскорбительного. Карабанов, Задоров, Бурун ходили из спальни в спальню, по
тёмным углам двора, лазили по лесу. Я изнервничался в это время, как никогда
в жизни. И вот… В «один прекрасный вечер» разверзлись
двери моего кабинета, и толпа ребят бросила в комнату Приходько. Карабанов,
державший Приходько за воротник, с силой швырнул его к моему столу: — Вот! — Опять с ножом? — спросил я
устало. — Какое с ножом? На дороге грабил! Мир обрушился на меня. Рефлексивно я
спросил молчащего и дрожащего Приходько. — Правда? — Правда, — прошептал он еле
слышно, глядя в землю. В какую‑то миллионную часть
мгновения произошла катастрофа. В моих руках оказался револьвер. — А! Чёрт!.. С вами жить! Но я не успел поднести револьвер к своей
голове. На меня обрушилась кричащая, плачущая толпа ребят. Очнулся я в присутствии Екатерины
Григорьевны, Задорова и Буруна. Я лежал между столом и стенкой на полу, весь
облитый водой. Задоров держал мою голову и, подняв глаза к Екатерине
Григорьевне, говорил: — Идите туда, там хлопцы… они могут
убить Приходько… Через секунду я был на дворе. Я отнял
Приходько уже в состоянии беспамятства, всего окровавленного. |
|
||||
|
|
19. Игра в фанты
Это было в начале лета 1922 года. В
колонии о преступлении Приходько замолчали. Он был сильно избит колонистами,
долго пришлось ему пролежать в постели, и мы не приставали к нему ни с какими
расспросами. Мельком я слышал, что ничего особенного в подвигах Приходько и
не было. Оружия у него не нашли. Но Приходько всё же был бандит настоящий.
На него вся катастрофа в моём кабинете, его собственная беда никакого
впечатления не произвели. И в дальнейшем он причинил колонии много неприятных
переживаний. В тоже время он по‑своему был предан колонии, и всякий
враг её не был гарантирован, что на его голову не опустится тяжёлый лом или
топор. Он был человек чрезвычайно ограниченный и жил всегда задавленный
ближайшим впечатлением, первыми мыслями, приходящими в его глупую башку. Зато
и в работе лучше Приходько не было. В самых тяжёлых заданиях он не ломал
настроения, был страстен с топором и молотом, если они опускались и не на
голову ближнего. У колонистов после описанных тяжёлых дней
появилось сильное озлобление против крестьян. Ребята не могли простить, что
они были причиной наших страданий. Я видел, что если хлопцы и удерживаются от
слишком явных обид крестьянам, то удерживаются только потому, что жалеют
меня. Мои беседы и беседы воспитателей на тему
о крестьянстве, о его труде, о необходимости уважать этот труд никогда не
воспринимались ребятами как беседы людей, более знающих и более умных, чем
они. С точки зрения колонистов, мы мало понимали в этих делах, — в их
глазах мы были городскими интеллигентами, не способными понять всю глубину
крестьянской непривлекательности. — Вы их не знаете, а мы на своей
шкуре знаем, что это за народ. Он за полфунта хлеба готов человека зарезать,
а попробуйте у него выпросить что‑нибудь… Голодному не даст ни за что,
лучше пусть у него в каморке сгинет. — Вот мы бандиты, пусть! Так мы
всё-таки знаем, что ошиблись, ну что ж… нас простили. Мы это знаем. А вот они
— так им никто не нужен: царь был плохой, советская власть тоже плохая. Ему
будет только тот хорош, кто от него ничего не потребует, а ему всё даром
даст. Граки, одно слово! — Ой, я их не люблю, этих граков,
видеть не могу, пострелял бы всех! — говорил Бурун, человек искони
городской. У Буруна на базаре всегда было одно
развлечение: подойти к селянину, стоящему возле воза и с остервенением
разглядывающему снующих вокруг него городских разбойников и спросить: — Ты урка? Селянин в недоумении забывает о своей
настороженности: — Га? — А‑а! Ты — грак! —
смеётся Бурун и делает неожиданно молниеносное движение к мешку на возу: —
Держи, дядько! Селянин долго ругается, а это как раз и
нужно Буруну: для него это всё равно, что любителю музыки послушать
симфонический концерт. Бурун говорил мне прямо: — Если бы не вы, этим куркулям
хлопотно пришлось бы. Одной из важных причин, послуживших порче
наших отношений с крестьянством, была та, что колония наша находилась в
окружении исключительно кулацких хуторов. Гончаровка, в которой жило большей
частью трудовое крестьянство, была ещё далека от нашей жизни. Ближайшие же
наши соседи, все эти Мусии Карповичи и Ефремы Сидоровичи, гнездились в
отдельно поставленных, окружённых не плетнями, а заборами, крытых аккуратно и
побеленных белоснежно хатах, ревниво никого не пускали в свои дворы, а когда
бывали в колонии, надоедали нам постоянными жалобами на продразвёрстку,
предсказывали, что при такой политике советская власть не удержится, а в то
же время выезжали на прекрасных жеребцах, по праздникам заливались самогоном,
от их жён пахло новыми ситцами, сметаной и варениками, сыновья их
представляли собой нечто вне конкурса на рынке женихов и очаровательных
кавалеров, потому что ни у кого не было таких пригнанных пиджаков, таких
новых тёмно‑зелёных фуражек, таких начищенных сапог, украшенных зимой и
летом блестящими, великолепными калошами. Колонисты хорошо знали хозяйство каждого
нашего соседа, знали даже состояние отдельной сеялки или жатки, потому что в
нашей кузнице им часто приходилось налаживать и чинить эти орудия. Знали
колонисты и печальную участь многих пастухов и работников, которых кулачьё
часто безжалостно выбрасывало из дворов, даже не расплатившись как следует. По правде говоря, я и сам заразился от
колонистов неприязнью к этому притаившемуся за воротами и заборами кулацкому
миру. Тем не менее постоянные недоразумения
меня беспокоили. Прибавилось к этому и враждебные отношения с сельским
начальством. Лука Семёнович, уступив нам трепкинское поле, не потерял надежды
выбить нас из второй колонии. Он усиленно хлопотал о передаче сельсовету
мельницы и всей трепкинской усадьбы для устройства якобы школы. Ему удалось
при помощи родственников и кумовьев в городе купить для переноса в село один
из флигелей второй колонии. Мы отбились от этого нападения кулаками и
дрекольями; мне с трудом удалось ликвидировать продажу и доказать в городе,
что флигель покупается просто на дрова для самого Луки Семёновича и его
родственников. Лука Семёнович и его приспешники писали и
посылали в город бесконечные жалобы на колонию, они деятельно поносили нас в
различных учреждениях в городе, и по их настоянию был совершен налёт милиции. Ещё зимою Лука Семёнович вечером ввалился
в мою комнату и начальственно потребовал: — А покажите мне документы, куда вы
деваете гроши, которые берёте с селянства за кузнечные работы. Я ему сказал: — Уходите! — Как? — Вон отсюда! Наверное, мой вид не
предвещал никаких успехов в выяснении судьбы селянских денег, и Лука
Семёнович смылся беспрекословно. Но после того он уже сделался открытым
врагом моим и всей нашей организации. Колонисты тоже ненавидели Луку «со всем
пылом юности». В июне, в жаркий полдень, на горизонте за
озером показалось целое шествие. Когда оно приблизилось к колонии, мы
различили потрясающие подробности: двое «граков» вели связанных Опришко и
Сороку. Опришко был во всех отношениях героической
личностью и в колонии боялся только Антона Братченко, под рукой которого
работал и от руки которого не один раз претерпевал. Он гораздо был больше
Антона и сильнее его, но использовать эти преимущества ему мешала ничем не
объяснимая влюблённость в старшего конюха и его удачу. По отношению ко всем
позволял на себе ездить. Ему помогал замечательный характер: был он всегда
весел и любил такую же весёлую компанию, а потому находился только в таких
пунктах колонии, где не было ни одного опущенного носа и кислой физиономии.
Из коллектора он ни за что не хотел отправляться в колонию, и мне пришлось
лично за ним ехать. Он встретил меня, лежа на кровати, презрительным
взглядом: — Пошли вы к чёрту, никуда я не
поеду! Меня предупредили о его героических достоинствах,
и поэтому я с ним заговорил очень подходящим тоном: — Мне очень неприятно вас беспокоить
сэр, но я принуждён исполнить свой долг и очень прошу вас занять место в
приготовленном для вас экипаже. Опришко был сначала поражён моим
«галантерейным обращением» и даже поднялся с кровати, но потом прежний каприз
взял в нём верх, и он снова опустил голову на подушку. — Сказал, что не поеду!.. И годи! — В таком случае, уважаемый сэр, я,
к великому сожалению, принуждён буду применить к вам силу. Опришко поднял с подушки кудрявую голову
и посмотрел на меня с неподдельным удивлением: — Смотри ты, откуда такой взялся?
Так меня и легко взять силой! — Имейте в виду… Я усилил нажим в голосе и уже прибавил к
нему оттенок иронии: — …дорогой Опришко… И вдруг заорал на него: — Ну, собирайся, какого чёрта
развалился! Вставай, тебе говорят! Он сорвался с постели и бросился к окну: — Ей‑богу, в окно выпрыгну! Я сказал ему с презрением: — Или прыгай немедленно в окно, или
отправляйся на воз — мне с тобой волынить некогда. Мы были на третьем этаже, поэтому Опришко
засмеялся весело и открыто. — Вот причепились!.. Ну, что ты
скажешь? Вы заведующий колонией Горького? — Да. — Ну, так бы и сказали! Давно б
поехали. Он энергично бросился собираться в
дорогу. В колонии он участвовал решительно во
всех операциях колонистов, никогда не играл первую скрипку и, кажется, больше
искал развлечений, чем какой‑либо наживы. Сорока был моложе Опришко, имел круглое
смазливое лицо, был основательно глуп, косноязычен и чрезвычайно неудачлив.
Не было такого дела, в котором он не «засыпался» бы. Поэтому, когда колонисты
увидали его связанным рядом с Опришко, они были очень недовольны: — Охота ж была Дмитру связываться с
Сорокой… Конвоирами оказались предсельсовета и
Мусий Карпович — наш старый знакомый. Мусий Карпович в настоящую минуту
держался с видом обиженного ангела. Лука Семёнович был идеально трезв и
начальственно неприступен. Его рыжая борода была аккуратно расчёсана, под
пиджаком надета чистейшая вышитая рубаха, — очевидно, недавно был в церкви. Председатель начал: — Хорошо вы воспитываете наших
колонистов. — А вам какое до этого дело? — А вот какое: людям от ваших
воспитанников житья нет, на дороге грабят, крадут всё. — Эй, дядя, а ты имел право
связывать их? — раздалось из толпы колонистов. — Он думает, что это старый режим… — Вот взять его в работу… — Замолчите! — сказал я
колонистам. — В чём дело, рассказывайте. Заговорил Мусий Карпович: — Повесила жинка спидныцю и одеяло
на плетни, а эти двое проходили, смотрю — уже нету. Я за ними, а они — бегом.
Куда ж мне за ними гнаться! Да спасибо Лука Семёнович из церкви идут, так мы
их и задержали… — Зачем связали? — опять из
толпы. — Да чтоб не повтикалы. Зачем… — Тут не об этом разговор, —
заговорил председатель, — а пойдём протокола писать. — Да можно и без протокола. Вернули
ж вам вещи? — Мало чего! Обязательно протокола. Председатель решил над нами покуражиться,
и, правду сказать, основания у него были наилучшие: первый раз поймали
колонистов на месте преступления. Для нас такой оборот дела был очень
неприятен. Протокол означал для хлопцев верный допр, а для колонии
несмываемый позор. — Эти хлопцы поймались в первый
раз, — сказал я. — Мало ли что бывает между соседями! На первый раз
нужно простить. — Нет, — сказал рыжий, —
какие там прощения! Пойдёмте в канцелярию писать протокола. Мусий Карпович тоже вспомнил: — А помните, как меня таскали ночью?
Топор и доси у вас да штрафу заплатил сколько! Да, крыть было нечем. Положили нас
куркули на обе лопатки. Я направил победителей в канцелярию, а сам сказал
хлопцам со злобой: — Допрыгались, чёрт бы вас побрал!
«Спидныци» вам нужны! Теперь позора не оберётесь… Вот колотить скоро начну
мерзавцев. А эти идиоты в допре насидятся. Хлопцы молчали, потому что действительно
допрыгались. После такой ультрапедагогической речи и я
направился в канцелярию. Часа два я просил и уламывал
председателя, обещал, что такого больше никогда не будет, согласился сделать
новый колёсный ход для сельсовета по себестоимости. Председатель, наконец,
поставил только одно условие: — Пусть все хлопцы попросят. За эти два часа я возненавидел
председателя на всю жизнь. Между разговорами у меня мелькала кровожадная
мысль: может быть, удастся поймать этого председателя в тёмном углу, будут
бить — не отниму. Так или иначе, а выхода не было. Я приказал
колонистам построиться у крыльца, на которое вышло начальство. Приложив руку
к козырьку, я от имени колонии сказал, что мы очень сожалеем об ошибке наших
товарищей, просим их простить и обещаем, что в дальнейшем такие случаи
повторяться не будут. Лука Семёнович сказал такую речь: — Безусловно, что за такие вещи
нужно поступать по всей строгости закона, потому что селянин — это безусловно
труженик. И вот, если он повесил юбку, а ты её берёшь, то это враги народа,
пролетариата. Мне, на которого возложили советскую власть, нельзя допускать
такого беззакония, чтобы всякий бандит и преступник хватал. А что вы тут
просите безусловно и обещаете, так это, кто его знает, как оно будет. Если вы
просите низко и ваш заведующий, он должен воспитывать вас к честному
гражданству, а не как бандиты. Я безусловно, прощаю. Я дрожал от унижения и злости. Опришко и
Сорока, бледные, стояли в ряду колонистов. Начальство и Мусий Карпович пожали мне
руку, что‑то говорили величественно великодушное, но я их не слышал. — Разойдись! Над колонией разлилось и застыло знойное
солнце. Притаились над землёй запахи чебреца. неподвижный воздух синими
струями окостенел над лесом. Я оглянулся вокруг. А вокруг была всё та
же колония, те же каменные коробки, те же колонисты, и завтра будет всё то
же: спидныци, председатель, Мусий Карпович, поездки в скучный, засиженный
мухами город. Прямо передо мной была дверь в мою комнату, в которой стояла
«дачка» и некрашеный стол, а на столе лежала пачка махорки. «Куда деваться? Ну, что я могу сделать? Что
я могу сделать?» Я повернул в лес. В сосновом лесу нет тени в полдень, но
здесь всегда замечательно прибрано, далеко видно, и стройные сосенки так
организованно, в таких непритязательных мизансценах умеют расположиться под
небом. Несмотря на то что мы жили в лесу, мне
почти не приходилось бывать в самой его гуще. Человеческие дела приковывали
меня к столам, верстакам, сараям и спальням. Тишина и чистота соснового леса,
пропитанный смолистым раствором воздух притягивали к себе. Хотелось никуда
отсюда не уходить и самому сделаться вот таким стройным мудрым ароматным
деревом и в такой изящной, деликатной компании стоять под синим небом. Сзади хрустнула ветка. Я оглянулся: весь
лес, сколько видно, был наполнен колонистами. Они осторожно передвигались в
перспективе стволов, только в самых отдалённых просветах перебегали по
направлению ко мне. Я остановился, удивлённый. Они тоже
замерли на месте и смотрели на меня заострёнными глазами, смотрели с каким‑то
неподвижным, испуганным ожиданием. — Вы чего здесь? Чего вы за мною
рыщите? Ближайший ко мне Задоров отделился от
дерева и грубовато сказал: — Идёмте в колонию. У меня что‑то брыкнуло в сердце. — А что в колонии случилось? — Да ничего… Идёмте. — Да говори, чёрт! Что вы, нанялись
сегодня воду варить надо мной? Я быстро шагнул к нему навстречу. Подошло
ещё два‑три человека, остальные держались в сторонке. Задоров шёпотом
сказал: — Мы уйдем, только сделайте для нас
одолжение. — Да что вам нужно? — Дайте сюда револьвер. — Револьвер? Я вдруг догадался, в чём дело, и рассмеялся: — Ах, револьвер! Извольте. Вот
чудаки! Но ведь я же могу повеситься или утопиться в озере. Задоров вдруг расхохотался на весь лес. — Да нет, пускай у вас! Нам такое в
голову пришло. Вы гуляете? Ну, гуляйте. Хлопцы, назад. Что же случилось? Когда я повернул в лес, Сорока влетел в
спальню: — Ой, хлопцы, голубчики ж, ой,
скорийше, идить в лес! Антон Семёнович стреляться… Его не дослушали и вырвались из спальни. Вечером все были невероятно смущены,
только Карабанов валял дурака и вертелся между кроватями, как бес. Задоров
мило скалил зубы и всё почему‑то прижимался к цветущему личику
Шелапутина. Бурун не отходил от меня и настойчиво‑таинственно
помалкивал. Опришко занимался истерикой: лежал в комнате у Козыря и ревел в
грязную подушку. Сорока, избегая насмешек ребят, где‑то скрылся. Задоров сказал: — Давайте играть в фанты. И мы действительно играли в фанты. Бывают
же такие гримасы педагогики: сорок достаточно оборванных, в достаточной мере
голодных ребят при свете керосиновой лампочки самым весёлым образом
занимались фантами. Только без поцелуев. |
|
||||
|
|
20. О живом и мёртвом
Весною нас к стенке прижали вопросы
инвентаря. Малыш и Бандитка просто никуда не годились, на них нельзя было
работать. Ежедневно с утра в конюшне Калина Иванович произносил контрреволюционные
речи, упрекая советскую власть в бесхозяйственности и безжалостном отношении
к животным: — Если ты строишь хозяйство, так и
дай же живой инвентарь, а не мучай бессловесную тварь. Теорехтически это,
конечно, лошадь, а прахтически так она падает, и жалко смотреть, а не то что
работать. Братченко вёл прямую линию. Он любил
лошадей просто за то, что они живые лошади, и всякая лишняя работа,
наваленная на его любимцев, его возмущала и оскорбляла. На всякие
домогательства и упреки он всегда имел в запасе убийственный довод: — А вот если бы тебя заставили
потягать плуг? Интересно бы послушать, как бы ты запел. Разговоры Калины Ивановича он понимал как
директиву не давать лошадей ни для какой работы. Но мы и требовать не имели
охоты. Во второй колонии была уже отстроена конюшня, нужно было ранней весной
перевести туда двух лошадей для вспашки и посева. Но переводить было нечего. Как‑то в разговоре с Черненко,
председателем губернской РКИ, я рассказал о наших затруднениях: с мёртвым
инвентарём как‑то перекрутимся, на весну хватит, а вот с лошадьми беда.
Ведь шестьдесят десятин! А не обработаем — что нам запоют селяне? Черненко задумался и вдруг вскочил с
радостью: — Стой! У меня же здесь имеется
хозяйственная часть. На весну нам лошадей столько не нужно. Я вам дам на
время трёх, и кормить не нужно будет, а вы месяца через полтора возвратите.
Да вот поговори с нашим завхозом. Завхоз РКИ оказался человеком крутым и
хозяйственным. Он потребовал солидную плату за прокат лошадей: за каждый
месяц пять пудов пшеницы и колёса для их экипажа: — У вас же есть колёсная. — Разве же так можно? Шкуру
сдираете? С кого? — Я заведующий хозяйством, а не
добрая барыня. Лошади какие! Я не дал бы ни за что — испортите, загоняете,
знаю вас. Я таких лошадей два года собирал — не лошади, а красота! Впрочем, я мог бы наобещать ему по сто
пудов пшеницы и колёса для всех экипажей в городе. Нам нужны были лошади. Завхоз написал договор в двух
экземплярах, в котором всё было изложено очень подробно и внушительно: «…именуемая в дальнейшем колонией…
каковые колёса будут считаться переданными хозяйственной части губРКИ после
приёма их специальной комиссией и составления соответствующего акта… За
каждый просроченный день возвращения лошадей колония уплачивает хозяйственной
части губРКИ по десять фунтов пшеницы за одну лошадь… А в случае невыполнения
колонией настоящего договора колония уплачивает неустойку в размере
пятикратной стоимости убытков…» На другой день Калина Иванович и Антон с
большим торжеством въехали в колонию. Малыши с утра дежурили на дороге; вся
колония, даже воспитатели, томились в ожидании. Шелапутин с Тоськой выиграли
больше всех: они встретили процессию на шоссе и немедленно взгромоздились на
коней. Калина Иванович не способен был ни улыбаться, ни разговаривать, настолько
наполнили его существо важность и недоступность. Антон даже головы не
повернул в нашу сторону, вообще все живые существа потеряли для него всякую
цену, кроме тройки вороных лошадей, привязанных сзади к нашему возу. Калина
Иванович вылез из гробика, стряхнул солому и сказал Антону: — Ты ж там смотри, поставить как
следует, это тебе не какие‑нибудь Бандитки. Антон, бросив отрывистые распоряжения
своим помощникам, запихивал старых любимцев в самые дальние и неудобные
станки, грозил чересседельником любопытным, заглядывающим в конюшню, а Калине
Ивановичу ответил по‑приятельски грубовато: — Упряжь гони, Калина Иванович, это
барахло не годится! Лошади были все вороные, высокие и
упитанные. Они принесли с собою старые клички, и это в глазах колонистов
сообщало им некоторую родовитость. Звали их: Зверь, Коршун и Мэри. Впрочем, Зверь скоро разочаровал нас: это
был видный жеребец, но для сельскохозяйственной работы не подходил, скоро
уставал и задыхался. Зато Коршун и Мэри оказались во всех отношениях удобными
коняками: сильными, тихими, красивыми. Надежды Антона на какую‑то
чудесную рысь, благодаря которой он надеялся затмить нашим выездом всех
городских извозчиков, правда, оказались напрасными, но в плуге и в сеялке они
были великолепны, и Калина Иванович только кряхтел от удовольствия,
докладывая мне по вечерам, сколько вспахано и сколько засеяно. Беспокоило его
только в высшей степени неудобное ведомственное положение лошадиных хозяев. — всё это хорошо, знаешь, а только с этим
РКИ связываться… как‑то оно… Что захотят, то и сделают. А жалиться куда
пойдёшь? В РКИ? Во второй колонии зашевелилась жизнь.
Один из домов был закончен, и в нём поселилось шесть колонистов. Жили они там
без воспитателя и без кухарки, запаслись кое‑какими продуктами из нашей
кладовой и кое‑как сами готовили себе пищу в печурке в саду. На
обязанности их лежало: охранять сад и постройки, держать переправу на
Коломаке и работать в конюшне, в которой стояли две лошади и где эмиссаром
Братченко сидел Опришко. Сам Антон решил остаться в главной колонии; здесь
было люднее и веселее. Он ежедневно совершал инспекторские наезды во вторую
колонию, и его посещений побаивались не только конюхи, не только Опришко, но
и все колонисты. На полях второй колонии шла большая
работа. Шестьдесят десятин все были засеяны, правда, без особенного
агрономического умения и без правильного плана полей, но была там и пшеница
озимая, и пшеница яровая, и рожь, и овёс. Несколько десятин было под
картофелем и свёклой. Здесь требовались полка и окучивание, и нам поэтому
приходилось разрываться на части. В это время в колонии было уже шестьдесят
колонистов. Между первой и второй колониями в течение
всего дня и до самой глубокой ночи совершалось движение: проходили группы
колонистов на работу и с работы, проезжали наши подводы с семенным
материалом, фуражом и продуктами для колонистов, проезжали наёмные селянские
подводы с материалами для постройки, Калина Иванович в стареньком кабриолете,
который он где‑то выпросил, верхом на Звере проносился Антон,
замечательно ловко сидя в седле. По воскресеньям вся колония отправлялась
купаться к Коломаку, — колонисты, воспитатели, а за ними как‑то
понемногу приучились собираться на берегу уютной, весёлой речушки соседские
парубки и девчата, комсомольцы с Пироговки и Гончаровки и кулацкие сынки с
наших хуторов. Наши столяры выстроили на Коломаке небольшую пристань, и мы
держали на ней флаг с буквами «КГ». Между пристанью и нашим берегом целый
день курсировала зелёная лодка с таким же флагом, обслуживаемая Митькой
Жевелием и Витькой Богоявленским. Наши девчата, хорошо разбираясь в значении
нашего представительства на Коломаке, из разных остатков девичьих нарядов
сшили Митьке и Витьке матросские рубашки, и много пацанов как в колонии, так
и на много километров кругом свирепо завидовали этим двум исключительно
счастливым людям. Коломак сделался центральным нашим клубом. В самой колонии было весело и звучно от
постоянного рабочего напряжения, от неизбывной рабочей заботы, от приезда
селян‑заказчиков, от воркотни Антона и сентенций Калины Ивановича. от неистощимого
хохота и проделок Карабанова, Задорова и Белухина, от неудач Сороки и
Галатенко, от струнного звона сосен, от солнца и молодости. К этому времени мы уже забыли, что такое
грязь, что такие вши и чесотка. Колония блистала чистотой и новыми заплатами,
аккуратно наложенными на каждое подозрительное место всё равно на каком
предмете: на штанах, на заборе, на стенке сарая, на старом крылечке. В
спальнях стояли те же «дачки», но на них запрещалось сидеть днём, и для этого
специально имелись некрашеные сосновые лавки. В столовой такие же некрашеные
столы ежедневно скоблились особыми ножами, сделанными в кузнице. В кузнице к этому времени совершились
существенные перемены. Дьявольский план Калины Ивановича был уже выполнен
полностью: Голованя прогнали за пьянство и контрреволюционные собеседования с
заказчиками, но кузнечное оборудование Головань и не пытался получить обратно
— безнадёжное это было дело. Он только укоризненно и иронически покачал
головой, когда уходил: — И вы такие ж хозяева, як и
вси, — ограбили чоловика, от и хозяева! Белухина такими речами нельзя было
смутить, человек недаром читал книжки и жил между людьми. Он бодро улыбнулся
в лицо Голованя и сказал: — Какой ты несознательный гражданин,
Софрон! Работаешь у нас второй год, а до сих пор не понимаешь: это ведь
орудия производства. — Ну, я ж и кажу… — А орудия производства должны,
понимаешь, по науке, принадлежать пролетариату. А вот тебе и пролетариат
стоит, видишь? И показал Голованю настоящих живых
представителей славного класса пролетариев: Задорова, Вершнева и Кузьму
Лешего. В кузнице командует Семён Богданенко,
настоящий потомственный кузнец, фамилия, пользующаяся старой славой в
паровозных мастерских. У Семёна в кузнице военная дисциплина и чистота, все
гладилки, молотки и молоты чинно глядят каждый с назначенного ему места,
земляной пол выметен, как в хате у хорошей хозяйки, на горне не просыпано ни
одного грамма угля, а с заказчиками разговоры очень короткие и ясные: — Здесь тебе не церковь — нечего
торговаться. Семён Богданенко грамотен, чисто выбрит и
никогда не ругается. В кузнице работы по горло: и наш
инвентарь и селянский. Другие мастерские в это время почти прекратили работу,
только Козырь с двумя колонистами по‑прежнему возился в своём колёсном
сарайчике: на колёса спрос не уменьшался. Для хозяйственной части РКИ нужны были
особые колёса — под резиновые шины, а таких колёс Козырь никогда не делал. Он
был очень смущён этой гримасой цивилизации и каждый вечер после работы
грустил: — Не знали мы этих резиновых шин.
Господь наш Иисус Христос пешком ходил и апостолы… а теперь люди на железных
шинах пусть бы ездили. Калина Иванович строго говорил Козырю: — А железная дорога? А автомобиль?
Как, по‑твоему? Что ж с того, что твой господь пешком ходив? Значит,
некультурный или, может, деревенский, такой же, как и ты. А может, ходив
того, что голодранець, а як бы посадив его на машину, так и понравилось бы. А
то — «пешком ходив!» Стыдно старому человеку такое говорить. Козырь несмело улыбнулся и растерянно
шептал. — Если б посмотреть, как это под
резиновые шины, так, может, с божьей помощью и сделали бы. А на сколько ж
спиц, господь его знает! — Да ты пойди в РКИ и посмотри.
Посчитай. — Господи прости, где мне, старому,
найти такое? Как‑то в середине июня Черненко
захотел ребятам доставить удовольствие: — Я тут кое с кем говорил, так к вам
балерины приедут, пусть ребята посмотрят. У нас в оперном, знаешь, хорошие
балерины. Ты вечерком их доставь туда. — Это хорошо. — Только смотри, народ они нежный, а
твои бандиты их перепугают чем. Да на чём ты их довезешь? — А у нас есть экипаж. — Видел я. Не годится. Ты пришли
лошадей, а экипаж пусть возьмут мой, здесь запрягут и — за балеринами. Да на
дороге поставь охрану, а то ещё попадутся кому в лапы: вещь соблазнительная. Балерины приехали поздно вечером, всю
дорогу дрожали, смешили Антона, который их успокаивал: — Да что вы боитесь, у вас же и
взять нечего. Это не зима: зимой шубы забрали бы. Наша охрана, неожиданно вынырнувшая из
лесу, привела балерин в такое состояние, что по приезде в колонию их немедленно
нужно было поить валерьянкой. Танцевали они очень неохотно и сильно не
понравились ребятам. Одна, помоложе, с великолепной и выразительной смуглой
спиной, в течение вечера всю эту спину истратила на выражение высокомерного и
брезгливого равнодушия ко всей колонии. Другая, постарше, поглядывала на нас
с нескрываемым страхом. Её вид особенно раздражал Антона: — Ну, скажите, пожалуйста, стоило
пару коней гонять в город и обратно, а потом опять в город и обратно? Я вам
таких и пешком приведу сколько угодно из города. — Так те танцевать не будут! —
смеётся Задоров. — Ого! Хиба ж так? За роялем, давно уже украшавшим одну из
наших спален, — Екатерина Григорьевна. Играет она слабо, и музыка её не
приспособлена к балету, а балерины не настолько деликатны, чтобы как‑нибудь
замять два‑три такта. Они обиженно изнемогают от варварских ошибок и
остановок. Кроме того, они страшно спешили на какой‑то интересный
вечер. Пока у конюшни, при фонарях и шипящей
ругани Антона, запрягали лошадей, балерины страшно волновались: они
обязательно опоздают на вечер. От волнения и презрения к этой провалившейся в
темноте колонии, к этим притихшим колонистам, к этому абсолютно чуждому
обществу они ничего даже не могли выразить, а только тихонько стонали,
прислонившись друг к другу. Сорока на козлах бузил по поводу каких‑то
постромок и кричал, что он не поедет. Антон, не стесняясь присутствием
гостей, отвечал Сороке: — Ты кто — кучер или балерина? Ты
чего танцуешь на козлах? Ты не поедешь? Вставай!.. Сорока, наконец, дёргает вожжами.
Балерины замерли и в предсмертном страхе поглядывают на карабин, перекинутый
через плечо Сороки. Всё-таки тронулись. И вдруг снова крик Братченко: — Да что ты, ворона, наделал? Чи
тебе повылазило, чи ты сказывся, как ты запрягал? Куда ты Рыжего поставил, куда
ты Рыжего всунул? Перепрягай! Коршуна под руку, — сколько раз тебе
говорил! Сорока не спеша стаскивает винтовку и
укладывает на ноги балерин. Из фаэтона раздаются слабые звуки сдерживаемых
рыданий. Карабанов за моей спиной говорит: — Таки добрало. А я думал, что не
доберёт. Молодцы хлопцы! Через пять минут экипаж снова трогается.
Мы сдержанно прикладываем руки к козырькам фуражек, без всякой, впрочем,
надежды получить ответное приветствие. Резиновые шины запрыгали по камням
мостовой, но в это время мимо нас летит вдогонку за экипажем нескладная тень,
размахивает руками и орёт: — Стойте! Постойте ж, ради Христа!
Ой, постойте ж, голубчики! Сорока в недоумении натягивает вожжи,
одна из балерин подхватывается с сиденья. — От было забыл, прости, царица
небесная! Дайте ось спицы посчитаю… Он наклоняется над колесом, рыдания из
фаэтона сильнее, и к ним присоединяется приятное контральто: — Ну успокойся же, успокойся… Карабанов отталкивает Козыря от колеса: — Иди ты, дед, к… Но сам Карабанов не выдерживает, фыркает
и опрокидывается в лес. Я тоже выхожу из себя: — Трогай, Сорока, довольно волынить!
Нанялись, что ли?! Сорока лупит с размаху Коршуна. Колонисты
заливаются откровенным смехом, под кустом стонет Карабанов, даже Антон
хохочет: — Вот будет потеха, если ещё и
бандиты остановят! Тогда обязательно опоздают на вечер. Козырь растерянно стоит в толпе и никак
не может понять, какие важные обстоятельства могли помешать посчитать спицы. За разными заботами мы и не заметили, как
прошло полтора месяца. Завхоз РКИ приехал к нам минута в минуту. — Ну, как наши лошади? — Живут. — Когда вы их пришлёте? Антон побледнел: — Как это — «пришлёте»? Ого, а кто
будет работать? — Договор, товарищи, — сказал
завхоз чёрствым голосом, — договор. А пшеницу когда можно получить? — Что вы! Надо же собрать да
обмолотиться, пшеница ещё в поле. — А колёса? — Да, понимаете, наш колёсник спицы
не посчитал, не знает, на сколько спиц делать колёса. И размеры ж… Завхоз чувствовал себя большим
начальством в колонии. Как же, завхоз РКИ! — Придётся платить неустойку по
договору. И с сегодняшнего дня, знайте же, десять фунтов в день, десять
фунтов пшеницы. Как хотите. Завхоз уехал. Братченко со злобой
проводил его беговые дрожки и сказал коротко: — Сволочь! Мы были очень расстроены. Лошади до
зарезу нужны, но не отдавать же ему весь урожай! Калина Иванович ворчал: — Я им не отдам пшеницу, этим
паразитам; пятнадцать пудов в месяц, а теперь ещё по десять фунтов. Они там
пишут всё по теории, а мы, значит, хлеб робым. А потом им и хлеб отдай, и
лошадей отдай. Где хочешь бери, а пшеницы я не дам! Ребята отрицательно относились к
договору: — Если им пшеницу отдавать, так
пусть она лучше на корне посохнет. Або нехай забирают пшеницу, а лошадей нам
оставят. Братченко решил вопрос более
примирительно: — Вы можете и пшеницу отдавать, и
жито, и картошку, а лошадей я не отдам. Хоть ругайтесь, хоть не ругайтесь, а
лошадей они не увидят. Наступил июль. На лугу ребята косили
сено, и Калина Иванович расстраивался: — Плохо косят хлопцы, не умеют. Так
это ж сено, а как же с житом будет, прямо не знаю. Жита ж семь десятин, да
пшеницы восемь десятин, да яровая, да овёс. Что ты его будешь делать? Надо
непременно жатку покупать. — Что ты, Калина Иванович? За какие
деньги купишь жатку? — Хоть лобогрейку. Стоила раньше
полтораста рублей або двести. — Видишь, через два дня, никак не
позже, убирать. Готовились косить жито косами. Жатву
решили открыть торжественно, праздником первого снопа. В нашей колонии на
тёплом песке жито поспевало раньше, и это было удобно для устройства праздника,
к которому мы готовились как к очень большему торжеству. Было приглашено
много гостей, варили хороший обед, выработали красивый и значительный ритуал
торжественного начала жатвы. Уже украсили арками и флагами поле, уже пошили
хлопцам свежие костюмы, но Калина Иванович был сам не свой. — Пропал урожай! Пока выкосят,
посыплется жито. Для ворон работали. Но в сараях колонисты натачивали косы и
приделывали к ним грабельки, успокаивая Калину Ивановича: — Ничего не пропадёт, Калина
Иванович, всё будет, как у настоящих граков. Было назначено восемь косарей. В самый день праздника рано утром
разбудил меня Антон: — Там дядько приехал и жатку привёз. — Какую жатку? — Привёз такую машину. Здоровая, с
крыльями — жатка. Говорит: чи не купят? — Так ты его отправь. За какие же
деньги — ты же знаешь… — А он говорит: може, променяют. Он
на коня хочет поменять. Оделся я, вышел к конюшне. Посреди двора
стояла жатвенная машина, ещё не старая, видно, для продажи специально
выкрашенная. Вокруг неё толпились колонисты, и тут же злобно посматривал на
жатку, и на хозяина, и на меня Калина Иванович. — Что это он, в насмешку приехав,
что ли? Кто его сюда притащив? Хозяин распрягал лошадей. Человек
аккуратный, с благообразной сивой бородой. — А почему продаешь? — спросил
Бурун. Хозяин оглянулся: — Да сына женить треба. А у меня
есть жатка, — другая жатка, с нас хватит, а вон коня нужно сыну дать. Карабанов зашептал мне на ухо: — Брешет. Я этого дядька знаю… Вы не
с Сторожевого? — Эге ж, с Сторожевого. А ты ж що ж
тут? А чи ты не Семён Карабан? Панаса сынок? — Так как же! — обрадовался
Семён. — Так вы ж Омельченко? Мабудь, боитесь, що отберут? Ага ж? — Та оно и то, шо отобрать могут, да
и сына женить же… — Ка хиба ваш сын доси не в банде? — Що вы, Христос з вами!.. Семён принял на себя руководство всей
операцией. Он долго беседовал с хозяином возле морд лошадей, они друг другу
кивали головами, хлопали по плечам и локтям. Семён имел вид настоящего
хозяина, и было видно, что и Омельченко относится к нему, как к человеку
понимающему. Через полчаса Семён открыл секретное
совещание на крыльце у Калины Ивановича. На совещании присутствовали я,
Калина Иванович, Карабанов, Бурун, Задоров, Братченко и ещё двое‑трое
старших колонистов. Остальные в это время стояли вокруг жатки и молчаливо
поражались тому, что на свете у некоторых людей существует такое механическое
счастье. Семён объяснил, что дядька хочет за жатку
получить коня, что в Сторожевом будут производить учёт машин и хозяин боится,
что отберут даром, а коня не отберут, потому что он женит сына. — Може, и правда, а може, и нет, не
наше дело, — сказал Задоров, а жатку нужно взять. Сегодня и в поле
пустим. — Какого же ты коня отдашь? —
спросил Антон. — Малыш и Бандитка никуда не годятся, Рыжего, что ли,
отдашь? — Да хоть бы и Рыжего, — сказал
Задоров. — Это же жатка! — Рыжего? А ты это вид… Карабанов перебил горячего Антона: — Нет, Рыжего ж, конечно, нельзя
отдавать. Один конь в колонии, на что Рыжего? Давайте дадим Зверя. Конь
видный и на племя ещё годится. Семён хитро глянул на Калину Ивановича. Калина Иванович даже не ответил Семёну.
Выбил трубку о ступеньку крыльца, поднялся: — Некогда мне с вами глупостями
заниматься. И ушёл в свою квартиру. Семён проводил его прищуренным глазом и
зашептал: — Серьёзно, Антон Семёнович,
отдавайте Зверя. Всё перемелется, а жатка у нас будет. — Посадят. — Кого?… Вас? Да никогда в жизни!
Жатка ж дороже коня стоит. Пускай РКИ возьмёт вместо Зверя жатку. Что ему, не
всё равно? Никакого же убытка, а мы успеем с хлебом. Всё равно же от Зверя
никакого толку… Задоров увлекательно рассмеялся: — Вот история! А в самом деле!.. Бурун молчал и, улыбаясь, шевелил у рта
житным колосом. Антон с сияющими глазами смеялся: — Вот будет потеха, если РКИ жатку в
фаэтон запряжёт… вместо Зверя. Ребята смотрели на меня горящими глазами. — Ну, решайте, Антон Семёнович…
рейшайте, ничего нет страшного. Если и посадят, то не больше как на неделю. Бурун, наконец, сделался серьёзным и
сказал: — Как ни крути, а отдавать жеребца
нужно. Иначе нас все дураками назовут. И РКИ назовёт. Я посмотрел на Буруна и сказал просто: — Верно! Выводи, Антон, жеребца! Все бросились к конюшне. Хозяину Зверь понравился. Калина Иванович
дергал меня за рукав и говорил шёпотом: — Чи ты сказывся? Што, тебе жизнь
надоела? Та хай она сказыться и колония, и жито… Чего ты лезешь? — Брось, Калина… всё равно. Будем
жать жаткой. Через час хозяин уехал с Зверем. А ещё
через два часа в колонию приехал Черненко и увидел во дворе жатку. — О молодцы! Где это вы выдрали
такую прелесть? Хлопцы вдруг затихли, как перед грозой. Я
с тоской посмотрел на Черненко и сказал: — Случайно удалось. Антон хлопнул в ладоши и подпрыгнул: — Выдрали чи не выдрали, товарищ
Черненко, а жатка есть. Хотите сегодня поработать? — На жатке? — На жатке. — Идёт, вспомним старину!… А ну, давай её
проверим. Черненко с ребятами до начала праздника
возился с жаткой: смазывали, чистили, что‑то прилаживали, проверяли. На празднике после первого торжественного
момента Черненко сам залез на жатку и застрекотал по полю. Карабанов давился
от смеха и кричал на всё поле: — От! Хозяина сразу видно. Завхоз РКИ ходил по полю и приставал ко
всем: — А что это Зверя не видно? Где
Зверь? Антон показывал кнутом на восток: — Зверь во второй колонии. Там
завтра жито жать будем, пусть отдохнёт. В лесу были накрыты столы. За торжественным
обедом ребята усадили Черненко, угощали пирогами и борщом и занимали
разговорами. — Это вы славно устроили: жатку. — Правда ж, добре? — Добре, добре. — А что лучше, товарищ Черненко,
конь или жатка? — стреляет глазами по всему фронту Братченко. — Ну, это разно сказать можно.
Смотря какой конь. — Ну вот, например, если такой конь,
как Зверь? Завхоз РКИ опустил ложку и тревожно
задвигал ушами. Карабанов вдруг прыснул и спрятал голову под стол. За ним в
припадке смеха зашатались за столом хлопцы. Завхоз вскочил и давай
оглядываться по лесу, как будто помощи ищет. А Черненко ничего не понимает: — Чего это они? А разве Зверь —
плохой конь? — Мы променяли Зверя на жатку,
сегодня променяли, — сказал я отнюдь без всякого смеха. Завхоз повалился на лавку, а Черненко и
рот разинул. Все притихли. — Променяли на жатку? —
пробормотал Черненко на завхоза. Обиженный завхоз вылез из‑за стола. — Мальчишеское нахальство, и больше
ничего. Хулиганство, своеволие… Черненко вдруг радостно улыбнулся: — Ах, сукины сыны! В самом деле? Что
же с жаткой будем делать? — Ну что же, у нас договор:
пятикратный размер убытков, — жестоко пилил завхоз. — Брось! — сказал Черненко с
неприязнью. — Ты на такую вещь не способен. — Я? — Вот именно, неспособен, а поэтому
закройся. А вот они способны. Им нужно жать, так они знают, что хлеб дороже
твоих пятикратных, понимаешь? А что они нас с тобой не боятся, так это тоже
хорошо. Одним словом, мы им жатку сегодня дарим. Разрушая парадные столы и душу завхоза
РКИ, ребята подбросили Черненко вверх. Когда он, отряхиваясь и хохоча, встал,
наконец, на ноги, к нему подошёл Антон и сказал: — Ну, а Мэри и Коршун как же? — Что — «как же»? — Ему отдавать? — кивнул Антон
на завхоза. — А что же, и отдашь. — Не отдам, — сказал Антон. — Отдашь, довольно с тебя
жатки! — рассердился Черненко. Но Антон тоже рассердился: — Забирайте вашу жатку! На черта
ваша жатка? Что в неё, Карабанова запрягать будем? Антон ушёл в конюшню. — Ах, и сукин же сын! — сказал
озабоченно Черненко. Кругом притихли. Черненко оглянулся на
завхоза: — Влезли мы с тобой в историю. Ты им
продай как‑нибудь там в рассрочку, чёрт с ними: хорошие ребята, даром
что бандиты. Пойдём, найдём этого чёрта вашего сердитого. Антон в конюшне лежал на куче сена. — Ну, Антон, я тебе лошадей продал. Антон поднял голову: — А не дорого? — Как‑нибудь заплатите. — Вот это дело, — сказал
Антон, — вы умный человек. — Я тоже так думаю, — улыбнулся
Черненко. — Умнее вашего завхоза. |
|
||||
|
|
21. Вредные деды
Летом по вечерам чудесно в колонии.
Просторно раскинулось ласковое живое небо, опушка леса притихла в сумерках,
силуэты подсолнухов на краях огородов собрались и отдыхают после жаркого дня,
теряется в неясных очертаниях вечера прохладный и глубокий спуск к озеру. У
кого‑нибудь на крыльце сидят, и слышен невнятный говор, а сколько
человек там и что за компания — не разберёшь. Наступает такой час, когда как будто ещё
светло, но уже трудно различать и узнавать предметы. В этот час в колонии
всегда кажется пусто. Спрашиваешь себя: да куда же это подевались хлопцы?
Пройдитесь по колонии, и вы увидите их всех. Вот в конюшне человек пять
совещаются у висящего на стене хомута, в пекарне целое заседание — через
полчаса будет готов хлеб, и все люди, прикосновенные к этому делу, к ужину, к
дежурству по колонии, расположились на скамьях в чисто убранной пекарне и
тихонько беседуют. Возле колодца разные люди случайно оказались вместе: тот с
ведром бежал за водой, тот шёл мимо, а третьего остановили потому, что ещё
утром была в нём нужда: все забыли о воде и вспомнили о чём-то другом, может
быть, и неважном… но разве бывает что‑нибудь неважное в хороший летний
вечер? У самого края двора, там, где начинается
спуск к озеру, на поваленной вербе, давно потерявшей кору, уселась целая
стайка, и Митягин рассказывает одну из своих замечательных сказок: — …Значит, утром и приходят люди в
церковь, смотрят — нет ни одного попа. Что такое? Куда попы девались? А
сторож и говорит: «То ж, наверное, наших попов чёрт носил сегодня в болото. У
нас же четыре попа». — «Четыре». — «Ну, так оно и есть: четыре попа
за ночь в болото перетащил…» Ребята слушают тихонько, с горящими
глазами, иногда только радостно взвизгивает Тоська: ему не столько нравится
чёрт, сколько глупый сторож, который целую ночь смотрел и не разобрал, своих
попов или чужих чёрт таскал в болото. Представляются все эти одинаковые,
безымянные жирные попы, всё это хлопотливое, тяжёлое предприятие, —
подумайте, перетаскать их всех на плечах в болото! — всё это глубокое
безразличие к их судьбе, такое же вот безразличие, какое бывает при истреблении
клопов. В кустах бывшего сада слышится взрывной
смех Оли Вороновой, ей отвечает баритонный поддразнивающий говорок Буруна,
снова смех, но уже не одной Оли, а целого девичьего хора, и на поляну
вылетает Бурун, придерживая на голове смятую фуражку, а за ним весёлая
пёстрая погоня. На поляне остановился заинтересованный Шелапутин и не знает,
что ему делать — смеяться или удирать, ибо у него тоже с девочками старые
счёты. Но тихие, задумчивые, лирические вечера
не всегда соответствовали нашему настроению. И кладовые колонии, и селянские
погреба, и даже квартиры воспитателей не перестали ещё быть аренной
дополнительной деятельности, хотя и не столь продуктивной, как в первый год
нашей колонии. Пропажа отдельных вещей в колонии вообще сделалась редким явлением.
Если и появлялся в колонии новый специалист по таким делам, то очень быстро
начинал понимать, что ему приходится иметь дело не с заведующим, а с
значительной частью коллектива, а коллектив в своих реакциях был чрезвычайно
жёсток. В начале лета мне с трудом удалось вырвать из рук колонистов одного
из новеньких, которого ребята поймали при попытке залезть через окно в
комнату Екатерины Григорьевны. Его били с той слепой злобой и
безжалостностью, на которую способна только толпа. Когда я очутился в этой толпе,
меня с такой же злобой отшвырнули в сторону, и кто‑то закричал в
горячке: — Уберите Антона к чертям! Летом в колонию был прислан комиссией
Кузьма Леший. Его кровь наверняка наполовину была цыганской. На смуглом лице
лешего были хорошо пригнаны и снабжены прекрасным вращательным аппаратом
огромные чёрные глаза, и этим глазам от природы было дано определённое
назначение: смотреть за тем, что плохо лежит и может быть украдено. Все
остальные части тела Лешего слепо подчинялись распорядительным приказам цыганских
глаз: ноги несли Лешего в ту сторону, в которой находился плохо лежащий
предмет, руки послушно протягивались к нему, спина послушно изгибалась возле
какой‑нибудь естественной защиты, уши напряжённо прислушивались к
разным шорохам и другим опасным звукам. Какое участие принимала голова Лешего
во всех этих операциях — невозможно сказать. В дальнейшем истории колонии
голова Лешего была достаточно оценена, но в первое время она для всех
колонистов казалась самым ненужным предметом в его организме. И горе и смех были с этим Лешим! Не было
дня, чтобы он в чём-нибудь не попался: то сопрёт с воза, только что
прибывшего из города, кусок сала, то в кладовке из-под рук стянет горсть
сахарного песку, то у товарища из кармана вытрусит махорку, то по дороге из пекарни
в кухню слопает половину хлеба, то у воспитателя в квартире во время делового
разговора возьмёт столовый нож. Леший никогда не пользовался сколько‑нибудь
сложным планом или самым пустяковым инструментом: так уж он был устроен, что
лучшим инструментом считал свои руки. Хлопцы пробовали его бить, но Леший
только ухмылялся: — Да чего ж там бить меня? Я ж и сам
не знаю, как оно так случилось, хотя бы и вы были на моём месте. Кузьма очень весёлый парень. В свои
шестнадцать лет он вложил большой опыт, много путешествовал, много видел,
сидел понемногу во всех губернских тюрьмах, был грамотен, остроумен, страшно
ловок и неустрашим в движениях, замечательно умел «садить гопака» и не знал,
что такое смущение. За эти все качества ему многое прощали
колонисты, но всё же его исключительная вороватость нам начинала надоедать.
Наконец он попал в очень неприятную историю, которая надолго привязала его к
постели. Как‑то ночью залез он в пекарню и был крепко избит поленом.
Наш пекарь, Костя Ветковский, давно уже страдал от постоянных недостатков
хлеба при сдаче, от уменьшенного припёка, от неприятных разговоров с Калиной
Ивановичем. Костя устроил засаду и был удовлетворен свыше меры: прямо на его
засаду ночью прилез Леший. Наутро пришёл Леший к Екатерине Григорьевне и просил
помощи. Рассказал, что лазил на дерево рвать шёлковицу и вот так исцарапался.
Екатерина Григорьевна очень удивилась такому кровавому результату простого
падения с дерева, но её дело маленькое: перевязала Лешему физиономию и отвела
в спальню, ибо без её помощи Леший до спальни не добрался бы. Костя до поры
до времени никому не рассказывал о подробностях ночи в пекарне: он был занят
в свободное время в качестве сиделки у постели Кузьмы и читал ему
«Приключения Тома Сойера». Когда Леший выздоровел, он сам рассказал
обо всём происшедшем и сам первый смеялся над своим несчастьем. Карабанов сказал Лешему: — Слухай, Кузьма, если бы мне так не
везло, я давно бы бросил красть. Ведь так тебя и убьют когда‑нибудь. — Я и сам так думаю, чего это мне не
везёт? Это, наверное, потому, что я не настоящий вор. Надо будет ещё раза два
попробовать, а если ничего не выйдет, то и бросить. Правда же, Антон
Семёнович? — Раза два? — ответил я. —
В таком случае не нужно откладывать, попробуй сегодня, всё равно ничего не
выйдет. Не годишься ты на такие дела. — Не гожусь? — Нет. Вот кузнец из тебя хороший
выйдет, Семён Петрович говорил. — Говорил? — Говорил. Только он ещё говорил,
что ты в кузнице два новых метчика спёр, — наверное, они у тебя сейчас в
карманах. Леший покраснел, насколько могла
покраснеть его чёрная рожа. Карабанов схватил Лешего за карман и
заржал так, как умел ржать только Карабанов: — Ну, конечно же, у него! Вот тебе
уже первый раз и есть — засыпался. — От чёрт! — сказал Леший,
выгружая карманы. Вот только такие случаи встречались у нас
внутри колонии. Гораздо хуже было с так называемым окружением. Селянские
погреба по‑прежнему пользовались симпатиями колонистов, но это дело
теперь было в совершенстве упорядочено и приведено в стройную систему. В
погребных операциях принимали участие исключительно старшие, малышей не
допускали и безжалостно и искренне возбуждали против них уголовные обвинения
при малейшей попытке спуститься под землю. Старшие достигли настолько
выдающейся квалификации, что даже кулацкие языки не смели обвинять колонию в
этом грязном деле. Кроме того, я имел все основания думать, что оперативным
руководством всех погребных дел состоит такой знаток, как Митягин. Митягин рос вором. В колонии он не брал
потому, что уважал людей, живущих в колонии, и прекрасно понимал, что взять в
колонии — значит обидеть хлопцев. Но на городских базарах и у селян ничего
святого не было для Митягина. По ночам он часто не бывал в колонии, по утрам
его с трудом поднимали к завтраку. По вокресеньям он всегда просился в отпуск
и приходил поздно вечером, иногда в новой фуражке или шарфе и всегда с
гостинцами, которыми угощал всех малышей. Малыши Митягина боготворили, но он
умел скрывать от них свою откровенную воровскую философию. Ко мне Митягин
относился по‑прежнему любовно, но о воровстве мы с ним никогда не
говорили. Я знал, что разговоры ему помочь не могли. Всё-таки Митягин меня сильно беспокоил.
Он был умнее и талантливее многих колонистов и поэтому пользовался всеобщим
уважением. Свою воровскую натуру он умел показывать в каком‑то
неотразимо привлекательном виде. Вокруг него всегда был штаб из старших
ребят, и этот штаб держался с митягинской тактичностью, с митягинским
признанием колонии, с уважением к воспитателям. Чем занималась вся эта
компания в тёмные тайные часы, узнать было затруднительно. Для этого нужно
было либо шпионить, либо выпытывать кое у кого из колонистов, а мне казалось,
что таким путём я сорву развитие так трудно родившегося тона. Если я случайно узнавал о том или другом
похождении Митягина, я откровенно громил его на собрании, иногда накладывал
взыскание, вызывал к себе в кабинет и ругал наедине. Митягин обыкновенно
отмалчивался с идеально спокойной физиономией, приветливо и расположенно
улыбался, уходя, неизменно говорил ласково и серьёзно: — Спокойной ночи, Антон Семёнович! Он был открытым сторонником чести колонии
и очень негодовал, когда кто‑нибудь «засыпался». — Я не понимаю, откуда берётся это
дурачье? Лезет, куда у него руки не стоят. Я предвидел, что с Митягиным придётся
расстаться. Обидно было признать своё бессилие и жалко было Митягина. Он сам,
вероятно, тоже считал, что в колонии ему сидеть нечего, но и ему не хотелось
покидать колонию, где у него завелось порядочное число приятелей и где все
малыши липли к нему, как мухи на сахар. Хуже всего было то, что митягинской
философией начинали заражаться такие, казалось бы, крепкие колонисты, как
Карабанов, Вершнев, Волохов. Настоящую и открытую оппозицию Митягину
составлял один Белухин. Интересно, что вражда Митягина и Белухина никогда не
принимала форм сварливых столкновений, никогда они не вступали в драки и даже
не ссорились. Белухин открыто говорил в спальне, что пока в колонии будет
Митягин, у нас не переведутся воры. Митягин слушал его с улыбкой и отвечал
незлобливо: — Не всем же, Матвей, быть честными
людьми. Какого б чёрта стоила твоя честность, если бы воров не было? Ты
только на мне и зарабатываешь. — Как — я на тебе зарабатываю? Что
ты врёшь? — Да обыкновенно как. Я вот украду,
а ты не украдешь, вот тебе и слава. А если бы никто не крал, все были бы
одинаковые. Я так считаю, что Антону Семёновичу нужно нарочно привозить
таких, как я. А то таким, как ты, никакого ходу не будет. — Что ты всё врёшь! — говорил
Белухин. — Ведь есть же такие государства, где воров нету. Вот Дания, и
Швеция, и Швейцария. Я читал, что там совсем нет воров. — Н‑н‑ну, это б‑б‑брехня, —
вступился Вершнев, — и т‑там к‑к‑крадут. А ч‑что
ж х‑хоршего, ч‑что воров н‑нет? Ддания и Швейцар‑р‑рия
— мелочь. — А мы что? — А м‑мы, в‑вот в‑видишь,
в‑вот у‑у‑у‑увидишь, к‑как себя п‑п‑покажем,
в‑вот р‑р‑революция, в‑видишь, к‑к‑к‑какая!… — Такие, как вы, первые против
революции стоите, вот что!… За такие речи больше всех и горячее всех
сердился Карабанов. Он вскакивал с постели, потрясает кулаком в воздухе и
свирепо прицеливается чёрными глазами в добродушное лицо Белухина: — Ты чего здесь разошёлся? Думаешь,
если я с Митягиным лишнюю булку съем, так это вред для революции? Вы все
привыкли на булки мерять… — Да что ты мне свою булку в глаза
стромляешь? Не в булке дело, а в том, что ты, как свинья, ходишь, носом землю
разрываешь. К концу лета деятельность Митягина и его
товарищей была развернута в самом широком масштабе на соседних баштанах. В
наших краях в то время очень много селяли арбузов и дынь, некоторые
зажиточные хозяева отводили под них по несколько десятин. Арбузные дела начались с отдельных
набегов на баштаны. Кража с баштана на Украине никогда не считалась уголовным
делом. Поэтому и селянские парни всегда разрешали себе совершать небольшие
вторжения на соседский баштан. Хозяева относились к этим вторжениям более или
менее добродушно: на одной десятине баштана можно собрать до двадцати тысяч
штук арбузов, утечка какой‑нибудь сотни за лето не составляла
особенного убытка. Но всё же среди баштана всегда стоял курень, и в нём жил
какой‑нибудь старый дед, который не столько защищал баштан, сколько
производил регистрацию непрошеных гостей. Иногда ко мне приходил такой дед и
заявлял жалобу: — Вчера ваши лазили по баштану. Так
вы им скажите, что недобре так делать. Нехай прямо приходят в курень, и чего
ж там, всегда можно человеку угощение сделать. Скажи мне, и я тебе самый
лучший арбуз выберу. Я передал просьбу деда хлопцам. Они
воспользовались ею в тот же вечер, но в предлагаемую дедом систему внесли
небольшие коррективы: пока в курене съедался выбранный дедом самый лучший
арбуз и велись приятельские разговоры о том, какие арзбузы были в прошлом
году и какие были в то лето, когда японец воевал, на территории всего баштана
хозяйничали нелегальные гости и уже без всяких разговор набивали арбузами
подолы рубах, наволочки и мешки. В первый вечер, воспользовавшись любезным
приглашением деда, Вершнев предложил отправиться к деду в гости Белухину.
Другие колонисты не протестовали против такого предпочтения. Матвей
возвратился с баштана довольный: — Честное слово, так это хорошо: и
поговорили, и удовольствие человеку произвели. Вершнев сидел на лавке и мирно улыбался.
В дверь ввалился Карабанов. — Ну что, Матвей погостевал? — Да, видишь, Семён, можно жить по‑соседски. — Тебе хорошо: ты арбузов наелся, а
нам как же? — Да чудак! Поди ты к нему. — Вот тебе раз! Как тебе не стыдно?
Если человек пригласил, так уже всем идти. Это по‑свински выйдет. Нас
шестьдесят человек. На другой день Вершнев вновь предложил
Белухину идти в гости к деду. Белухин великодушно отказался: пусть идут
другие. — Где я там буду искать других?
Идём, что ли? Да ведь ты можешь и не есть арбузов. Посидишь, побалакаешь. Белухин сообразил, что Вершнев прав. Ему
даже понравилась идея: пойти к деду в гости и показать, что колонисты ходят не
из‑за того, чтобы съесть арбуз. Но дед встретил гостей очень
недружелюбно, и Белухину ничего не удалось показать. Напротив, дед показал им
винтовку и сказал: — Вчера ваши проступники, пока вы
здесь балакали, половину баштана снесли. Разве так можно делать? Нет, с вами,
видно, нужно по‑другому. Вот я буду стрелять. Белухин, смущённый, возвратился в колонию
и в спальне раскричался. Ребята хохотали, и Митягин говорил: — Ты что, в адвокаты к деду нанялся?
Ты вчера по закону слопал лучший арбуз, чего тебе ещё нужно? А мы, может быть
и никакого не видели. Какие у тебя доказательства? Дед ко мне больше не приходил. Но многие
признаки показывали, что началась настоящая арбузная вакханалия. Однажды утром я заглянул в спальню и
увидел, что весь пол в спальне завален арбузными корками. Я набросился на
дежурного, кого‑то наказал, потребовал, чтобы этого больше не было.
Действительно, в следующие дни в спальнях было по‑обычному чисто. Тихие, прекрасные летние вечера, полные
журчащих бесед, хороших, ласковых настроений и неожиданного звонкого смеха,
переходили в прозрачные торжественные ночи. Над заснувшей колонией бродят сны, запахи
сосны и чебреца, птичьи шорохи и отзвуки собачьего лая в каком‑то
далёком государстве. Я выхожу на крыльцо. Из‑за угла показывается
дежурный сигналист‑сторож, спрашивает, который час. У его ног купается
в прохладе и неслышно чапает пятнистый Букет. Можно спокойно идти спать. Но этот покой прикрывал очень сложные и
беспокойные события. Как‑то спросил меня Иван Иванович: — Это вы распорядились, чтобы лошади
свободно гуляли по двору целыми ночами? Их могут покрасть. Братченко возмутился: — А что же, лошадям так нельзя уже и
свежим воздухом подышать? Через день спросил Калина Иванович: — Чего это кони в спальни
заглядывают? — Как «заглядывают»? — А ты посмотри: как утро, они и
стоят под окнами. Чего они там стоят? Я проверил: действительно, ранним утром
все наши лошади и вол Гаврюшка, подаренный нам за ненадобностью и старостью
хозяйственной частью наробраза, располагались перед окнами спален в кустах
сирени и черемухи и неподвижно стояли часами, очевидно, ожидая какого‑то
приятного для них события. В спальне я спросил: — Чего это лошади в ваши окна
заглядывают? Опришко поднялся с постели, выглянул в
окно, ухмыльнулся и крикнул кому‑то: — Сережа, а пойди спроси этих
идиотов, чего они стоят перед окнами. Под одеялами хмыкнули. Митягин,
потягиваясь, пробасил: — Не нужно было в колонии таких
любопытных скотов заводить, а то вам теперь беспокойство… Я навалился на Антона: — Что за таинственные происшествия?
Почему лошади торчат здесь каждое утро? Чем их сюда приманивают? Белухин отстранил Антона: — Не беспокойтесь, Антон Семёнович,
лошадям никакого вреда не будет. Антон нарочно их сюда водит, приятность
здесь ожидается. — Ну, ты, заболтал уже! —
сказал Карабанов. — Да мы вам скажем. Вы вот запретили корки набрасывать
на пол, а у нас не без того, что у кого‑нибудь арбуз окажется… — Как это — «окажется»? — Да как? То дед кому подарит, то
деревенские принесут… — Дед подарит? — спросил я
укоризненно. — Ну, не дед, так как‑нибудь
иначе. Так куда же корки девать? А тут Антон выгнал лошадей прогуляться.
Хлопцы и угостили. Я вышел из спальни. После обеда Митягин приволок ко мне в
кабинет огромный арбуз: — Вот попробуйте, Антон Семёнович. — Где ты достал? Убирайся со своим
арбузом!.. И вообще я за вас возьмусь серьёзно. — Арбуз самый честный, и специально
для вас выбирали. Деду за этот кавун заплачено чистою монетою. А за нас,
конечно, взяться давно пора, мы за это не обижаемся. — Проваливай и с кавуном, и с
разговорами! Через десять минут с тем же арбузом
пришла целая депутация. К моему удивлению, речь держал Белухин, прерывая её
на каждом слове для того, чтобы захохотать: — Эти скоты, Антон Семёнович, если
бы вы знали, сколько поедают кавунов каждую ночь! Что же тут скрывать… У
одного Волохова… он… это, конечно, неважно. Как они достают — пускай будет на
ихней совести, но безусловно, что и меня угощают, разбойники, нашли,
понимаете, в моей молодой душе слабость: люблю страшно арбузы. Даже и девочки
пропорцию свою получают, и Тоське дают: нужно сказать, что в ихних душах
всё-таки помещаются благородные чувства. Ну, а знаем же, что вы кавунов не
кушаете, только одни неприятности из‑за этих проклятых кавунов. Так что
примите уже этот скромный подарок. Я же человек честный, не какой‑нибудь
Вершнев, вы мне поверьте, деду за этот кавун заплачено, может, и больше того,
сколько в нём производительности заложено человеческого труда, как говорит
наука экономической политики. Закончив таким образом, Белухин сделался
вдруг серъёзен, положил арбуз на мой стол и скромно отошёл в сторону.
непричёсанный и по‑обычному истерзанный Вершнев выглядывал из‑за
Митягина. — П‑п‑политической э‑экономии,
а не экономической п‑политики. — Один чёрт, — сказал Белухин. Я спросил: — Чем заплатили деду? Карабанов загнул палец: — Вершнев припаял до кружки ручку,
Гуд латку положил на чобот, а я посторожил за него полночи. — Воображаю, сколько за эти полночи
вы прибавили к этому арбузу! — Верно, верно, — сказал
Белухин. — Это я могу подтвердить по чести. Мы теперь с этим дедом
контакт держим. А вот там к лесу есть баштан, так там, правда, такой вредный
сидит, всегда стреляет. — А ты что, тоже на баштан начал
ходить? — Нет, я не хожу, но выстрелы слышу:
бывает, пойдёшь пройтиться… Я поблагодарил ребят за прекрасный арбуз. Через несколько дней я увидел и вредного
деда. Он пришёл ко мне, вконец расстроенный. — Что же это такое будет? То тащили
по ночам больше, а то уже и днём спасения не стало, приходят в обед целыми
бандами, хоть плачь, — за одним погонишься, а другие по всему баштану. Я ребятам пригрозил, что буду сам ходить
помогать охране или найму сторожей за счёт колонии. Митягину сказал: — Вы этому граку верьте. Не в
арбузах дело, а в том, что пройти нельзя мимо баштана. — Да чего вам мимо баштана ходить?
Куда там дорога? — Какое его дело, куда мы идём? Чего
он палит? Ещё через день Белухин меня предупредил: — С этим дедом добром не кончится.
Здорово хлопцы обижаются. Дед уже боится один сидеть в курене, с ним ещё двое
дежурят, и все с ружьями. А хлопцы этого вытерпеть не могут. В ту же ночь колонисты пошли на этот
баштан цепью. Мои занятия по военному делу пошли на пользу. В полночь
половина колонии залегла на меже баштана, вперёд выслали дозоры и разведку.
Когда деды подняли тревогу, хлопцы закричали «ура» и кинулись в атаку.
Сторожа отступили в лес и в панике забыли в курене ружья. Часть ребят
занялась реализацией победы, скатывая арбузы к меже под горку, остальные
приступили к репрессиям: подожгли огромный курень. Один из сторожей прибежал в колонию и разбудил
меня. Мы поспешили к месту боя. Курень на горке полыхал огромным костром,
и от него стояло такое зарево, как будто горело целое село. Когда мы
подбежали к баштану, на нём раздалось несколько выстрелов. Я увидел
колонистов, залегших правильными отделениями в арбузных зарослях. Иногда эти
отделения поднимались на ноги и перебегали к горящему куреню. Где‑то на
правом фланге командовал Митягин: — Не лезь прямо, заходи сбоку. — Кто это стреляет? — спросил я
деда. — Да кто его знает? Там же никого
нэма. Мабуть, то винтовку хтось забув, мабуть, то винтовка сама стреляет. Дело было, собственно говоря, закончено.
Увидев меня, ребята как сквозь землю провалились. Дед повздыхал и ушёл домой.
Я возвратился в колонию. В спальнях был мёртвый покой. все не только спали,
но даже храпели: никогда в жизни не слышал такого храпа. Я сказал негромко: — Довольно дурака валять, вставайте. Храп прекратился, но все продолжали
настойчиво спать. — Вставайте, вам говорят. С подушек поднялись лохматые головы.
Митягин глядел на меня и не узнавал: — В чём дело? Но Карабанов не выдержал: — Да брось, Митяга, чего там! Все меня обступили и начали с увлечением
рассказывать о подробностях доблестной ночи. Таранец вдруг подпрыгнул, как
обваренный: — Там же в курене ружья! — Сгорели… — Дерево сгорело, а то всё годится. И вылетел из спальни. Я сказал: — Может быть, это и весело, но
всё-таки это настоящий разбой. Я больше терпеть не могу. если вы хотите
продолжать так и дальше, нам будет не по дороге. Что это такое в самом деле:
ни днём, ни ночью нет покоя ни колонии, ни всей округе! Карабанов схватил меня за руку: — Больше этого не будет. Мы и сами
видим, что довольно. Правда ж, хлопцы? Хлопцы загудели что‑то
подтверждающее. — Это всё слова, — сказал
я. — Предупреждаю, что, если все эти разбойничьи дела будут повторяться,
я кое‑кого выставлю из колонии. Так и знайте, больше повторять не буду. На другой день на пострадавший баштан
приехали подводы, собрали всё, что на нём ещё осталось, и уехали. На моём столе лежали дула и мелкие части
сгоревших ружей. |
|
||||
|
|
22. Ампутация
Ребята не сдержали своего обещания. Ни
Карабанов, ни Митягин, ни другие участники группы не прекратили ни походов на
баштаны, ни нападений на коморы и погреба селян. Наконец, они организовали
новое, очень сложное предприятие, которое увенчалось целой какофонией
приятных и неприятных вещей. Однажды ночью они залезли на пасеку Луки
Семёновича и утащили два улья вместе с мёдом и пчелами. Ульи они принесли в
колонию ночью и поместили их в сапожную мастерскую, в то время не работавшую.
На радостях устроили пир, в котором принимали участие многие колонисты.
Наутро можно было составить точный реестр участников — все они ходили по
колонии с красными, распухшими физиономиями. Лешему пришлось даже обратиться
за помощью к Екатерине Григорьевне. Вызванный в кабинет Митягин с первого
слова признал дело за собой, отказался назвать участников и, кроме того,
удивился: — Ничего тут такого нет! Не себе
взяли улья, а принесли в колонию. Если вы считаете, что в колонии
пчеловодство не нужно, можно и отнести. — Что ты отнесёшь? Мёд съели, пчелы
пропали. — Ну, как хотите. Я хотел как лучше. — Нет, Митягин, лучше всего будет,
если ты оставишь нас в покое… ты уже взрослый человек, со мной ты никогда не
согласишься, давай расстанемся. — Я и сам так думаю. Митягина необходимо было удалить как
можно скорее. Для меня было уже ясно, что с этим решением я непростительно
затянул и прозевал давно определившийся процесс гниения нашего коллектива.
Может быть, ничего особенно порочного и не было в баштанных делах или в
ограблении пасеки, но постоянное внимание колонистов к этим делам, ночи и
дни, наполненные всё теми же усилиями и впечатлениями, знаменовали полную
остановку развития нашего тона, знаменовали, следовательно, застой. И на фоне
этого застоя для всякого пристального взгляда уже явными сделались
непритязательные рисунки: развязность колонистов, какая‑то специальная
колонистская вульгарность по отношению и к колонии, и к делу, утомительное и
пустое зубоскальство, элементы несомненного цинизма. Я видел, что даже такие,
как Белухин и Задоров, не принимая участия ни в какой уголовщине, начинали
терять прежний блеск личности, покрывались окалиной. Наши планы, интересная
книга, политические вопросы стали распологаться в коллективе на каких‑то
далёких флангах, уступив центральное место беспорочным и дешёвым приключениям
и бесконечным разговорам о них. Всё это отразилось и на внешнем облике
колонистов и всей колонии: разболтанное движение, неопрятный и неглубокий
позыв к остроумию, небрежно накинутая одежда и припрятанная по углам грязь. Я написал Митягину выпускное
удостоверение, дал пять рублей на дорогу — он сказал, что едет в
Одессу, — и пожелал ему счастливого пути. — С хлопцами попрощаться можно? — Пожалуйста. Как они там прощались, не знаю. Митягин
ушёл перед вечером, и провожала его почти вся колония. Вечером ходили все печальные, малыши
потускнели, и у них испортились движущие их мощные моторы. Карабанов как сел
на опрокинутом ящике возле кладовки, так и не вставал с него до ночи. В мой кабинет пришёл Леший и сказал: — А жалко Митягу. Он долго ждал ответа, но я ничего не
ответил Лешему. Так он и ушёл. Занимался я очень долго. Часа в два,
выходя из кабинета, я заметил свет на чердаке конюшни. Разбудил Антона и
спросил: — Кто на чердаке? Антон недовольно подёрнул плечом и
неохотно ответил: — Там Митягин. — Чего он там сидит? — А я знаю? Я поднялся на чердак. Вокруг конюшенного
фонаря сидело несколько человек: Карабанов, Волохов, Леший, Приходько,
Осадчий. Они молча смотрели на меня. Митягин что‑то делал в углу чердака,
я еле‑еле заметил его в темноте. — Идите все в кабинет. Пока я отпирал дверь кабинета, Карабанов
распорядился: — Нечего всем сюда собираться. Пойду
я и Митягин. Я не протестовал. Вошли. Карабанов свободно развалился на
диване. Митягин остановился в углу дверей. — Ты зачем возвратился в колонию? — Было одно дело. — Какое дело? — Наше одно дело. Карабанов смотрел на меня пристальным
горячим взглядом. Он вдруг весь напружинился и гибким, змеиным движением
наклонился над моим столом, приблизив свои полыхающие глаза прямо к моим
очкам: — Знаете что, Антон Семёнович?
Знаете, что я вам скажу? Пойду и я вместе с Митягой. — Какое дело вы затевали на чердаке? — Дело, по правде сказать, пустое,
но для колонии оно всё равно не подходяще. А я пойду с Митягой. Раз мы к вам
не подходим, что же, пойдём шукать своего счастья. Може, у вас будут кращие
колонисты. Он всегда немного кокетничал и сейчас
разыграл обиженного, вероятно, надеюсь, что я устыжусь собственной жестокости
и оставлю Митягина в колонии. Я посмотрел Карабанову в глаза и ещё раз
спросил: — На какое дело вы собирались? Карабанов ничего не ответил и вопрошающе
посмотрел на Митягина. Я вышел из‑за стола и сказал
Карабанову: — Револьвер у тебя есть? — Нет, — ответил он твёрдо. — Покажи карманы. — Неужели будете обыскивать, Антон
Семёнович? — Покажи карманы. — Нате, смотрите! — закричал
Карабанов почти в истерике и вывернул все карманы в брюках и в тужурке,
высыпая на пол махорку и крошки житного хлеба. Я подошёл к Митягину. — Покажи карманы. Митягин неловко полез по карманам.
Вытащил кошелек. связку ключей и отмычек, смущённо улыбнулся и сказал: — Больше ничего нет. Я продвинул руку за пояс его брюк и
достал оттуда браунинг среднего размера. В обойме было три патрона. — Чей? — Это мой револьвер, — сказал
Карабанов. — Что же ты врал, что у тебя ничего
нет? Эх, вы… Ну, что же? Убирайтесь из колонии к чёрту и немедленно, чтобы
здесь и духу вашего не оставалось! Понимаете? Я сел к столу, написал Карабанову
удостоверение. Он молча взял бумажку, презрительно посмотрел на пятёрку,
которую я ему протянул, и сказал: — Обойдёмся. Прощайте. Он судорожно протянул мне руку и крепко,
до боли сжал мои пальцы, что‑то хотел сказать, потом вдруг бросился к
дверям и исчез в ночном их просвете. Митягин не протянул руки и не сказал
прощального слова. Он размашисто запахнул полы клифта и неслышными воровскими
шагами побрёл за Карабановым. Я вышел на крыльцо. У крыльца собралась
толпа ребят. Леший бегом бросился за ушедшими, но добежал только до опушки
леса и вернулся. Антон стоял на верхней ступеньке и что‑то мурлыкал.
Белухин вдруг нарушил тишину: — Так. Ну, что же, я признаю, что
это сделано правильно. — Может, и правильно, — сказал
Вершнев, — т‑т‑только всё т‑т‑таки ж‑жалко. — Кого жалко? — спросил я. — Да вот С‑Семёна с‑с‑с
Митягой. А разве в‑в‑вам н‑не ж‑жалко? — Мне тебя жалко, Колька. Я направился к своей комнате и слышал,
как Белухин убеждал Вершнева: — Ты дурак, ты ничего не понимаешь,
книжки для тебя без последствия проходят. Два дня ничего не было слышно об ушедших.
Я за Карабанова мало беспокоился: у него отец в Сторожевом. Побродит по
городу с неделю и пойдёт к отцу. В судьбе же Митягина я не сомневался. Ещё с
год погуляет на улице, посидит несколько раз в тюрьмах, попадётся в
чём-нибудь серьёзном, вышлют его в другой город, а лет через пять‑шесть
обязательно либо свои зарежут, либо расстреляют по суду. Другой дороги для
него не назначено. А может быть, и Карабанов собьёт. Сбили же его раньше,
пошёл же он на вооружённый грабёж. Через два дня в колонии стали шептаться. — Говорят, Семён с Митягой грабят на
дороге. Ограбили вчера мясников с Решетиловки. — Кто говорит? — Молочница у Осиповых была, так
говорила, что Семён и Митягин. Колонисты по углам шушукались и умолкали,
когда к ним подходили. Старшие поглядывали исподлобья, не хотели ни читать,
ни разговаривать, по вечерам устраивались по‑двое, по‑трое и
неслышно и скупо перебрасывались словами. Воспитатели старались не говорить со мною
об ушедших. Только Лидочка однажды сказала: — А ведь жалко ребят? — Давайте, Лидочка, договоримся, —
ответил я. — Вы будете наслаждаться жалостью без моего участия. — Ну и не надо! — обиделась
Лидия Петровна. Дней через пять я возвращался из города в
кабриолете. Рыжий, подкормленный на летней благодати, охотно рысил домой.
рядом со мной сидел Антон и, низко свесив голову, о чём-то думал. Мы привыкли
к нашей пустынной дороге и не ожидали уже на ней ничего интересного. Вдруг Антон сказал: — Смотрите: то не наши хлопцы? О! Да
то же Семён с Митягиным! Впереди на безлюдном шоссе маячили две
фигуры. Только острые глаза Антона могли так
точно определить, что это был Митягин с товарищем. Рыжий быстро нёс навстречу
к ним. Антон забеспокоился и поглядывал на мою кобуру. — А вы всё-таки переложите наган в
карман, чтобы ближе был. — Не мели глупостей. — Ну, как хотите. Антон натянул вожжи. — От хорошо, что мы вас
побачилы, — сказал Семён. — Тогда, знаете, простились как‑то
не по‑хорошему. Митягин улыбался, как всегда, приветливо. — Что вы здесь делаете? — Мы хотим с вами побачиться. Вы ж
сказали, чтоб в колонии духа нашего не было, так мы туда и не пошли. — Почему ты не поехал в
Одессу? — спросил я Митягина. — Да пока и здесь жить можно, а на
зиму в Одессу. — Работать не будешь? — Посмотрим, как оно выйдет, —
сказал Митягин. — Мы на вас не в обиде, Антон Семёнович, вы не думайте,
что на вас в обиде. Каждому своя дорога. Семён сиял открытой радостью. — Ты с Митягиным будешь? — Я ещё не знаю. Тащу его: пойдём к
старику, к моему батьку, а он ломается. — Да батька же его грак, чего я там
не видел? Они проводили меня до поворота в колонию. — Вы ж нас лухом не згадуйте, —
сказал Семён на прощанье. Эх, давайте с вами поцелуемся! Митягин засмеялся: — Ох, и нежная ты тварь, Семён, не
будет с тебя толку. — А ты лучше? — спросил Семён. Они оба расхохотались на весь лес, помахали
фуражками, и мы разошлись в разные стороны. |
|
||||
|
|
23. Сортовые семена
К концу осени в колонии наступил хмурый
период — самый хмурый за всю нашу историю. Изгнание Карабанова и Митягина
оказалось очень болезненной операцией. То обстоятельство, что были изгнаны
«самые грубые хлопцы», пользовавшиеся до того времени наибольшим влиянием в
колонии, лишило колонистов правильной ориентировки. И Карабанов и Митягин были прекрасными
работниками. Карабанов во время работы умел размахнуться широко и со страстью,
умел в работе находить радость и других заражать ею. У него из‑под рук
буквально рассыпались искры энергии и вдохновения. На ленивых и вялых он
только изредка рычал, и этого было достаточно, чтобы устыдить самого
отъявленного лодыря. Митягин в работе был великолепным дополнением к
Карабанову. Его движения отличались мягкостью и вкрадчивостью, действительно
воровские движения, но у него всё выходило ладно, удачливо и добродушно‑весело.
А к жизни колонии они оба были чутко отзывчивы и энергичны в ответ на всякое
раздражение, на всякую злобу колонистского дня. С их уходом вдруг стало скучно и серо в
колонии. Вершнев ещё больше закопался в книги, Белухин шутил как‑то
чересчур серьёзно и саркастически, такие, как Волохов, Приходько, Осадчий,
сделались чрезмерно серьёзны и вежливы, малыши скучали и скрытничали, вся
колонистская масса вдруг приобрела выражение взрослого общества. По вечерам
трудно стало собрать бодрую компанию: у каждого находились собственные дела.
Только Задоров не уменьшил своей бодрости и не спрятал прекрасную свою
открытую улыбку, но никто не хотел разделить его оживления, и он улыбался в
одиночку, сидя над книжкой или над моделью паровой машины, которую он начал
ещё весной. Способствовали этому упадку и неудачи
наши в сельском хозяйстве. Калина Иванович был плохим агрономом, имел самые
дикие представления о севообороте и о технике посева, а к тому же и поля мы
получили от селян страшно засорёнными и истощёнными. Поэтому, несмотря на
грандиозную работу, которую проделали колонисты летом и осенью, наш урожай
выражался в позорных цифрах. На озимой пшенице было больше сорняков, чем
пшеницы, яровые имели жалкий вид, ещё хуже было с буряками и картофелем. И в воспитательских квартирах царила
такая же депрессия. Может быть, мы просто устали: с начала колонии
никто из нас не имел отпуска. Но сами воспитатели не ссылались на усталость.
Возродились старые разговоры о безнадёжности нашей работы, о том, что соцвос
с «такими» ребятами невозможен, что это напрасная трата души и энергии. — Бросить всё это нужно, —
говорил Иван Иванович. — Вот был Карабанов, которым мы даже гордились,
пришлось прогнать. Никакой особенной надежды нет и на Волохова, и на
Вершнева, и на Осадчего, и на Таранца, и на многих других. Стоит ли из‑за
одного Белухина держать колонию? Екатерина Григорьевна — и та изменила
нашему оптимизму, который раньше делал её первой моей помощницей и другом.
Она сближала брови в пристальном раздумье, и результаты раздумья были у неё
странные, неожиданные для меня: — Вы знаете что? А вдруг мы делаем
какую‑нибудь страшную ошибку: нет совсем коллектива, понимаете,
никакого коллектива, а мы всё говорим о коллективе, мы сами себя просто
загипнотизировали собственной мечтой о коллективе. — Постойте, — останавливал её
я, — как «нет коллектива»? А шестьдесят колонистов, их работа, жизнь,
дружба? — Это знаете что? Это игра,
интересная, может быть, талантливая игра. Мы ею увлеклись и ребят увлекли, но
это на время. Кажется, уже игра надоела, всем стало скучно, скоро совсем
бросят, всё обратится в обыкновенный неудачный детский дом. — Когда одна игра надоедает,
начинают играть в другую, — пыталась поправить испорченное настроение
Лидия Петровна. Мы рассмеялись грустно, но я сдаваться и
не думал: — Обыкновенная интеллигентская
тряпичность у вас, Екатерина Григорьевна, обыкновенное нытьё. Нельзя ничего
выводить из ваших настроений, они у вас случайны. Вам страшно хотелось бы,
чтобы и Митягин и Карабанов были нами осилены. Так всегда ничем не
оправданный максимализм, каприз, жадность потом переходят в стенания и опускания
рук. Либо всё, либо ничего — обыкновенная припадочная философия. Все это я говорил, подавляя в себе, может
быть, ту же самую интеллигентскую тряпичность. Иногда и мне приходили в
голову тощие мысли: нужно бросить, не стоит Белухин или Задоров тех жертв, которые
отдаются на колонию; приходило в голову, что мы уже устали и поэтому успех
невозможен. Но старая привычка к молчаливому,
терпеливому напряжению меня не покидала. Я старался в присутствии колонистов
и воспитателей быть энергичным и уверенным, нападал на малодушных педагогов,
старался убедить их в том, что беды временные, что всё забудется. Я
преклоняюсь перед той огромной выдержкой и дисциплиной, которые проявили наши
воспитатели в то тяжёлое время. Они по‑прежнему всегда были на
месте минута в минуту, всегда были деятельны и восприимчивы к каждому
неверному тону в колонии, на дежурство выходили по заведённой у нас
прекрасной традиции в самом лучшем своём платье, подтянутыми и прибранными. Колония шла вперёд без улыбок и радости,
но шла с хорошим, чистым ритмом, как налаженная, исправная машина. Я заметил
и положительные последствия моей расправы с двумя колонистами: совершенно
прекратились набеги на село, стали невероятными погребные и баштанные
операции. Я делал вид, что не замечаю подавленных настроений колонистов, что
новая дисциплинированность и лояльность по отношению к селянам ничего
особенного не представляют, что всё вообще идёт по‑прежнему и что всё
по‑прежнему идёт вперёд. В колонии обнаружилось много нового,
важного дела. Мы начали постройку оранжереи во второй колонии, начали
приводить дорожки и выравнивать дворы после ликвидации трепкинских руин,
строили изгородки и арки, приступили к постройке моста через Коломак в самом
узком его месте, в кузнице делали железные кровати для колонистов, приводили
в порядок сельскохозяйственный инвентарь и лихорадочно торопились с
окончанием ремонта домов во второй колонии. Я сурово заваливал колонию всё
новой и новой работой и требовал от всего колонистского общества прежней
точности и чёткости в работе. Не знаю почему, вероятно, по неизвестному
мне педагогическому инстинкту, я набросился на военные занятия. Уже и раньше я производил с колонистами
занятия по физкультуре и военному делу. Я никогда не был специалистом‑физкультурником,
а у нас не было средств для приглашения такого специалиста. Я знал только
военный строй и военную гимнастику, знал только то, что относится к боевому
участку роты. Без всякого размышления и без единой педагогической судороги я
занял ребят упражнениями во всех этих полезных вещах. Колонисты пошли на такое дело охотно.
После работы мы ежедневно по часу или два всей колонией занимались на нашем
плацу, который представлял собой просторный квадратный метр. По мере того как
увеличивались наши познания, мы расширяли поле деятельности. К зиме наши цепи
производили очень интересные и сложные военные движения по всей территории
нашей хуторской группы. Мы очень красиво и методически правильно производили
наступления на отдельные объекты — хаты и клуни, увенчивая их атакой в штыки
и паникой, которая охватывала впечатлительные души хозяев и хозяек.
Притаившиеся за белоснежными стенами жители, услышав наши воинственные крики,
выбегали во двор, спешно запирали коморы и сараи и распластывались на дверях,
ревниво испуганным взглядом взирая на стройные цепи колонистов. Ребятам всё это очень понравилось, и
скоро у нас появились настоящие ружья, так как нас с радостью приняли в ряды
Всеобуча, искусственным образом игнорируя наше праворанушительское прошлое. Во время занятий я был требователен и
неподкупен, как настоящий командир; ребята и к этому относились с большим
одобрением. Так у нас было положено начало той военной игре, которая потом
сделалась одним из основных мотивов всей нашей музыки. Я прежде всего заметил хорошее влияние
правильной военной выправки. Совершенно изменился облик колониста: он стал
стройнее и тоньше, перестал валиться на стол и на стену, мог спокойно и
свободно держаться без подпорок. Уже новенький колонист стал заметно
отличаться от старого. И походка ребят сделалась увереннее и пружиннее, и
голову они стали носить выше, забыли привычку засовывать руки в карманы. В своём увлечении военным строем
колонисты много внесли и придумали сами, используя свои естественные
мальчишеские симпатии к морскому и боевому быту. В это именно это время было
введено в колонии правило: на всякое приказание как знак всякого утверждения
и согласия отвечать словом «есть», подчёркивая этот прекрасный ответ взмахом
пионерского салюта. В это время завелись в колонии и трубы. До тех пор сигнали давались у нас звонком,
оставшимся ещё от старой колонии. Теперь мы купили два корнета, и несколько
колонистов ежедневно ходили в город к капельмейстеру и учились играть на
корнетах по нотам. Потом были написаны сигналы на всякий случай колонистской
жизни, и к зиме мы сняли колокол. На крыльцо моего кабинета выходил теперь
трубач и бросал в колонию красивые полнокровные звуки сигнала. В вечерней тишине в особенности волнующе
звучат звуки корнета над колонией, над озером, над хуторскими крышами. Кто‑нибудь
в открытое окно спальни пропоёт тот же сигнал молодым, звенящим тенором, кто‑нибудь
вдруг сыграет на рояле. Когда в наробразе узнали о наших военных
увлечениях, слова «казарма» надолго сделалось нашем прозвищем. Всё равно, я и
так был огорчен много, учитывать ещё одно маленькое огорчение не было охоты.
И некогда было. Ещё в августе я привёз из опытной станции
двух поросят. Это были настоящие англичане, и поэтому они дорогой страшно
протестовали против переселения в колонию и всё время проваливались в какую‑то
дырку в возу. Поросята возмущались до истерики и злили Антона. — Мало и так мороки, так ещё поросят
придумали… Англичан отправили во вторую колонию, а
любителей ухаживать за ними из малышей нашлось больше чем достаточно. В это
время во второй колонии жило до двадцати ребят, и жил там же воспитатель,
довольно никчёмный человек, со странной фамилией Родимчик. Большой дом,
который у нас назывался литерой А, был уже закончен, он назначался для
мастерских и классов, а теперь в нём временно расположились ребята. Были
закончены и другие дома и флигели. Оставалось ещё много работы в огромном
двухэтажном ампире, который предназначался для спален. В сараях, в конюшнях,
в амбарах с каждым днём прибивались новые доски, штукатурились стены,
навешивались двери. Сельское хозяйство получило мощное
подкрепление. Мы пригласили агронома, по полям колонии заходил Эдуард
Николаевич Шере, существо, положительно непонятное для непривычного
колонистского взора. Было для всякого ясно, что выращен Шере из каких‑то
особенных сортовых семян и поливали его не благодатные дожди, а фабричная
эссенция, специально для таких Шере изобретённая. В противоположность Калине Ивановичу,
Шере никогда ничем не возмущался и не восторгался, всегда был настроен ровно
и чуточку весело. Ко всем колонистам, даже к Галатенко, он обращался на «вы»,
никогда не повышал голоса, но и в дружбу ни с кем не вступал. Ребят очень
поразило, когда в ответ на грубый отказ Приходько: «Чего я там не видел на
смородине? Я не хочу работать на смородине!» — Шере приветливо и расположенно
удивился, без позы и игры: — Ах, вы не хотите? В таком случае
скажите вашу фамилию, чтобы я как‑нибудь случайно не назначил вас на
какую‑нибудь работу. — Я — куда угодно, только не на
смородину. — Вы не беспокойтесь, я без вас
обойдусь, знаете, а вы где‑нибудь в другом месте работу найдёте. — Так почему? — Будьте добры, скажите вашу
фамилию, мне некогда заниматься лишними разговорами. Бандитская красота Приходько моментально
увяла. Пожал Приходько презрительно плечами и отправился на смородину,
которая только минуту назад так вопиюще противоречила его назначению в мире. Шере был сравнительно молод, но тем не
менее умел доводить колонистов до обалдения своей постоянной уверенностью и
нечеловеческой работоспособностью. Колонистам представлялось, что Шере никогда
не ложится спать. Просыпается колония, а Эдуард Николаевич уже меряет поле
длинными, немного нескладными, как у породистого молодого пса, ногами. Играют
сигнал спать, а Шере в свинарне о чём-то договаривается с плотником. днём
Шере одновременно можно было видеть и на конюшне, и на постройке оранжереи, и
на дороге в город, и на развозке навоза в поле; по крайней мере, у всех было
впечатление, что всё это происходит в одно и то же время, так быстро
переносили Шере его замечательные ноги. В конюшне Шере на другой же день
поссорился с Антоном. Антон не мог понять и почувствовать, как это можно к
такому живому и симпатичному существу, как лошадь, относиться так
математически, как это настойчиво рекомендовал Эдуард Николаевич. — Что это он выдумывает? Важить? Видели
такое, чтобы сено важить? Говорит, вот тебе норма: и не меньше и не больше. И
норма какая‑то дурацкая — всего понемножку. Лошади подохнут, так я
отвечать буду? А работать, говорит, по часам. И тетрадку придумал: записывай,
сколько часов работали. Шере не испугался Антона, когда тот по
привычке закричал, что не даст Коршуна, потому что Коршун, по проектам
Антона, должен был через день совершать какие‑то особые подвиги. Эдуард
Николаевич сам вошёл в конюшню, сам вывел и запряг Коршуна и даже не глянул
на окаменевшего от такого поношения Братченко. Антон надулся, швырнул кнут в
угол конюшни и ушёл. Когда он к вечеру всё-таки заглянул в конюшню, он
увидел, что там хозяйничают Орлов и Бублик. Антон пришёл в глубоко
оскорблённое состояние и отправился ко мне с прошением об отставке, но
посреди двора на него налетел с бумажкой в руке Шере и, как ни в чём не
бывало, вежливо склонился над обиженной физиономией старшего конюха. — Слушайте, ваша фамилия, кажется,
Братченко? Вот для вас план на эту неделю. Видите, здесь точно обозначено,
что полагается делать каждой лошади в тот или другой день, когда выезжать и
прочее. Видите, вот здесь написано, какая лошадь дежурная для поездки в
город, а какая выходная. Вы рассмотрите с вашими товарищами и завтра скажите
мне, какие вы находите нужным сделать изменения. Антон удивлённо взял листок бумажки и
побрёл в конюшню. На другой день вечером можно было видеть
кучерявую причёску Антона и стриженную под машинку острую голову Шере
склонившимися над моим столом за важным делом. Я сидел за чертёжным столиком
за работой, но минутами прислушивался к их беседе. — Это вы верно заметили. Хорошо,
пусть в среду в плуге ходят Рыжий и Бандитка… — Малыш буряка есть не будет, у него
зубов… — Это ничего, знаете, можно мельче
нарезать, вы попробуйте… — …Ну а если ещё кому нужно в город? — Пешком пройдётся. Или пусть
нанимает на селе. Нас с вами это не касается. — Ого! — сказал Антон. —
Это правильно. Правду нужно сказать, транспортная
потребность очень слабо удовлетворялась одной дежурной лошадью. Калина
Иванович ничего не мог поделать с Шере, ибо тот сразил его воодушевлённую
хозяйскую логику невозмутимо прохладным ответом: — Меня совершенно не касается ваша
транспортная потребность. Возите ваши продукты на чём хотите или купите себе
лошадь. У меня шестьдесят десятин. Я буду очень вам благодарен, если вы об
этом больше говорить не будете. Калина Иванович трахнул кулаком по столу
и закричал: — Если мне нужно, я и сам запрягу! Шере что‑то записывал в блокнот и
даже не посмотрел на сердитого Калину Ивановича. Через час, уходя из
кабинета, он предупредил меня: — Если план работы лошадей будет
нарушен без моего согласия, я в тот же день уезжаю из колонии. Я спешно послал за Калиной Ивановичем и
сказал ему: — Ну его к чёрту, не связывайся с
ним. — Да как же я буду с одной конячкой:
и в город же поехать нужно, и воду навозить, и дров подвезти, и продукты во
вторую колонию… — Что‑нибудь придумаем. И придумали. И новые люди, и новые заботы, и вторая
колония, и никчёмный Родимчик во второй колонии, и новая фигура подтянутого
колониста, и прежняя бедность, и нарастающее богатство — всё это многоликое
море нашей жизни незаметно для меня самого прикрыло последние остатки
подавленности и серой тоски. С тех пор я только смеяться стал реже и даже
внутренняя живая радость уже была не в силах заметно уменьшить внешнюю
суровость, которую, как маску, надели на меня события и настроения конца 1922
года. Маска это не причиняла мне страданий, я её почти не замечал. но
колонисты всегда её видели. Может быть, они и знали, что это маска, но у них
всё же появился по отношению ко мне тон несколько излишнего уважения,
небольшой связанности, может быть, и некоторой боязни, не могу этого точно
назвать. Но зато я всегда видел, как они радостно расцветали и особенно
близко и душевно приближались ко мне, если случалось повеселиться с ними,
поиграть или повалять дурака, просто, обнявшись, походить по коридору. В колонии же всякая суровость и всякая
ненужная серьёзность исчезли. Когда всё это изменилось и наладилось, никто не
успел заметить. Как и раньше, кругом звучали смех и шутки, как и раньше, все
неистощимы были на юмор и энергию, только теперь всё это было украшено полным
отсутствием какой бы то ни было разболтанности и несообразного, вялого
движения. Калина Иванович нашёл‑таки выход из
транспортных затруднений. Для вола Гаврюшки, на которого Шере не
посягал, — ибо какой же толк в одном воле? — было сделано одинарное
ярмо, и он подвозил воду, дрова и вообще исполнял все дворовые перевозки. А в
один из прелестных апрельских вечером вся колония покатывалась со смеху, как
давно уже не покатывалась: Антон выезжал в кабриолете в город за какой‑то
посылкой, и в кабриолет был запряжен Гаврюшка. — Там тебя арестуют, — сказал я
Антону. — Пусть попробуют, — ответил
Антон, — теперь все равны. Чем Гаврюшка хуже коня?.. Тоже трудящийся. Гаврюшка без всякого смущения повлёк
кабриолет к городу. |
|
||||
|
|
24. Хождение Семёна по мукам
Шере повёл дело энергично. Весенний сев
он производил по шестипольному плану, сумел сделать этот план живым событием
в колонии. На поле, в конюшне, в свинарне, в спальне, просто на дороге или у
перевоза, в моём кабинете и в столовой вокруг него всегда организовывалась
новая сельскохозяйственная практика. Ребята не всегда без спора встречали его
распоряжения, и Шере никогда не отказывался выслушивать деловое возражение,
иногда приветливо и сухо, в самых скупых выражениях приводил небольшую
ниточку аргументов и заканчивал безапелляционно: — Делайте так, как я вам говорю. Он по‑прежнему проводил весь день в
напряжённой и в то же время несуетливой работе, по‑прежнему за ним
трудно было угнаться, и в то же время он умел терпеливо простоять у кормушки
два‑три часа или пять часов проходить за сеялкой, бесконечно мог, через
каждые десять минут, забегать в свинарню и приставать, как смола, к свинарям
с вежливыми и назойливыми вопросами: — В котором часу вы давали поросятам
отруби? Вы не забыли записать? Вы записываете так, как я вам показывал? Вы
приготовили всё для купанья? У колонистов к Шере появилось отношение
сдержанного восторга. Разумеется, они были уверены, что «наш Шере» только
потому так хорош, что он наш, что во всяком другом месте он был бы менее
великолепен. Этот восторг выражался в молчаливом признании его авторитета и в
бесконечных разговорах о его словах, ухватках, недоступности для всяких
чувств и его знаниях. Я не удивлялся этой симпатии. Я
уже знал, что ребята не оправдывают интеллигентского убеждения, будто дети
могут любить и ценить такого человека, который к ним относится любовно,
который их ласкает. Я убедился давно, что наибольшее уважение и наибольшая
любовь со стороны ребят, по крайней мере таких ребят, какие были в колонии,
проявляются по отношению к другим типам людей. То, что мы называем высокой
квалификацией, уверенное и чёткое знание, умение, искусство, золотые руки,
немногословие и полное отсутствие фразы, постоянная готовность к работе — вот
что увлекает ребят в наибольшей степени. Вы можете быть с ними сухи до
последней степени, требовательны до придирчивости, вы можете не замечать их,
если они торчат у вас под рукой, можете даже безразлично относиться к их
симпатии, но если вы блещете работой, знанием, удачей, то спокойно не
оглядывайтесь: они на вашей стороне, и они не выдадут. Всё равно, в чём
проявляются эти ваши способности, всё равно, кто вы такой: столяр, агроном,
кузнец, учитель, машинист. И наоборот, как бы вы ни были ласковы,
занимательны в разговоре, добры и приветливы, как бы вы не были симпатичны в
быту и в отдыхе, если ваше дело сопровождается неудачами и провалами, если на
каждом шагу видно, что вы своего дела не знаете, если всё у вас оканчивается
браком или «пшиком», — никогда вы ничего не заслужите, кроме презрения,
иногда снисходительного и иронического, иногда гневного и уничтожающе
враждебного, иногда назойливо шельмующего. Как‑то в спальне у девочек ставил
печник печку. Заказали ему круглую утермарковскую. Печник забрёл к нам
мимоходом, протолкался в колонии день, у кого‑то починил плиту,
поправил стенку в конюшне. У него была занятная наружность: весь кругленький,
облезший и в то же время весь сияющий и сахарный. Он сыпал прибаутками и
словечками, и по его словам выходило, что печника, равного ему, на свете нет. Колонисты ходили за ним толпой, очень
недоверчиво относились к его рассказам и встречали его повествования часто не
теми реакциями, на которые он рассчитывал. — Тамочки, детки, были, конечно,
печники и постарше меня, но граф никого не хотел признавать.
«Позовите, — говорит, — братцы, Артемия. Этот если уж складёт
печку, так будет печка». Оно, конечно, что я молодой был печник, а печка в
графском доме, сами понимаете… Бывало, посмотришь на печку, значит, а граф и
говорит: «Ты, Артемий, уж постарайся…» — Ну, и выходило что‑нибудь? —
спрашивают колонисты. — Ну, а как же: граф всегда
посмотрит… Артемий важно задирает облезшую голову и изображает
графа, осматривающего печку, которую построил Артемий. Ребята не выдерживают
и заливаются смехом: очень уж Артемий мало похож на графа. Утермарковку Артемий начал с
торжественными и специальными разговорами, вспомнил по этому поводу все
утермарковские печки, и хорошие, сложенные им, и никуда не годные, сложенные
другими печниками. При этом он, не стесняясь, выдавал все тайны своего
искусства и перечислял все трудности работы утермарковской печки: — Самое главное здесь — радиусом
провести правильно. Другой не может с радиусом работать. Ребята совершали в спальню девочек целые
паломничества и, притихнув, наблюдали, как Артемий «проводит радиусом». Артемий много тараторил, пока складывал
фундамент. Когда же перешёл к самой печке, в его движениях появилась
некоторая неуверенность, и язык остановился. Я зашёл посмотреть на работу Артемия.
Колонисты расступились и заинтересованно на меня поглядывали. Я покачал
головой: — Что же она такая пузатая? — Пузатая? — спросил
Артемий. — Нет, не пузатая, это она кажет, потому что не закончено, а
потом будет как следует. Задоров прищурил глаз и посмотрел на
печку: — А у графа тоже так «казало»? Артемий не понял иронии: — Ну а как же, это уже всякая печка,
пока не кончена. Вот и ты, например… Через три дня Артемий позвал меня
принимать печку. В спальне собралась вся колония. Артемий топтался вокруг
печки задирал голову. Печка стояла посреди комнаты, выпирая во все стороны
кривыми боками, и… вдруг рухнула, загремела, завалила комнату прыгающим
кирпичом, скрыла нас друг от друга, но не могла скрыть в ту же секунду
взорвавшегося хохота, стонов и визга. Многие были ушиблены кирпичами, но
никто уже не был в состоянии заметить свою боль. Хохотали и в спальне, и,
выбежав из спальни, в коридорах, и на дворе, буквально корчились в судорогах
смеха. Я выбрался из разрушения и в соседней комнате наткнулся на Буруна,
который держал Артемия за ворот и уже прицеливался кулаком по его засорённой
лысине. Артемия прогнали, но его имя надолго
сделалось синонимом ничего не знающего, хвастуна и «партача». Говорили: — Да что это за человек? — Артемий, разве не видно! Шере в глазах колонистов меньше всего был
Артемием, и поэтому в колонии его сопровождало всеобщее признание, и работа
по сельскому хозяйству пошла у нас споро и удачно. У Шере были ещё и
дополнительные способности: он умел найти вымороченное имущество, обернуться
с векселем, вообще кредитнуться, поэтому в колонии стали появляться новенькие
корнерезки, сеялки, буккеры, кабаны и даже коровы. Три коровы, подумайте! Где‑то
близко запахло молоком. В колонии началось настоящее
сельскохозяйственное увлечение. Только ребята кое‑чему научившиеся в
мастерских не рвались в поле. На площадке за кузницей Шере выкопал парники, и
столярная готовила для них рамы. Во второй колонии парники готовились в
грандиозных размерах. В самый разгар сельскохозяйственной
ажиотации, в начале февраля, в колонию зашёл Карабанов. Хлопцы встретили его
восторженными объятиями и поцелуями. Он кое‑как сбросил их с себя и
ввалился ко мне: — Зашёл посмотреть, как вы живёте. Улыбающиеся, обрадованные рожи
заглядывали в кабинет: колонисты, воспитатели, прачки. — О, Семён! Смотри! Здорово! До вечера Семён бродил по колонии,
побывал в «Трепке», вечером пришёл ко мне, грустный и молчаливый. — Расскажи же, Семён, как ты живешь? — Да как живу… У батька. — А Митягин где? — Ну его к чёрту! Я его бросил.
Поехал в Москву, кажется. — А у батька как? — Да что ж, селяне, как обыкновенно.
Батька ещё молодец… Брата убили… — Как это? — Брат у меня партизан, убили
петлюровцы в городе, на улице. — Что же ты думаешь? У батька
будешь? — Нет… У батька не хочу… Не знаю… Он дёрнулся решительно и придвинулся ко
мне. — Знаете, что, Антон
Семёнович, — вдруг выстрелил он, — а что если я останусь в колонии?
А? Семён быстро глянул на меня и опустил
голову к самым коленям. Я сказал ему просто и весело: — Да в чём дело? Конечно, оставайся.
Будем все рады. Семён сорвался со стула и весь затрепетал
от сдерживаемой горячей страсти: — Не можу, понимаете, не можу!
Первые дни так‑сяк, а потом — ну, не можу, вот и всё. Я хожу, роблю, чи
там за обидом как вспомню, прямо хоть кричи! Я вам так скажу: вот привязался
к колонии, и сам не знал, думал — пустяк, а потом — всё равно, пойду, хоть
посмотрю. А сюды пришёл да как побачил, що у вас тут делается, тут же прямо так
у вас добре! От ваш Шере… — Не волнуйся так, чего ты? —
сказал я ему. — Ну и было бы сразу прийти. Зачем так мучиться? — Да я и сам так думал, да как
вспомню всё это безобразие, как мы над вами куражились, так аж… Он махнул рукой и замолчал. — Добре, — сказал я, —
брось всё. Семён осторожно поднял голову: — Только… может быть, вы что‑нибудь
думаете: кокетую, как вы говорили. Так нет. Ой, если бы вы знали, чему я
только научился! Вы мне прямо скажите, верите вы мне? — Верю, — сказал я серьёзно. — Нет, вы правду скажите: верите? — Да пошёл ты к чёрту! — сказал
я смеясь. — Я думаю, прежнего ж не будет? — От видите, значит, не совсем
верите… — Напрасно ты, Семён, так
волнуешься. Я всякому человеку верю. Только одному больше, другому меньше:
одному на пятак, другому на гривенник. — А мне на сколько? — А тебе на сто рублей. — А я вот так совсем вам не
верю! — «вызверился» Семён. — Вот тебе и раз! — Ну, ничего, я вам ещё докажу… Семён ушёл в спальню. С первого же дня он сделался правой рукой
Шере. У него была ярко выраженная хлебородская жилка, он много знал, и многое
сидело у него в крови «з дида, з прадида» — степной унаследованный опыт. В то
же время он жадно впитывал новую сельскохозяйственную мысль, красоту и
стройность агрономической техники. Семён следил за Шере ревнивым взглядом и
старался показать ему, что и он способен не уставать и не останавливаться.
Только спокойствию Эдуарда Николаевича он подражать не умел и всегда был
взволнован и приподнят, вечно бурлил то негодованием, то восторгом, то
телячьей радостью. Недели через две я позвал Семёна и сказал
просто: — Вот доверенность. Получишь в
финотделе пятьсот рублей. Семён открыл рот и глаза, побледнел и
посерел, неловко сказал: — Пятьсот рублей? И что? — И больше ничего, — ответил я,
заглядывая в ящик стола, — привезёшь их мне. — Ехать верхом? — Верхом, конечно. Вот револьвер на
всякий случай. Я передал Семёну тот самый револьвер,
который осенью вытащил из‑за пояса Митягин, с теми же тремя патронами.
Карабанов машинально взял револьвер в руки, дико посмотрел на него, быстрым
движением сунул в карман и, ничего больше не сказав, вышел из комнаты. Через
десять минут я услышал треск подков по мостовой: мимо моего окна карьером
пролетел всадник. Перед вечером Семён вошёл в кабинет,
подпоясанный, в коротком полушубке кузнеца, стройный и тонкий, но сумрачный.
Он молча выложил на стол пачку кредиток и револьвер. Я взял пачку в руки и спросил самым
безразличным и невыразительным голосом, на какой только был способен: — Ты считал? — Считал. Я небрежно бросил пачку в ящик. — Спасибо, что потрудился. Иди
обедать. Карабанов для чего‑то передвинул
слева направо пояс на полушубке, метнулся по комнате, но сказал тихо: — Добре. И вышел. Прошло две недели. Семён, встречаясь со
мной, здоровался несколько угрюмо, как будто меня стеснялся. Так же угрюмо он выслушал моё новое
приказание: — Поезжай, получи две тысячи рублей. Он долго и негодующе смотрел на меня,
засовывая в карман браунинг, потом сказал, подчёркивая каждое слово: — Две тысячи? А если я не приведу
денег? Я сорвался с места и заорал на него: — Пожалуйста, без идиотских
разговоров! Тебе дают поручение, ступай и сделай. Нечего «психологию»
разыгрывать! Карабанов дёрнул плечом и прошептал
неопределённо: — Ну, что ж… Привезя деньги, он пристал ко мне: — Посчитайте. — Зачем? — Посчитайте, я вас прошу! — Да ведь ты считал? — Посчитайте, я вам кажу. — Отстань! Он схватил себя за горло, как будто его
что‑то душило, потом рванул воротник и зашатался. — Вы надо мною издеваетесь! Не может
быть, чтобы вы мне так доверяли. Не может быть! Чуете? Не может быть! Вы
нарочно рискуете, я знаю, нарочно… Он задохнулся и сел на стул. — Мне приходится дорого платить за
твою услугу. — Чем платить? — рванулся
Семён. — А вот наблюдать твою истерику. Семён схватился за подоконник и прорычал: — Антон Семёнович! — Ну, чего ты? — уже немного
испугался я. — Если бы вы знали! Если бы вы
только знали! Я ото дорогою скакав и думаю: хоть бы бог был на свете. Хоть бы
бог послал кого‑нибудь, чтоб ото лесом кто‑нибудь набросился на
меня… Пусть бы десяток, чи там сколько… я не знаю. Я стрелял бы, зубами кусав
бы, рвал, как собака, аж пока убили бы… И знаете, чуть не плачу. И знаю ж: вы
отут сидите и думаете: чи привезёт, чи не привезёт? Вы ж рисковали, правда? — Ты чудак, Семён! С деньгами всегда
риск. В колонию доставить пачку денег без риска нельзя. Но я думаю так: если
ты будешь возить деньги, то риска меньше. Ты молодой, сильный, прекрасно
ездишь верхом, ты от всяких бандитов удерёшь, а меня они легко поймают. Семён радостно прищурил один глаз: — Ой, и хитрый же вы, Антон
Семёнович! — Да чего мне хитрить? Теперь ты
знаешь, как получать деньги, и дальше будешь получать. Никакой хитрости. Я
ничего не боюсь. Я знаю: ты человек такой же честный, как и я. Я это и раньше
знал, разве ты этого не видел? — Нет, я думал, что вы этого не
знали, — сказал Семён, вышел из кабинета и заорал на всю колонию: Вылиталы орлы З‑за крутой горы, Вылиталы, гуркоталы, Роскоши шукалы. |
|
||||
|
|
25. Командирская педагогика
Зима двадцать третьего года принесла нам
много важных организационных находок, надолго вперёд определивших формы
нашего коллектива. Важнейшая из них была — отряды и командиры. И до сих пор в колонии имени Горького и в
коммуне имени Дзержинского есть отряды и командиры, имеются они и в других
колониях, разбросанных по Украине. Разумеется, очень мало общего можно найти
между отрядами горьковцев эпохи 1927‑1928 годов или отрядами коммунаров‑дзержинцев
и первыми отрядами Задорова и Буруна. Но нечто основное было уже и зимой
двадцать третьего года. Принципиальное значение системы наших отрядов стало
заметно гораздо позднее, когда наши отряды потрясали педагогический мир
широким маршем наступления и когда они сделались мишенью для остроумия
некоторой части педагогических писак. Тогда всю нашу работу иначе не
называли, как командирской педагогикой, полагая, что в этом сочетании слов
заключается роковой приговор. В 1923 году никто не предполагал, что в
нашем лесу создаётся важный институт, вокруг которого будет разыгрываться
столько страстей. Дело началось с пустяка. Полагаясь, как всегда, на нашу
изворотливость, нам в этом году не дали дров. По‑прежнему мы
пользовались сухостоем в лесу и продуктами лесной расчистки. Летние заготовки
этого малоценного топлива к ноябрю были сожжены, и нас нагнал топливный
кризис. По правде сказать, нам всем страшно надоела эта возня с сухостоем.
Рубить его было не трудно, но для того чтобы собрать сотню пудов этих, с
позволения сказать, дров, нужно было обыскать несколько десятин леса,
пробираться между густыми зарослями и с большой и напрасной тратой сил
свозить всю собранную мелочь в колонию. На этой работе очень рвалось платье,
которого и так не было, а зимою топливные операции сопровождались
отмороженными ногами и бешеной склокой в конюшне: Антон и слышать не хотел о
заготовках топлива. — Старцюйте (нищенствуйте) сами, а
коней нечего гонять старцювать. Дрова они будут собирать! Какие это дрова? — Братченко, да ведь топить
нужно? — задавал убийственный вопрос Калина Иванович. Антон отмахивался: — По мне хоть и не топите, в конюшне
всё равно не топите, нам и так хорошо. В таком затруднительном положении нам
всё-таки удалось на общем собрании убедить Шере на время сократить работы по
вывозке навоза и мобилизовать самых сильных и лучше других обутых колонистов
на лесные работы. Составилась группа человек в двадцать, в которую вошёл весь
наш актив: Бурун, Белухин, Вершнев, Волохов, Осадчий, Чобот и другие. Они с
утра набивали карманы хлебом и в течение целого дня возились в лесу. К вечеру
наша мощёная дрожка была украшена кучами хворосту, и за ними выезжал на
«рижнатых» парных санях Антон, надевая на свою физиономию презрительную
маску. Ребята возвращались голодные и
оживлённые. Очень часто они сопровождали свой путь домой своеобразной игрой,
в которой присутствовали некоторые элементы их бандитских воспоминаний. Пока
Антон и двое ребят нагружали сани хворостом, остальные гонялись друг за
другом по лесу; увенчивалось всё это борьбой и пленением бандитов. Пойманных
«лесовиков» приводил в колонию конвой, вооружённый топорами и пилами. Их шутя
вталкивали в мой кабинет, и Осадчий или Корыто, который когда‑то служил
у Махно и потерял даже палец на руке, шумно требовали от меня: — Голову сняты або расстриляты!
Ходят по лесу с оружием, мабуть, их там богато. Начинался допрос. Волохов насупливал
брови и приставал к Белухину: — Кажи, пулемётов сколько? Белухин заливался смехом и спрашивал: — Это что ж такое «пулемёт»? Его
едят? — Кого — пулемёт? Ах ты, бандитская
рожа!.. — Ах, не едят? В таком положении
меня пулемёт мало интересует. К Федоренко, человеку страшно селянскому,
обращались вдруг: — Признавайся, у Махна був? Федоренко довольно быстро соображал, как
нужно ответить, чтобы не нарушить игру: — Був. — А что там робыв? Пока Федоренко соображает, какой дать
ответ, из‑за его плеча кто‑нибудь отвечает его голосом, сонным и
тупым: — Коров пас. Федоренко оглядывается, но на него
смотрят невинные физиономии. Раздаётся общий хохот. Смущённый Федоренко
начинает терять игровую установку, приобретённую с таким трудом, а в это
время на него летит новый вопрос: — Хиба в тачанках коровы? Игровая установка окончательно потеряна,
и Федоренко разрешается классическим: — Га? Корыто смотрит на него со страшным
негодованием, потом поворачивается ко мне и произносит напряжённым шёпотом: — Повысить? Це страшный чоловик:
подывиться на его очи. Я отвечаю в тон: — Да, он не заслуживает
снисхождения. Отведите его в столовую и дайте ему две порции! — Страшная кара! — трагически
говорит Корыто. Белухин начинает скороговоркой: — Собственно говоря, я тоже ужасный
бандит… И тоже коров пас у матушки Маруськи… Федоренко только теперь улыбается и
закрывает удивлённый рот. Ребята начинают делиться впечатлениями работы.
Бурун рассказывает: — Наш отряд сегодня представил
двенадцать возов, не меньше. Говорили вам, что к Рождеству будет тысяча
пудов, и будет! Слово «отряд» было термином
революционного времени, того времени, когда революционные волны ещё не успели
выстроиться в стройные колонны полков и дивизий. Партизанская война, в
особенности длительная у нас на Украине, велась исключительно отрядами. Отряд
мог вмещать в себя и несколько тысяч человек, и меньше сотни: и тому и
другому отряду одинаково были назначены и боевые подвиги, и спасательные
лесные трущобы. Наши коммунары больше кого‑нибудь
другого имели вкус к военно‑партизанской романтике революционной
борьбы. Даже и те, которые игрою случая были занесены во враждебный классовый
стан, прежде всего находили в нём эту самую романтику. Сущность борьбы,
классовые противоречия для многих из них были и непонятны, и неизвестны —
этим и объяснялось, что советская власть с них спрашивала немного и присылала
в колонию. Отряд в нашем лесу, пусть только
снабжённый топором и пилой, возрождал привычный и родной образ другого
отряда, о котором были если не воспоминания, то многочисленные рассказы и
легенды. Я не хотел препятствовать этой
полусознательной игре революционных инстинктов наших колонистов.
Педагогические писаки, так осудившие и наши отряды, и нашу военную игру,
просто не способны были понять, в чём дело. Отряды для них не были приятными
воспоминаниями: они не церемонились ни с их квартирками, ни с их психологией
и по тем и по другим стреляли из трёхдюймовок, не жалея ни их «науки», ни
наморщенных лбов. Ничего не поделаешь. Вопреки их вкусам
колония начала с отряда. Бурун в дровяном сарае всегда играл первую
скрипку, этой чести у него никто не оспаривал. Его в порядке той же игры
стали называть атаманом. Я сказал: — Атаманом называть не годится.
Атаманы бывали только у бандитов. Ребята возражали: — Чего у бандитов? И у партизан
бывали атаманы. У красных партизан многие бывали. — В Красной армии не говорят:
атаман. — В Красной армии — командир. Так
нам далеко до Красной Армии. — Ничего не далеко, а командир
лучше. Рубку дров кончили: к первому января у
нас было больше тысячи пудов. Но отряд Буруна мы не стали распускать, и он
целиком перешёл на постройку парников во второй колонии. Отряд с утра уходил
на работу, обедал не дома и возвращался только к вечеру. Как‑то обратился ко мне Задоров: — Что же это у нас получается: есть
отряд Буруна, а остальные хлопцы как же? Думали недолго. В то время у нас уже был
ежедневный приказ; отдали в приказе, что в колонии организуется второй отряд
под командой Задорова. Второй отряд весь работал в мастерских, и в него
вернулись от Буруна такие квалифицированные мастера, как Белухин и Вершнев. Дальнейшее развёртывание отрядов
произошло очень быстро. Во второй колонии было организованы третий и
четвёртый отряды с отдельными командирами. Девочки составили пятый отряд под
командованием Насти Ночевной. Система отрядов окончательно выработалась
к весне. Отряды стали мельче и заключали в себе идею распределения колонистов
по мастерским. Я помню, что сапожники всегда носили номер первый, кузнецы —
шестой, конюхи — второй, свинари — десятый. Сначала у нас не было никакой
конституции. Командиры назначались мною, но к весне чаще и чаще я стал
собирать совещание командиров, которому скоро ребята присвоили новое и более
красивое название: «совет командиров». Я быстро привык ничего важного не
предпринимать без совета командиров; постепенно и назначение командиров
перешло к совету, который таким образом стал пополняться путём кооптации.
Настоящая выборность командиров, их отчётность была достигнута не скоро, но я
эту выборность никогда не считал и теперь не считаю достижением. В совете
командиров выбор нового командира всегда сопровождался очень пристальным
обсуждением. Благодаря способу кооптации мы имели всегда прямо великолепных
командиров, и в то же время мы имели совет, который никогда как целое не
прекращал своей деятельности и не выходил в отставку. Очень важным правилом, сохранившимся до
сегодняшнего дня, было полное запрещение каких бы то ни было привилегий для
командира; он никогда не получал ничего дополнительно и никогда не
освобождался от работы. К весне двадцать третьего года мы подошли
к очень важному усложнению системы отрядов. Это усложнение, собственно
говоря, было самым важным изобретением нашего коллектива за все тринадцать
лет нашей истории. Только оно позволило нашим отрядам слиться в настоящий,
крепкий и единый коллектив, в котором была рабочая и организационная
дифференциация, демократия общего собрания, приказ и подчинение товарищу, но
в котором не образовалось аристократии — командной касты. Это изобретение было сводный отряд. Противники нашей системы, так нападающие
на командирскую педагогику, никогда не видели нашего живого командира в
работе. Но это ещё не так важно. Гораздо важнее то, что они никогда даже не
слышали о сводном отряде, то есть не имели никакого понятия о самом главном и
решающем коррективе в системе. Сводный отряд вызван к жизни тем
обстоятельством, что главная наша работа была тогда сельскохозяйственная. У
нас было до семидесяти десятин, и летом Шере требовал на работу всех. В то же
время каждый колонист был приписан к той или иной мастерской, и ни один не
хотел порывать с нею: на сельское хозяйство все смотрели как на средство
существования и улучшения нашей жизни, а мастерская — это квалификация.
Зимой, когда сельскохозяйственные работы сводились до минимума, все
мастерские были наполнены, но уже с января Шере начинал требовать колонистов
на парники и навоз и потом с каждым днём увеличивал и увеличивал требования. Сельскохозяйственная работа
сопровождалась постоянной переменой места и характера работы, а
следовательно, приводила к разнообразному сечению коллектива по рабочим
заданиям. Единоначалие нашего командира в работе и его концентрированная
ответственность с самого начала показались нам очень важным институтом, да и
Шере настаивал, чтобы один из колонистов отвечал за дисциплину, за
инструмент, за выработку и за качество. Сейчас против этого требования не
станет возражать ни один здравомыслящий человек, да и тогда возражали,
кажется, только педагоги. Идя навстречу совершенно понятной
организационной нужде, мы пришли к сводному отряду. Сводный отряд — это временный отряд,
составляющийся не больше как на неделю, получающий короткое определённое
задание: выполнить картофель на таком‑то поле, вспахать такой‑то
участок, очистить семенной материал, вывезти навоз, произвести посев и так
далее. На разную работу требовалось и разное
число колонистов: в некоторые сводные отряды нужно было послать двух человек,
в другие — пять, восемь, двадцать. Работа сводных отрядов отличалась также и
по времени. Зимой, пока в нашей школе занимались, ребята работали до обеда или
после обеда — в две смены. После закрытия школы вводился шестичасовой рабочий
день для всех в одно время, но необходимость полностью использовать живой и
мёртвый инвентарь приводила к тому, что некоторые ребята работали с шести
утра до полудня, а другие — с полудня до шести вечера. Иногда же работа
наваливалась на нас в таком количестве, что приходилось увеличивать рабочий
день. Все это разнообразие типа работы и её
длительности определило и большое разнообразие сводных отрядов. У нас
появилась сетка сводных, немного напоминающая расписание поездов. В колонии все хорошо знали, что третий
"О" сводный работает от восьми утра до четырёх дня, с перерывом на
обед, и при этом обязательно на огороде, третий "С" — в саду,
третий "Р" — на ремонте, третий "П" — в парниках: первый
сводный работает от шести утра до двенадцати дня, а второй сводный — от
двенадцати до шести. Номенклатура сводных скоро дошла до тринадцати. Сводный отряд был всегда отрядом только
рабочим. Как только заканчивалась его работа и ребята возвращались вв
колонию, сводного отряда больше не существовало. Каждый колонист знал свой постоянный
отряд, имеющий своего постоянного командира, определённое место в системе
мастерских, место в спальне и место в столовой. Постоянный отряд — это
первичный отряд колонистов, и командир его — обязательно член совета
командиров. Но с весны, чем ближе к лету, тем чаще и чаще колонист то и дело
попадал на рабочую неделю в сводный отряд того или другого назначения.
Бывало, что в сводном отряде всего два колониста; всё равно один из них
назначался командиром сводного отряда — комсводотряда. Комсводотряда
распоряжался на работе и отвечал за неё. Но как только оканчивался рабочий
день, сводный отряд рассыпался. Каждый сводный отряд составлялся на
неделю, следовательно, и отдельный колонист на вторую неделю обычно получал
участие в новом сводном, на новой работе, под командой нового комсводотряда.
Командир сводного назначался советом командиров тоже на неделю, а после этого
переходил в новый сводный обыкновенно уже не командиром, а рядовым членом. Совет командиров всегда старался
проводить через нагрузку комсводотряда всех колонистов, кроме самых
неудачных. Это было справедливо потому что командование сводным отрядом
связано было с большой ответственностью и заботами. Благодаря такой системе
большинство колонистов участвовали не только в рабочей функции, но и в
функции организаторской. Это было очень важно и было как раз то, что нужно
коммунистическому воспитанию. Благодаря именно этому наша колония отличалась
к 1926 году бьющей в глаза способностью настроиться и перестроиться для любой
задачи, и для выполнения отдельных деталей этой задачи всегда находились с
избытком кадры способных и инициативных организаторов, распорядителей, людей,
на которых можно было положиться. Значение командира постоянного отряда
становилось чрезвычайно умеренным. Постоянные командиры почти некогда не
назначали себя командирами сводных, полагая, что они и так имеют нагрузку.
Командир постоянного отряда отправлялся на работу простым рядовым участником
сводного отряда и во время работы подчинился временному комсводотряда, часто
члену своего же постоянного отряда. Это создавало очень сложную цепь
зависимостей в колонии, и в этой цепи уже не мог выделиться и стать над
коллективом отдельный колонист. Система сводных отрядов делала жизнь в
колонии очень напряжённой и полной интереса, чередования рабочих и
организационных функций, упражнений в командовании и в подчинении, движений
коллективных и личных. |
|
||||
|
|
26. Изверги второй колонии
Два с лишним года мы ремонтировали
«Трепке», но к весне двадцать третьего года почти неожиданно для нас
оказалось, что сделано очень много, и вторая колония в нашей жизни стала
играть заметную роль. Во второй колонии находилась главная арена деятельности
Шере — там были коровник, конюшня и свинарник. С начала летнего сезона жизнь
второй колонии уже не прозябала, как раньше, а по‑настоящему кипела. До поры до времени действительными
возбудителями этой жизни были всё-таки сводные отряды первой колонии. В
течение всего дня можно было видеть, как по извилистым тропинкам и межам
между первой и второй колониями происходило почти не прекращающееся движение
сводных отрядов: одни отряды спешили во вторую колонию на работу, другие
торопились к обеду или ужину в первую. Вытянувшись в кильватер, сводный отряд
очень быстрым шагом покрывает расстояние. Ребячья находчивость и смелость не
сильно смущались наличием частновладельческих интересов и частновладельческих
рубежей. В первое время хуторяне ещё пытались кое‑что противопоставить
этой находчивости, но потом убедились, что это дело безнадёжное: неуклонно и
весело колонисты производили ревизию разнообразным межхуторским путям
сообщения и настойчиво выправляли их, стремясь к реальному идеалу — прямой
линии. Там, где прямая линия проходила через хозяйский двор, приходилось
совершать работу не только геометрического преодоления, нужно было ещё
нейтрализовать такие вещи, как собаки, плетни, заборы и ворота. Самым лёгким объектом были собаки: хлеба
у нас было довольно, да и без хлеба в глубине души хуторские собаки сильно
симпатизировали колонистам. Скучная провинциальная собачья жизнь, лишённая
ярких впечатлений и здорового смеха, была неожиданно разукрашена новыми и
интересными переживаниями: большое общество, интересные разговоры,
возможность организовать французскую борьбу в ближайшей куче соломы и,
наконец, высшее наслаждение — прыгать рядом с быстро идущим отрядом,
выхватывать веточку из рук пацана и иногда получить от него какую‑нибудь
яркую ленточку на шее. Даже цепные представители хуторской жандармерии
оказались ренегатами, тем более что для агрессивных действий не было самого
главного: с ранней весны колонисты не носили штанов — трусики были
гигиеничнее, красивее и дешевле. Разложение хуторского общества,
начавшееся с ренегатства Бровка, Серка и Кабыздоха, продолжалось и дальше и
привело к тому, что и остальные препятствия к выпрямлению линии колония —
Коломак оказались недействительными. Сначала на нашу сторону перешли Андрии,
Мыкыты, Нечипоры и Мыколы в возрасте от десяти до шестнадцати лет. Их
привлекала всё та же романтика колонистской жизни и работы. Они давно слышали
наши трубные призывы, давно раскусили непередаваемую сладость большого и
весёлого коллектива, а теперь открывали рты и восхищались всеми этими
признаками высшей человеческой деятельности: «сводный отряд», «командир», и
ещё шикарнее — «рапорт». Более старших интересовали новые способы
сельскохозяйственной работы; херсонский пар привлекал их не только к сердцам
колонистов, но и к нашему полю, и к нашей сеялке. Сделалось обыкновенным, что
за каждым нашим сводным обязательно увязывался приятель с хутора, который
приносил с собою тайком взятую в клуне сапку или лопату. Эти ребята и по
вечерам наполняли колонию и незаметно для нас сделались её непременной
принадлежностью. По их глазам было видно, что сделаться колонистом
становилось для них мечтой жизни. Некоторым это потом удавалось, когда
внутрисемейные, бытовые и религиозные конфликты выталкивали их из отцовских
объятий. И наконец, разложение хутора увенчалось
самым сильным, что есть на свете: не могли устоять хуторские девчата против
обаяния голоногого, подтянутого, весёлого и образованного колониста. Туземные
представители мужского начала не способны были ничего предъявить в противовес
этому обаянию, тем более что колонисты не спешили воспользоваться девичьей
податливостью, не колотили девчат между лопатками, не хватали ни за какие
места и не куражились над ними. Наше старшее поколение в это время уже
подходило к рабфаку и к комсомолу, уже начинало понимать вкус в утонченной
вежливости и в интересной беседе. Симпатии хуторских девчат в это время ещё
не приняли форм влюблённости. Они хорошо относились и к нашим девчатам, более
развитым и «городским», а в тоже время и не панночкам. Любовь и любовные
фабулы пришли несколько позднее. Поэтому девчата искали не только свиданий и
соловьиных концертов, но и общественных ценностей. Их стайки всё чаще и чаще
появлялись в колонии. Они ещё боялись плавать в колонистских волнах в
одиночку: усаживались рядком на скамейках и молча впитывали в себя новенькие,
с иголочки, впечатления. Может быть, их чересчур поразило запрещение лущить
семечки не только в помещении, но и во дворе? Плетни, заборы и ворота благодаря
сочувствию нашему делу со стороны молодого поколения уже не могли служить
хозяину в прежнем направлении: удостоверять неприкосновенность частной
собственности. Поэтому скоро колонисты дошли до такой наглости, что в
наиболее трудных местах построили так называемые перелазы. В России, кажется,
не встречается это транспортное усовершенствование. Заключается оно в том,
что через плетень проводится неширокая дощечка и подпирается с конца двумя
колышками. Выпрямление линии Коломак — колония
происходило и за счёт посевов — признаемся в этом грехе. Так или иначе, а к
весне двадцать третьего года эта линия могла бы поспорить с Октябрьской
железной дорогой. Это значительно облегчило работу наших сводных отрядов. В обед сводный отряд получает свою порцию
раньше других. Уже в двадцать минут первого сводный отряд пообедал и
немедленно выступает. Дежурный по колонии вручает ему бумажку, в которой
написано всё, что нужно: номер отряда, список членов, имя командира,
назначенная работа и время выполнения. Шере завёл во всём этом высшую
математику: задание всегда рассчитано до последнего метра и килограмма. Сводный отряд быстро выступает в путь,
через пять‑шесть минут его кильватер уже виден далеко в поле. Вот он
перескочил через плетень и скрылся между хатами. Вслед за ним на расстоянии,
определённом длительностью разговора с дежурным по колонии, выступает следующий,
какой‑нибудь третий "К" или третий "С". Скоро всё
поле разрезано чёрточками наших сводных. Сидящий на крыше погреба Тоська
между тем уже звенит: — Первый "Б" вертается! Действительно, из хуторских плетней
выползает кильватер первого "Б". Первый "Б" всегда
работает на вспашке или на посеве, вообще с лошадьми. Он ушёл ещё в половине
шестого утра, и вместе с ним ушёл и его командир Белухин. Именно Белухина и
высматривает Тоська с вершины крыши погреба. Через несколько минут первый
"Б" — шесть колонистов — уже во дворе колонии. Пока отряд
рассаживается в лесу, Белухин отдаёт рапорт дежурному по колонии. На рапорте
отметка Родимчика о времени прибытия, об исполненной работе. Белухин, как всегда, весел: — Задержка на пять минут вышла,
понимаете. Виноват флот. Нам нужно на работу, а Митька каких‑то
спекулянтов возит. — Каких спекулянтов? —
любопытствует дежурный. — А как же! Сад приезжали нанимать. — Ну? — Да я их дальше берега не пустил:
что ж вы думаете, вы будете яблоки шамать, а мы на вас смотреть будем? Плыви,
граждане, в исходное положение!.. Здравствуйте, Антон Семёнович, как у вас
дела идут? — Здравствуй, Матвей. — Скажите по совести, скоро оттуда
Родимчика уберут? Как‑то, знаете, Антон Семёнович, очень даже
неприличично. Такой человек ходит, понимаете, по колонии, тоску наводит. Даже
работать через него не хочется, а тут ещё давай ему рапорт подписывать. С
какой стати? Родимчик этот мозолил глаза всем
колонистам. Во второй колонии к этому времени было
больше двадцати человек, и работы им было по горло. Шере только полевую
работу проводил силами сводных отрядов первой колонии. Конюшня, коровник, всё
разрастающаяся свинарня обслуживались тамошними ребятами. В особенности много
сил вкладывалось во второй колонии на приведение в порядок сада. Сад имел
четыре десятины, он был полон хороших молодых деревьев. Шере предпринял в
саду грандиозные работы. Сад был весь перепахан, деревья подрезаны,
освобождены от всякой нечистоты, расчищен большой смородник, проведены
дорожники и организованы цветники. Наша молодая оранжерея к этой весне дала
первую продукцию. Много было работы и на берегу — там проводили канавки,
вырубали камыши. Ремонт имения подходил к концу. Даже
конюшня пустотелого бетона перестала дразнить нас взорванной крышей: её
покрыли толем, а внутри плотники заканчивали устройство станков для свиней.
По расчётам Шере, в ней должно было поместиться сто пятьдесят свиней. Для колонистов жизнь во второй колонии
была малопритягательной, в особенности зимой. В старой колонии мы успели
приспособиться, и так хорошо всё здесь улеглось, что мы почти не замечали ни
каменных скучных коробок, ни полного отсутствия красоты и поэзии. Красота
заменилась математическим порядком, чистотой и точной прилаженностью самой
последней, пустяковой вещи. Вторая колония, несмотря на свою буйную
красоту в петле Коломака, высокие берега, сад, красивые и большие дома, была
только наполовину выведена из хаоса и разрушения, вся была завалена
строительным мусором и исковеркана известковыми ямами, а всё вместе зарастало
таким бурьяном, что я часто задумывался, сможем ли мы когда‑нибудь с
этим бурьяном справиться. И для жизни здесь всё было как‑то
не вполне готово: спальни хороши, но нет настоящей кухни и столовой. Кухню
кое‑как приспособили, так погреб не готов. И самая главная беда с
персоналом: некому было во второй колонии первому размахнуться. Все эти обстоятельства привели к тому,
что колонисты, так охотно и с таким пафосом совершавшие огромную работу
восстановления второй колонии, жить в ней не хотели. Братченко готов был
делать в день по двадцать вёрст из колонии в колонию, недоедать и недосыпать,
но быть переведённым во вторую колонию считал для себя позором. Даже Осадчий
говорил: — Краще пиду з колонии, а в Трепках
не житиму. Все яркие характеры первой колонии к
этому времени успели сбиться в такую дружную компанию, что оторвать кого‑либо
можно было только с мясом. Переселять их во вторую колонию значило бы
рисковать и второй колонией, и самими характерами. Ребята это очень хорошо
понимали. Карабанов говорил: — Наши як добри жерэбци. Такого, як
Бурун, запряжы добрэ та по‑хозяйскому чмокны, то й повэээ, ще й голову
задыратымэ, а дай ему волю, то вин и сэбэ и виз рознэсэ дэ‑нэбудь пид
горку. Во второй колонии поэтому начал
образовываться коллектив совершенного иного тона и ценности. В него вошли
ребята и не столь яркие, и не столь активные, и не столь трудные. Веяло от
них какой‑то коллективной сыростью, результатом отбора по
педагогическим соображениям. Интересные личности находились там
случайно, подрастали из малышей, неожиданно выделялись из новеньких, но в то
время эти личности ещё не успели показать себя и терялись в общей серой толпе
«трепкинцев». А «трепкинцы» в целом были таковы, что
всё больше и больше удручали и меня и воспитателей, и колонистов. Были они
ленивы, нечистоплотны, склонны даже к такому смертному греху, как
попрошайничество. Они всегда с завистью смотрели на первую колонию, и у них
вечно велись таинственные разговоры о том, что было в первой колонии на обед,
на ужин, что привезли в кладовую первой и почему этого не привезли к ним. К
сильному и прямому протесту они не были способны, а шушукались по углам и
угрюмо дерзили нашим официальным представителям. Наши колонисты начинали уже усваивать
несколько презрительную позу по отношению к «трепкинцам». Задоров или Волохов
приводили из второй колонии какого‑нибудь жалобщика, ввергали в кухню и
просили: — Накормите, пожалуйста, этого
голодающего. «Голодающий», конечно, из ложного
самолюбия отказывался от кормления. На самом же деле во второй колонии
кормились ребята лучше. Ближе были свои огороды, кое‑что можно было
покупать на мельнице, наконец — свои коровы. Перевозить молоко в нашу колонию
было трудно: и далеко, и лошадей не хватало. Во второй колонии складывался коллектив
ленивый и ноющий. Как уже было указано, виноваты в этом были многие
обстоятельства, а больше всего отсутствие ядра и плохая работа
воспитательского персонала. Педагоги не хотели идти на работу в
колонию: жалованье ничтожное, а работа трудная. Наробраз прислал, наконец,
первое, что попалось под руку: Родимчика, а вслед за ним Дерюченко. Они
прибыли с женами и детьми и заняли лучшие помещения в колонии. Я не
протестовал — хорошо, хоть такие нашлись. Дерюченко был ясен, как телеграфный
столб: это был петлюровец. Он «не знал» русского языка, украсил всё помещение
колонии дешёвыми портретами Шевченко и немедленно приступил к единственному
делу, на которое был способен, — к пению «украинскьких писэнь». Дерюченко был ещё молод. Его лицо было
закручено на манер небывалого запорожского валета: усы закручены, шевелюра
закручена, и закручен галстук‑стричка вокруг воротника украинской
вышитой сорочки. Этому человеку всё же приходилось проделывать дела,
кощунственно безразличные к украинской державности: дежурить по колонии,
заходить в свинарню, отмечать прибытие на работу сводных отрядов, а в дни
рабочих дежурств работать с колонистами. Это была для него бессмысленная и
ненужная работа, а вся колония — совершенно бесполезное явление, не имеющее
никакого отношения к мировой идее. Родимчик был столь же полезен в колонии,
как и Дерюченко, но он был ещё и противнее… У Родимчика тридцатилетний жизненный
стаж, работал раньше по разным учреждениям: в угрозыске, в кооперации, на
железной дороге, и, наконец, воспитывал юношество в детских домах. У него
странное лицо, очень напоминающее старый, изношенный, слежавшийся кошелек.
Всё на этом лице измято и покрыто красным налётом: нос немного приплюснут и
свёрнут в сторону, уши придавлены к черепу и липнут к нему вялыми, мёртвыми
складками, рот в случайном кособочии давно изношен, истрёпан и даже изорван
кое‑где от долгого и неаккуратного обращения. Прибыв в колонию и расположившись с
семейством в только что отремонтированной квартире, Родимчик проработал и
вдруг исчез, прислав мне записку что он уезжает по весьма важному делу. Через
три дня он приехал на крестьянском возу, а за возом привязана корова.
Родимчик приказал колонистам поставить корову вместе с нашими. Даже Шере
несколько потерялся от такой неожиданности. Дня через два Родимчик прибежал ко мне с
жалобой: — Я никогда не ожидал, что здесь к
служащим будет такое отношение! здесь, кажется, забыли — теперь не старое
время. Я и мои дети имеем такое же право на молоко, как и все остальные. Если
я проявил инициативу и не ожидал, пока мне будут давать казённое молоко, а
сам, как вы знаете, позаботился, потрудился, из моих скудных средств купил
корову и сам привёл её в колонию, то вы можете заключить, что это нужно
поощрять, но ни в коем случае не преследовать. Какое же отношение к моей
корове? В колонии несколько стогов сена, кроме того, колония по дешёвой цене
получает на мельнице отруби, полову и прочее. И вот, все коровы едят, а моя
стоит голодная, а мальчики отвечают очень грубо: мало ли кто заведёт корову!
У других коров чистят, а у моей уже пять дней не чищено, и она вся грязная.
Выходит так, что моя жена должна идти и сама чистить под коровой. Она бы и
пошла, так ей мальчики не дают ни лопаты, ни вил и, кроме того, не дают
соломы на подстилку. Если такой пустяк, как солома, имеет значение, то я могу
предупредить, что должен буду принять решительные меры. Это ничего, что я
теперь не в партии. Я был в партии и заслужил, чтобы к моей корове не было
подобного отношения. Я тупо смотрел на этого человека и сразу
даже не мог сообразить, есть ли какая‑нибудь возможность с ним
бороться. — Позвольте, товарищ Родимчик, как
же так? Всё же корова ваша — это частное хозяйство, как же можно всё это
смешивать? Наконец, вы же педагог. В какое же положение вы ставите себя по
отношению к воспитанникам? — В чём дело? — затрещал
Родимчик. — Я вовсе не хочу ничего даром: и за корм и за труды
воспитанников я, конечно, уплачу, если не по дорогой цене. А как у меня
украли, у моего ребёнка шапочку‑беретку украли же, конечно,
воспитанники, я же ничего не сказал! Я отправил его к Шере. Тот к этому времени успел опомниться и
выставил корову Родимчика со скотного двора. Через несколько дней она
исчезла: видимо, хозяин продал её. Прошло две недели. Волохов на общем
собрании поставил вопрос: — Что это такое? Почему Родимчик
роет картошку на колонистских огородах? Наша кухня сидит без картошки, а
Родимчик роет. Кто ему разрешил? Колонисты поддержали Волохова. Задоров
говорил: — Не в картошке дело. Семья у него —
пусть бы спросил, у кого следует, картошки не жалко, а только зачем нужен
этот Родимчик? Он целый день сидит у себя на квартире, а то уходит в деревню.
Ребята грязные, никогда его не видят, живут, как дикари. Придёшь рапорт
подписать, и то не найдёшь: то он спит, то обедает, а то ему некогда —
подожди. Какая с него польза? — Мы знаем, как должны работать
воспитатели, — сказал Таранец. — А Родимчик? Выйдет к сводному на
рабочее дежурство, постоит с сапкой полчаса, а потом говорит: «Ну я кой‑куда
сбегаю», — и нет его, а через два часа, смотришь, уже он идёт из
деревни, что‑нибудь в кошёлке тащит. Я обещал ребятам принять меры. На другой
день вызвал Родимчика к себе. Он пришёл к вечеру, и наедине я начал его
отчитывать, но только начал, Родимчик прервал меня: — Я знаю, чьи это штуки, я очень
хорошо знаю, кто под меня подкапывается, — это всё немец этот! А вы
лучше проверьте, Антон Семёнович, что это за человек. Я вот проверил: для
моей коровы даже за деньги не нашлось соломы, корову я продал, дети мои сидят
без молока, приходится носить из деревни. А теперь спросите, чем Шере кормит
своего Милорда? Чем кормит, у вас известно? Нет, неизвестно. А на самом деле
он берёт пшено, которое назначено для птицы, пшено — и варит Милорду кашу. Из
пшена! Сам варит и даёт собаке есть, ничего не платит. И собака ест
колонистское пшено совершенно бесплатно и тайно, пользуясь только тем, что он
агроном и что вы ему доверяете. — Откуда вы это знаете? —
спросил я Родимчика. — О, я никогда не стал бы говорить
напрасно. Я не такой человек, вот посмотрите… Он развернул маленький пакетик, который
достал из внутреннего кармана. В пакетике оказалось что‑то чёрновато‑белое,
какая‑то странная смесь. — Что это такое? — спросил я
удивлённо. — А это вам всё и доказывает. Это и
есть кал Милорда. Кал, понимаете? Я следил, пока не добился. Видите, чем
Милорд ходит? Настоящее пшено. А что, он его покупает? Конечно, не покупает,
берёт просто из кладовки. Я сказал Родимчику: — Вот что, Родимчик, уезжайте вы
лучше из колонии. — Как это «уезжайте»? — Уезжайте по возможности скорее.
Сегодня приказом я вас уволю. Подайте заявление о добровольном уходе, будет
лучше всего. — Я этого дела так не оставлю! — Хорошо. Не оставляйте, но я вас
увольняю. Родимчик ушёл; дело он «так оставил» и
дня через три выехал. Что было делать со второй колонией?
«Трепкинцы» выходили плохими колонистами, и дальше терпеть было нельзя. Между
ними то и дело происходили драки, всегда они друг у друга крали — явный
признак плохого коллектива. «Где найти людей для этого проклятого
дела? Настоящих людей?» Настоящих людей? Это не так мало, чёрт
его подери! |
|
||||
|
|
27. Завоевание комсомола
В 1923 году стройные цепи горьковцев
подошли к новой твердыне, которую, как это ни странно, нужно было брать
приступом, — к комсомолу. Колония имени Горького никогда не была
замкнутой организацией. Уже с двадцать первого года наши связи с так
называемым «окружающим населением» были очень разнообразны и широки.
Ближайшее соседство и по социальным, и по историческим причинам было нашим
врагом, с которым, однако, мы не только боролись, как умели, но и находились
в хозяйственных отношениях, в особенности благодаря нашим мастерским.
Хозяйственные отношения колонии выходили всё-таки далеко за границы
враждебного слоя, так как мы обслуживали селянство на довольно большом
радиусе, проникая нашими промышленными услугами в такие отдалённые страны,
как Сторожевое, Мачухи, Бригадировка. Ближайшие к нам большие деревни
Гончаровка, Пироговка, Андрушевка, Забираловка к двадцать третьему году были
освоены нами не только в хозяйственном отношении. Даже первые походы наших
аргонавтов, преследующие цели эстетического порядка, вроде исследования
красот местного девичьего элемента или демонстрации собственных достижений в
области причёсок, фигур, походок и улыбок, — даже эти первые
проникновения колонистов в селянское море приводили к значительному
расширению социальных связей. Именно в этих деревнях колонисты впервые
познакомились с комсомольцами. Комсомольские силы в этих деревнях были
очень слабы и в количественном, и в качественном отношении. Деревенские
комсомольцы сами интересовались больше девчатами и самогоном и часто
оказывали на колонистов скорее отрицательное влияние. Только с того времени,
когда против второй колонии, на правом берегу Коломака, стала
организовываться сельскохозяйственная артель имени Ленина, поневоле
оказавшаяся в крупной вражде с нашим сельсоветом и всей хуторской
группой, — только тогда в комсомольских рядах мы обнаружили боевые
настроения и сдружились с артельной молодежью. Колонисты очень хорошо, до
мельчайших подробностей, знали все дела новой артели, и все трудности,
встретившие её рождение. Прежде всего, артель сильно ударила по кулацким
просторам земли и вызвала со стороны хуторян дружный, дышавший злобой отпор.
Не так легко для артели досталась победа. Хуторяне в то время были большой силой,
имели «руки» в городе, а их кулацкая сущность для многих городских деятелей
была почему‑то секретом. В этой борьбе главными полями битв были
городские канцелярии, а главным оружием — перья; поэтому колонисты не могли
принять прямого участия в борьбе. Но когда дело с землёй было окончено и
начались сложнейшие инвентарные операции, для наших и артельных ребят нашлось
много интересной работы, в которой они сдружились ещё и больше. Все же в артели комсомольцы не играли
ведущей роли и сами были слабее старших колонистов. Наши школьные занятия
очень много давали колонистам и сильно углубили их политическое образование.
Колонисты уже с гордостью сознавали себя пролетариями и прекрасно понимали
разницу между своей позицией и позицией селянской молодежи. Усиленная и часто
тяжёлая сельскохозяйственная работа не мешала слагаться у них глубокому
убеждению, что впереди ожидает их иная деятельность. Самые старшие могли уже и более подробно
описать, чего они ждут от своего будущего и куда стремятся. В определении вот
этих стремлений и движений главную роль сыграли не селянские молодежные силы,
а городские. Недалеко от вокзала расположились большие
паровозные мастерские. Для колонистов они представлялись драгоценнейшим
собранием дорогих людей и предметов. Паровозные мастерские имели славное
революционное прошлое, был в них мощный партийный коллектив. Колонисты
мечтали об этих мастерских как о невозможно‑чудесном, сказочном дворце.
Во дворце сияли не светящиеся колонны «Синей птицы», а нечто более
великолепное: богатырские взлёты подъёмных кранов, набитые силой паровые
молоты, хитроумнейшие, обладавшие сложнейшими мозговыми аппаратами
револьверные станки. Во дворце ходили хозяева‑люди, благороднейшие
принцы, одетые в драгоценные одежды, блестевшие паровозным маслом и пахнувшие
всеми ароматами стали и железа. В руках у них право касаться священных
плоскостей, цилиндров и конусов, всего дворцового богатства. И эти люди —
люди особенные. У них нет рыжих расчёсанных бород и лоснящихся жиром
хуторских физиономий. У них умные, тонкие лица, светящиеся знанием и властью,
властью над станками и паровозами, знанием сложнейших законов рукояток,
суппортов, рычагов и штурвалов. И среди этих людей много нашлось
комсомольцев, поразивших нас новой и прекрасной ухваткой; здесь мы видели
уверенную бодрость, слышали крепкое, солёное рабочее слово. Да, паровозные мастерские — это предел
стремлений для многих колонистов эпохи двадцать второго года. Слышали наши
кое‑что и о более великолепных творениях человечества: харьковские,
ленинградские заводы, все эти легендарные путиловские, сормовские, ВЭКи. Но
мало ли что есть на свете! Не на всё имеет право мечта скромного
провинциального колониста. А с нашими паровозниками мы постепенно начали
знакомиться ближе и получили возможность видеть их собственными глазами,
ощущать их прелесть всеми чувствами, вплоть до осязания. Они пришли к нам первые, и пришли именно
комсомольцы. В один воскресный день в мой кабинет прибежал Карабанов и
закричал: — С паровозных комсомольцы пришли!
От здорово!.. Комсомольцы слышали много хорошего о
колонии и пришли познакомиться с нами. Их было человек семь. Хлопцы их
любовно заключили в тесную толпу, тёрлись о них своими животами и боками и в
таком действительно тесном общении провели целый день, показывали им вторую
колонию, наших лошадей, инвентарь, свиней, Шере, оранжерею, всей глубиной
колонистской души чувствуя ничтожность нашего богатства по сравнению с
паровозными мастерскими. Их очень поразило то обстоятельство, что комсомольцы
не только не важничают перед нами, не только не показывают своего
превосходства, но даже как будто приходят в восторг и немного умиляются. Перед уходом в город комсомольцы зашли ко
мне поговорить. Их интересовало, почему в колонии нет комсомола. Я им кратко
описал трагическую историю этого вопроса. Уже с двадцать второго года мы добивались
организации в колонии комсомольской ячейки, но местные комсомольские силы
решительно возражали против этого: колония ведь для правонарушителей, какие
же могут быть комсомольцы в колонии? Сколько мы ни просили, ни спорили, ни
ругались, нам предъявляли одно: у нас правонарушители. Пусть они выйдут из
колонии, пусть будет удостоверено, что они исправились, тогда можно будет
говорить и о принятии в комсомол отдельных юношей. Паровозники посочувствовали нашему
положению и обещали в городском комсомоле помочь нашему делу. Действительно,
в следующее же воскресенье один из них снова пришёл в колонию, но только
затем, чтобы рассказать нам нерадостные вести. В городском и в губернских
комитетах говорят: «Правильно — как можно быть комсомольцам в колонии, если
среди колонистов много и бывших махновцев, и уголовного элемента, и вообще
людей тёмных?» Я растолковал ему, что махновцев у нас
очень мало, что у Махно они были случайно. Наконец, растолковал и то, что
термин «исправился» нельзя понимать так формально, как понимают его в городе.
Для нас мало просто «исправить» человека, мы должны его воспитать по‑новому,
то есть должны воспитать так, чтобы он сделался не просто безопасным или
безвредным членом общества, но чтобы он стал активным деятелем новой эпохи. А
кто же будет его воспитывать, если он стремится в комсомол, а его не пускают
туда и всё вспоминают какие‑то старые, детские всё-таки, преступления?
Паровозник и соглашался со мной, и не соглашался. Его больше всего затруднял
вопрос о границе: когда же можно колониста принять в комсомол, а когда нельзя
и кто будет этот вопрос решать? — Как — «кто будет решать»? Вот
именно и будет решать комсомольская организация колонии. Комсомольцы‑паровозники и в
дальнейшем часто нас посещали, но я, наконец, разобрал, что у них есть не
совсем здоровый интерес к нам. Они нас рассматривали именно как преступников;
они с большим любопытством старались проникнуть в прошлое ребят и готовы были
признать наши успехи только с одним условием: всё же здесь собраны не
обыкновенные молодые люди. Я с большим трудом перетягивал на свою сторону
отдельных комсомольцев. Наши позиции по этому вопросу с самого
первого дня колонии оставались неизменными. Основным методом перевоспитания
правонарушителей я считал такой, который основан на полнейшем игнорировании
прошлого и тем более прошлых преступлений. Довести этот метод до настоящей
чистоты было не очень легко, нужно было между прочими препятствиями побороть
и собственную натуру. Всегда подмывало узнать, за что прислан колонист в
колонию, чего он такого натворил. Обычная педагогическая логика в то время
старалась подражать медицинской и толковала с умным выражением на лице: для
того чтобы лечить болезнь, нужно её знать. Эта логика и меня иногда
соблазняла, а в особенности соблазняла моих коллег и наробраз. Комиссия по делам несовершеннолетних
присылала к нам «дела» воспитанников, в которых подробно описывались разные
допросы, очные ставки и прочая дребедень, помогавшая якобы изучать болезнь. В колонии мне удалось перетянуть на свою
сторону всех педагогов, и уже в 1922 году я просил комиссию никаких «дел» ко
мне не присылать. Мы самым искренним образом перестали интересоваться
прошлыми преступлениями колонистов, и у нас это выходило так хорошо, что и
колонисты скоро забывали о них. Я сильно радовался, видя, как постепенно
исчез в колонии всякий интерес к прошлому, как исчезали из наших дней
отражения дней мерзких, больных и враждебных нам. В этом отношении мы
достигли полного идеала: уже и новые колонисты стеснялись рассказывать о
своих подвигах. И вдруг по такому замечательному делу, как
организация комсомола в колонии, нам пришлось вспомнить как раз наше прошлое
и восстановить отвратительные для нас термины: «исправление»,
«правонарушение», «дело». Стремление ребят в комсомол делалось
благодаря встретившимся сопротивлениям настойчиво боевым — собирались лезть в
настоящую драку. Люди, склонные к компромиссам, как Таранец, предлагали
обходный способ: выдать для желающих вступить в комсомол удостоверения о том,
что они «исправились», а в колонии их, конечно, оставить. Большинство
протестовало против такой хитрости. Задоров краснел от негодования и говорил: — Не нужно этого! Это тебе не с
граками возиться, тут никого не нужно обдуривать. Нам нужно добиться, чтобы в
колонии был комсомол, а комсомол уже сам будет знать, кто достоин, а кто
недостоин. Ребята очень часто ходили в комсомольские
организации города и добивались своего, но в общем успеха не было. Зимой двадцать третьего года мы вошли в
дружеские отношения ещё с одной комсомольской организацией. Вышло это
случайно. Под вечер мы с Антоном возвращались
домой. Блестящая сытой шерстью Мэри была запряжена в лёгковые сани. В самом
начале спуска с горы мы встретили неожиданное в наших широтах явление —
верблюда. Мэри не могла пересилить естественное чувство отвращения,
вздрогнула, вздыбилась, забилась в оглоблях и понесла. Антон уперся ногами в
передок саней, но удержать кобылу не мог. Некоторый существенный недостаток
наших лёгковых саней, на который, правда, Антон давно указывал, —
короткие оглобли — определил дальнейшие события и приблизил нас к указанной
выше новой комсомольской организации. Развернувшись в паническом карьере,
Мэри колотила задними копытами по железному передку, пугалась ещё больше и со
страшной быстротой несла нас навстречу неизбежной катастрофе. Мы с Антоном
вдвоём натягивали вожжи, но от этого становилось хуже: Мэри задирала голову и
бесилась сильнее и сильнее. Я уже видел то место, на котором всё должно было
окончиться более или менее печально: на повороте дороги у водообразной будки
сгрудились крестьянские сани на водопое. Казалось, спасенья нет, дорога была
загорожена. Но каким‑то чудом Мэри пронеслась между водопоем и группой
городских саней. Раздался треск разрушаемого дерева, крики людей, но мы уже
были далеко. Гора кончилась, мы более спокойно полетели по ровной, прямой
дороге. Антон получил даже возможность оглянуться и покрутить головой: — Чьи‑то сани разнесли, тикать
надо. Он было замахнулся кнутом на Мэри, и без
того летящую полной рысью, но я удержал его энергичную руку: — Не удерёшь, смотри, у них какой
дьявол! Действительно, сзади нас широко и
спокойно выбрасывал могучие копыта красавец рысак, а из‑за его крупа
пристально вглядывался в неудачных беглецов человек с малиновыми петлицами.
Мы остановились. Обладатель петлиц стоял в санях и держался за плечи кучера,
потому что сесть ему было не на что: заднее сиденье и спинка были обращены в
шаткую решетку, и по дороге волочились обгрызенные и растерзанные концы каких‑то
санных деталей. — Поезжайте за нами, — сердито
бросил военный. Мы поехали. Антон радостно улыбался: ему
очень понравились усовершенствования в экипаже, произведенные нашим
беспокойным выездом. Через десять минут мы были в комендатуре ГПУ, и только
тогда Антон изобразил на физиономии неприятное удивление: — От, смотри ж ты, на ГПУ наскочили… Нас обступили люди с малиновыми
петлицами, и один из них закричал на меня: — Ну, конечно, посадили мальчишку за
кучера… разве он может удержать лошадь? Придётся отвечать вам. Антон скорчился от обиды и почти со
слезами замотал головой на обидчика: — Мальчишку, смотри ты! Кабы не
пускали верблюдов по улицам, а то поразводили всякой сволочи, лазит под
ногами… Разве кобыла может на него смотреть? Может? — Какой сволочи? — Та верблюдов же! Малиновые петлицы засмеялись. — Откуда вы? — Из колонии Горького, — сказал
я. — О, так это же горьковцы! А вы кто,
заведующий? Хороших щук поймали сегодня! — смеялся радостно молодой
человек, созывая народ и показывая на нас как на приятных гостей. Вокруг нас собралась толпа. Они
потешались над собственным кучером и тормошили Антона, расспрашивая о
колонии. Но пришёл завхоз и сердито приступил к
составлению какого‑то акта. На него закричали: — Да брось свои бюрократические
замашки! Ну, для чего ты это пишешь? — Как — «для чего»? Вы видели, что
они с санями сделали? Пускай теперь исправляют. — Они и без твоего протокола
исправят. Исправите ж?.. Вы лучше расскажите, как у вас в колонии. Говорят, у
вас даже карцера нет! — Вот ещё, чего не хватало, карцера!
А у вас разве есть? — заинтересовался Антон. Публика снова взорвалась смехом: — Обязательно приедем к ним в
воскресенье. Отвезём сани в починку. — А на чём я буду ездить до
воскресенья? — завопил завхоз. Но я успокоил его: — У нас есть ещё одни сани, пускай с
нами сейчас кто‑нибудь поедет и возьмёт. Так у нас в колонии завелись ещё хорошие
друзья. В воскресенье в колонию приехали чекисты‑комсомольцы. И снова
был поставлен на обсуждение тот же проклятый вопрос: почему колонистам нельзя
быть комсомольцами? Чекисты в решении этого вопроса единодушно стали на нашу
сторону. — Ну, что там они выдумывают, —
говорили они мне, — какие там преступники? Глупости, стыдно серьёзным
людям… Мы это дело двинем, если не здесь, так в Харькове. В это время наша колония были передана в
непосредственное ведение украинского Наркомпроса как «образцово‑показательное
учреждение для правонарушителей». К нам начали приезжать наркомпросовские
инспектора. Это уже не были подбитые ветром, легкомысленные провинциалы,
поверившие в соцвос в порядке весенней эмоции. В соцвосе харьковцев мало
интересовали клейкие листочки, души, права личности и прочая лирическая
дребедень. (Слова Ивана Карамазова из романа Достоевского: «Собственным
умилением упьюсь. Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что!
Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы
любишь». Они искали новых организационных форм и нового тона. Самым
симпатичным у них было то, что они не корчили из себя доктора Фауста,
которому не хватает только одного счастливого мгновения, а относились к нам
по‑товарищески, вместе с нами готовы были искать новое и радоваться
каждой новой крупинке). Харьковцы очень удивились нашим
комсомольским бедам: — Так вы работаете без комсомола?..
Нельзя... Кто это такое придумал? По вечерам они шушукались со старшими
колонистами и кивали друг другу сочувственно головами. В Центральном Комитете комсомола Украины
благодаря председательствам (ходатайствам) и Наркомпроса, и наших городских
друзей вопрос был разрешён с быстротою молнии, и летом двадцать третьего года
в колонию был назначен политруком Тихон Нестерович Коваль. Тихон Нестерович был человек селянский.
Доживши до двадцати четырёх лет, он успел внести в свою биографию много
интересных моментов, главным образом из деревенской борьбы, накопил крепкие
запасы политического действия, был, кроме того, человеком умным и добродушно‑спокойным.
С колонистами он с первой встречи заговорил языком равного им товарища, в
поле и на току показал себя опытным хозяином. Комсомольская ячейка была организована в
колонии в составе девяти человек. |
|
||||
|
|
28. Начало фанфарного марша
Дерюченко вдруг заговорил по‑русски.
Это противоестественное событие было связано с целым рядом неприятных
происшествий в дерюченковском гнезде. Началось с того, что жена
Дерюченко, — к слову сказать, существо, абсолютно безразличное к
украинской идее, — собралась родить. Как ни сильно взволновали Дерюченко
перспективы развития славного казацкого рода, они ещё не способны были выбить
его из седла. На чистом украинском языке он потребовал у Братченко лошадей
для поездки к акушерке. Братченко не отказал себе в удовольствии высказать
несколько сентенций, осуждающих как рождение молодого Дерюченко, не
предусмотренное транспортным планом колонии, так и приглашение акушерки из
города, ибо, по мнению Антона, «один чёрт — что с акушеркой, что без акушерки».
Всё-таки лошадей он Дерюченко дал. На другой же день обнаружилось, что
роженицу нужно везти в город. Антон так расстроился, что потерял
представление о действительности и даже сказал: — Не дам! Но и я, и Шере, и вся общественность
колонии столь сурово и энергично осудили поведение Братченко, что лошадей
пришлось дать. Дерюченко выслушал разглагольствования Антона терпеливо и
уговаривал его, сохраняя прежнюю сочность и великодушие выражений: — Позаяк ця справа вымагаэ дужэ
швыдкого выришення, нэ можна гаяти часу, шановный товарыщу Братченко. Антон орудовал математическими данными и
был уверен в их особой убедительности: — За акушеркой пару лошадей гоняли?
Гоняли. Акушерку отвозили в город, тоже пару лошадей? По‑вашему,
лошадям очень интересно, кто там родит? — Але ж, товарищу… — Вот вам и «але»! А вы подумайте,
что будет, если все начнут такие безобразия!.. В знак протеста Антон запрягал по
родильным делам самых нелюбимых и нерысистых лошадей, объявлял фаэтон
испорченным и подавал шарабан, на козлы усаживал Сороку — явный признак того,
что выезд не парадный. Но до настоящего белого каления Антон
дошёл тогда, когда Дерюченко потребовал лошадей ехать за роженицей. Он,
впрочем, не был счастливым отцом: его первенец, названный поспешно Тарасом,
прожил в родильном доме только одну неделю и скончался, ничего существенного
не прибавив к истории казацкого рода. Дерюченко носил на физиономии вполне
уместный траур и говорил несколько расслаблено, но его горе всё же не пахло
ничем особенно трагическим, и Дерюченко упорно продолжал выражаться на
украинском языке. Зато Братченко от возмущения и бессильного гнева не находил
слов ни на каком языке, и из его уст вылетали только малопонятные отрывки: — Даром всё равно гоняли! Извозчика…
спешить некуда… можно гаяты час. Всё родить будут… И всё без толку… Дерюченко возвратил в своё гнездо
незадачливую родильницу, и страдания Братченко надолго прекратились. В этой
печальной истории Братченко больше не принимал участия, но история на этом не
окончилась. Тараса Дерюченко ещё не было на свете, когда в историю случайно
зацепилась посторонняя тема, которая, однако, в дальнейшем оказалась отнюдь
не посторонней. Тема эта для Дерюченко была тоже страдательной. Заключалась
она в следующем. Воспитатели и весь персонал колонии
получали пищевое довольствие из общего котла колонистов в горячем виде. Но с
некоторого времени, идя навстречу особенностям семейного быта и желая немного
разгрузить кухню, я разрешил Калине Ивановичу выдавать кое‑кому
продукты в сухом виде. Так получал пищевое довольствие и Дерюченко. Как‑то
я достал в городе самое минимальное количество коровьего масла. Его было так
мало, что хватило только на несколько дней для котла. Конечно, никому и в
голову не приходило, что это масло можно включить в сухой паёк. но Дерюченко
очень забеспокоился, узнав, что в котле колонистов уже в течение трёх дней
плавает драгоценный продукт. Он поспешил перестроиться и подал заявление, что
будет пользоваться общим котлом, а сухого пайка получать не желает. К
несчастью, к моменту такой перестройки весь запас коровьего масла в кладовой
Калины Ивановича был исчерпан, и это дало основание Дерюченко прибежать ко
мне с горячим протестом: — Не можно знущатися над людьми! Да
ж те масло? — Масло? Масла уже нет, съели. Дерюченко написал заявление, что он и его
семья будут получать продукты в сухом виде. Пожалуйста! Но через два дня
снова привёз Калина Иванович масло, и снова в таком же малом количестве.
Дерюченко с зубовным скрежетом перенёс и это горе и даже на котёл не перешёл.
Но что‑то случилось в нашем наробразе, намечался какой‑то
затяжной процесс периодического вкрапления масла в организмы деятелей
народного образования и воспитанников. Калина Иванович то и дело, приезжай из
города, доставал из‑под сиденья небольшой «глечик», прикрытый сверху
чистеньким куском марли. Дошло до того, что Калина Иванович без этого
«глечика» уже в город и не ездил. Чаще же всего, разумеется, бывало, что
«глечик» обратно приезжал ничем не прикрытый, и Калина Иванович небрежно
перебрасывал его в соломе на дне шарабана и говорил: — Такой бессознательный народ! Ну и
дай же человеку, чтобы было на что глянуть. Что ж вы даёте, паразиты: чи его
нюхать, чи его исты? Но всё же Дерюченко не выдержал: снова
перешёл на котёл. Однако этот человек не способен был наблюдать жизнь в её
динамике, он не обратил внимания на то, что кривая жиров в колонии неуклонно
повышается, обладая же слабым политическим развитием, не знал, что количество
на известной степени должно перейти в качество. Этот переход неожиданно
обрушился на голову его фамилии. Масло мы вдруг стали получать в таком
обилии, что я нашёл возможным за истекшие полмесяца выдать его в составе
сухого пайка. Жены, бабушки, старшие дочки, тещи и другие персонажи
второстепенного значения потащили из кладовой Калины Ивановича в свои квартиры
золотистые кубики, вознаграждая себя за долговременное терпение, а Дерюченко
не потащил: он неосмотрительно съел причитающиеся ему жиры в неуловимом и
непритязательном оформлении колонистского котла. Дерюченко даже побледнел от
тоски и упорной неудачи. В полной растерянности он написал заявление о
желании получать пищевое довольствие в сухом виде. Его горе было глубоко, и
он вызывал всеобщее сочувствие, но и в этом горе он держался как казак и как
мужчина и не бросил родного украинского языка. В этот момент тема жиров хронологически
совпала с неудавшейся попыткой продолжить род Дерюченко. Дерюченко с женой терпеливо дожёвывали
горестные воспоминания о Тарасе, когда судьба решила восстановить равновесие
и принесла Дерюченко давно заслуженную радость: в приказе по колонии было
отдано распоряжение выдать сухой паёк «за истекшие полмесяца», и в составе
сухого пайка было показано снова коровье масло. Счастливый Дерюченко пришёл к
Калине Ивановичу с кошёлкой. Светило солнце, и всё живое радовалось. Но это
продолжалось недолго. Уже через полчаса Дерюченко прибежал ко мне,
расстроенный и оскорблённый до глубины души. Удары судьбы по его крепкой
голове сделались уже нестерпимыми, человек сошёл с рельсов и колотил колёсами
по шпалам на чистом русском языке: — Почему не выданы жиры на моего
сына? — На какого сына? — спросил я
удивлённо. — На Тараса. Как «на какого»? Это
самоуправство, товарищ заведующий! Полагается выдавать паёк на всех членов
семьи, и выдавайте. — Но у вас же нет никакого сына
Тараса. — Это не ваше дело, есть или нет. Я
вам представил удостоверение, что мой сын Тарас родился второго июня, а умер
десятого июня, значит, и выдавайте ему жиры за восемь дней… Калина Иванович, специально пришедший
наблюдать за тяжбой, взял осторожно Дерюченко за локоть: — Товарищ Дерюченко, какой же адиот
такого маленького ребёнка кормит маслом? Вы сообразите, разве ребёнок может
выдержать такую пищу? Я дико посмотрел на обоих. — Калина Иванович, что это вы
сегодня!.. Этот маленький ребёнок умер три недели назад… — Ах, да, так он же помер? Так чего
ж вам нужно? Ему теперь масло, всё равно как покойнику кадило, поможет. Да он
же и есть покойник, если можно так выразиться. Дерюченко злой вертелся по комнате и
рубил ладонью воздух: — В моём семействе в течение восьми
дней был равноправный член, а вы должны выдать. Калина Иванович, с трудом подавляя
улыбку, доказывал: — Какой же он равноправный? Это ж
только по теории равноправный, а прахтически в нём же ничего нет: чи он был
на свете, чи его не было, одна видимость. Но Дерюченко сошёл с рельсов, и
дальнейшее его движение было беспорядочным и безобразным. Он потерял всякие
выражения стиля, и даже все специальные признаки его существа как‑то
раскрутились и повисли: и усы, и шевелюра, и галстук. В таком виде он
докатился до завгубнаробразом и произвёл на него нежелательное впечатление.
Завгубнаробразом вызвал меня и сказал: — Приходил ко мне ваш воспитатель с
жалобой. Знаете что? Надо таких гнать. Как вы можете держать в колонии такого
невыносимого шкурника? Он мне такую чушь молол: какой‑то Тарас, масло,
чёрт знает что! — А ведь назначили его вы. — Не может быть… Гоните немедленно! К таким приятным результатам привело
взаимно усиленное действие двух тем: Тараса и масла. Дерюченко с женой
выехали по той же дороге, что и Родимчик. Я радовался, колонисты радовались,
и радовался небольшой клочок украинской природы, расположенный в
непосредственной близости к описываемым событиям. Но вместе с радостью напало
на меня и беспокойство. Всё тот же вопрос — где достать настоящего
человека? — сейчас приступил с ножом к горлу, ибо во второй колонии не
оставалось ни одного воспитателя. И вот бывает же так: колонии имени Горького
определённо везло, я неожиданно для себя натолкнулся на необходимого для нас
настоящего человека. Наткнулся прямо на улице. Он стоял на тротуаре, у
витрины отдела снабжения наробраза, и, повернувшись к ней спиной,
рассматривал несложные предметы на пыльной, засорённой навозом и соломой
улице. Мы с Антоном вытаскивали из склада мешки с крупой; Антон оступился в
какую‑то ямку и упал. Настоящий человек быстро подбежал к месту
катастрофы, и вдвоём с ним мы закончили нагрузку указанного мешка на наш воз.
Я поблагодарил незнакомца и обратил внимание на его ловкую фигуру, на умное
молодое лицо и на достоинство, с которым он улыбнулся в ответ на мою
благодарность. На его голове с уверенной военной бодростью сидела белая
кубанка. — Вы, наверное, военный? —
спросил я его. — Угадали, — улыбнулся
незнакомец. — Кавалерист? — Да. — В таком случае, что вас может
интересовать в наробразе? — Меня интересует заведующий.
Сказали, что он скоро будет, вот и ожидаю. — Вы хотите получить работу? — Да мне обещали работу —
инструктором физкультуры. — Поговорите сначала со мной. — Хорошо. Мы поговорили. Он взгромоздился на наш
воз, и мы поехали домой. Я показал Петру Ивановичу колонию, и к вечеру вопрос
о его назначении был решен. Пётр Иванович принёс в колонию целый
комплекс счастливых особенностей. У него было как раз то, что нам нужно:
молодость, прекрасная ухватка, чертовская выносливость, серьёзность и бодрость,
и не было ничего такого, что нам не нужно: никакого намёка на педагогические
предрассудки, никакой позы по отношению к воспитанникам, никакого семейного
шкурничества. А кроме всего прочего у Петра Ивановича были достоинства и
дополнительные: он любил военное дело, умел играть на рояле, обладал
небольшим поэтическим даром и физически был очень силён. Под его управлением
вторая колония уже на другой день приобрела новый тон. Где шуткой, где
приказом, где насмешкой, а где примером Пётр Иванович начал сбивать ребят в
коммуну. Он принял на веру все мои педагогические установки и до конца
никогда ни в чём не усомнился, избавив меня от бесплодных педагогических
споров и болтовни. Жизнь наших двух колоний пошла, как
хороший, исправный поезд. В персонале я почувствовал непривычную для меня
основательность и плотность: Тихон Нестерович, Шере и Пётр Иванович, как и
наши старые ветераны, по‑настоящему служили делу. Колонистов к этому времени было до
восьмидесяти. Кадры двадцатого и двадцать первого годов сбились в очень
дружную группу и неприкрыто командовали в колонии, составляя на каждом шагу
для каждого нового лица негнущийся волевой каркас, не подчиниться которому
было, пожалуй, невозможно. Впрочем, я почти не наблюдал попыток оказать
сопротивление. Колония сильно забирала и раззадоривала новеньких красивым
внешним укладом, чёткостью и простотой быта, довольно занятным списком разных
традиция и обычаев, происхождение которых даже и для стариков не всегда было
памятно. Обязанности каждого колониста определялись в требовательных и
нелёгких выражениях, но все они были строго указаны в нашей конституции, и в
колонии почти не оставалось места ни для какого своеволия, ни для каких
припадков самодурства. В то же время перед всей колонией всегда стояла не
подлежащая никакому сомнению в своей ценности задача: расширить наше
хозяйство. В том, что эта задача для нас обязательна, в том, что мы её
непременно разрешим, сомнений ни у кого не было. Поэтому мы все легко
мирились с очень многими недостатками, отказывали себе в лишнем развлечении,
в лучшем костюме, в пище, отдавая каждую свободную копейку на свинарню, на
Семёна, на новую жатвенную машину. К нашим небольшим жертвам делу
восстановления мы относились так добродушно‑спокойно, с такой радостной
уверенностью, что я позволял себе прямую буффонаду на общем собрании, когда
кто‑нибудь из молодых поднимал вопрос: пора уже пошить новые штаны. Я
говорил: — Вот окончим вторую колонию,
разбогатеем, тогда всё пошьём: у колонистов будут бархатные рубашки с
серебряным поясом, у девочек шёлковые платья и лакированные туфли, каждый
отряд будет иметь свой автомобиль и, кроме того, на каждого колониста
велосипед. А вся колония будет усажена тысячами кустов роз. Видите? А пока
давайте купим на эти триста рублей хорошую симментальскую корову. Колонисты хохотали от души, и после этого
для них не такими бедными казались ситцевые заплаты на штанах и промасленные
серенькие «чепы». Верхушку колонистского коллектива и в это
время ещё можно было походя ругать за многие уклонения от идеально‑морального
пути, но кого же на земном шаре нельзя за это ругать? А в нашем трудном деле
эта верхушка показывала себя очень исправным и точно действующим аппаратом. Я
в особенности ценил её за то, что главной тенденцией её работы как‑то
незаметно сделалось стремление перестать быть верхушкой, втянуть в себя всю
колонистскую массу. В этой верхушке состояли почти все старые
наши знакомые: Карабанов, Задоров, Вершнев, Братченко, Волохов, Ветковский,
Таранец, Бурун, Гуд, Осадчий, Настя Ночевная; но к последнему времени в эту
группу уже вошли новые имена: Опришко, Георгиевский, Волков Жорка и Волков
Алёшка, Ступицын и Кудлатый. Опришко много усвоил от Антона Братченко:
страстность, любовь к лошадям и нечеловеческую работоспособность. Он не был
так талантлив в творчестве, не был так ярок, но зато у него были и только ему
присуще достоинства: пенистая до краёв бодрость, ладность и удачливость
движений. Георгиевский в глазах колонистского
общества был существом двуликим. С одной стороны, всей его внешностью нас так
и подмывало назвать его цыганом. И в смуглом лице, и в чёрных глазах навыкат,
и в сдержанном ленивом юморе, и в плутоватом небрежении к частной
собственности действительно было что‑то цыганское. Но, с другой
стороны, Георгиевский был отпрыском несомненно интеллигентской семьи:
начитан, выхолен, по‑городскому красив, и говорил он с небольшим
аристократическим оттенком, немного картавя. Колонисты утверждали, что
Георгиевский — сын бывшего иркутского губернатора. Сам Георгиевский отрицал
всякую возможность такого позорного происхождения, и в его документах никаких
следов проклятия прошлого не было, но я в таких случаях всегда склонен верить
колонистам. Во второй колонии он ходил командиром и отличался одной
прекрасной чертой: никто так много не возился со своим отрядом, как командир
шестого. Георгиевский им и книги читал, и помогал одеваться, и самолично
заставлял умываться и без конца мог убеждать, уговаривать, упрашивать. В
совете командиров он всегда представлял идею любви к пацану и заботы о нём. И
он мог похвалиться многими достижениями. Ему отдавали самых грязных, сопливых
ребят, и через неделю он обращал их в франтов, украшенных причёсками и
аккуратно идущих по стезям трудовой колонистской жизни. Волковых было в колонии двое: Жорка и
Алёшка. Между ними не было не единой общей черты, хотя они и были братья.
Жорка начал в колонии плохо: он обнаружил непобедимую лень, несимпатичную
болезненность, вздорность характера и скверную мелкую злобность. Он никогда
не улыбался, мало говорил, и я даже посчитал, что «это не наш» — убежит. Его
возрождение пришло без всякой торжественности и без педагогических усилий. В
совете командиров вдруг оказалось, что для работы на копке погреба осталась
только одна возможная комбинация: Галатенко и Жорка. Смеялись. — Нарочно таких двух лодырей в кучу
не свалишь. Ещё больше смеялись, когда кто‑то
предложил произвести интересный опыт: составить из них сводный отряд и
посмотреть, что получится, сколько они накопают. В командиры выбрали всё-таки
Жорку: Галатенко был ещё хуже. Позвали Жорку в совет, и я ему сказал: — Волков, тут такое дело: назначили
тебя командиром сводного по копке погреба и дали тебе Галатенко. Так вот мы
боимся, что ты с ним не справишься. Жорка подумал и пробурчал: — Справлюсь. На другой день оживлённый дежурный
колонист прибежал за мной. — Пойдёмте, страшно интересно, как
Жорка Галатенко муштрует! Только осторожно, а то услышат, ничего не выйдет. За кустами мы прокрались к месту
действия. На площадке среди остатков бывшего сада намечен прямоугольник
будущего погреба. На одном его конце участок Галатенко, на другом — Жорки.
Это сразу бросается в глаза и по распоряжению сил, и по явным различиям в
производительности: у Жорки вскопано уже несколько квадратных сажен, у
Галатенко — узкая полоска. Но Галатенко не сидит: он неуклюже тыкает толстой
ногой в непослушную лопату, копает и часто с усилием поворачивает тяжёлую
голову к Жорке. Если Жорка не смотрит, Галатенко останавливает работу, но
стоит ногой на лопате, готовый при первой тревоге вонзить её в землю. Видимо,
все эти хитрости уже приелись Волкову. Он говорит Галатенко: — Ты думаешь, я буду стоять у тебя
над душой и просить? Мне, видишь, некогда с тобой возиться. — А чего ты так стараешься? —
бубнит Галатенко. Жорка не отвечает Галатенко и подходит к
нему: — Я с тобой не хочу разговаривать,
понимаешь? А если ты не выкопаешь до сих пор и до сих пор, я твой обед вылью
в помои. — Так тебе и дадут вылить! А что
тебе Антон запоёт? — Пусть что хочет поёт, а я вылью,
так и знай. Галатенко пристально смотрит в глаза
Жорки и понимает, что Жорка выльет. Галатенко бурчит: — Я же работаю, чего ты пристал? Его лопата быстрее начинает шевелиться в
земле, дежурный сдавливает мой локоть. — Отметь в рапорте, — шепчу я
дежурному. Вечером дежурный закончил рапорт: — Прошу обратить внимание на хорошую
работу третьего "П" сводного отряда под командой Волкова первого. Карабанов заключил голову Волкова в клещи
своей десницы и заржал: — Ого! Цэ не всякому командиру така
честь. Жорка гордо улыбался. Галатенко от дверей
кабинета тоже подарил нам улыбку и прохрипел: — Да, поработали сегодня, до чёрта
поработали! И с тех пор у Жорки как рукой сняло,
пошёл человек на всех парах к совершенству, и через два месяца совет
командиров перебросил его во вторую колонию со специальной целью подтянуть
ленивый седьмой отряд. Алёшка Волков с первого дня всем
понравился. Он некрасив, его лицо покрыто пятнами самого разнообразного
оттенка, лоб у Алёшки настолько низок, что, кажется, будто волосы на голове
растут не вверх, а вперёд, но Алёшка очень умён, прежде всего умён, и это
скоро всем бросается в глаза. Не было лучше Алёшки командира сводного отряда:
он умел прекрасно рассчитать работу, расставить пацанов, найти какие‑то
новые способы, новые ухватки. Так же умён и Кудлатый, человек с
широким, монгольским лицом, кряжистый и прижимистый.. Он попал к нам прямо из
батраков, но в колонии всегда носил кличку «куркуля»; действительно, если бы
не колония, приведшая Кудлатого со временем к партийному билету, был бы
Кудлатый кулаком: слишком довлел в нём какой‑то желудочный, глубокий
хозяйственный инстинкт, любовь к вещам, возам, боронам и лошадям, к навозу и
вспаханному полю, ко всякой работе во дворе, в сарае, в амбаре. Кудлатый был
непобедимо рассудителен, говорил не спеша, с крепкой основательностью
серьёзного накопителя и сберегателя. Но, как бывший батрак, он так же
спокойно и с такой же здравомыслящей крепкой силой ненавидел кулаков и
глубоко был уверен в ценности нашей коммуны, как и всякой коммуны вообще.
Кудлатый давно сделался в колонии правой рукой Калины Ивановича, и к концу
двадцать третьего года значительная доля нашего хозяйства держались на нём. Ступицын тоже был хозяин, но совсем иного
пошиба. Это был настоящий пролетарий. Он происходил из цеховых города
Харькова и мог рассказать, где работали его прадед, дед и отец. Его фамилия
давно украшала ряды пролетариев харьковских заводов, а старший брат за 1905
год побывал в ссылке. И по внешнему виду Ступицын хорош. У него тонкие брови
и небольшие острые чёрные глаза. Вокруг рта у Ступицына прекрасный букет
подвижных точных мускулов, лицо его очень богато мимикой, крутыми и занятными
переходами. Ступицын представлял у нас одну из важнейших сельскохозяйственных
отраслей — свинарню второй колонии, в которой свиное стадо росло с какой‑то
сказочной быстротой. В свинарне работал специальный отряд — десятый, и
командир его — Ступицын. Он умел сделать свой отряд энергичным и мало похожим
на классических свинарей: ребята всегда с книжкой, всегда у них в голове
рационы, в руках карандаши и блокноты, на дверцах станков надписи, по всем углам
свинарни диаграммы и правила, у каждой свиньи паспорт. Чего там только не
было, в этой свинарне! Рядом с верхушкой располагались две
широкие группы, близкие к ней, резерв. С одной стороны — это старые боевые
колонисты, прекрасные работники и товарищи, не обладающие, однако, заметными
талантами организаторов, люди сильные и спокойные. Это Приходько, Чобот,
Сорока, Леший, Глейзер, Шнайдер, Овчаренко, Корыто, Федоренко и ещё многие. С
другой стороны — это подрастающие пацаны, действительная смена, уже и теперь
часто показывающая зубы будущих организаторов. Они, по возрасту, ещё не могут
взять в руки бразды правления, да и старше сидят на местах; а старших они
любят и уважают. Но они имеют и много преимуществ: они вкусили колонистскую
жизнь в более молодом возрасте, они глубже восприняли её традиции, сильнее
верят в неоспоримую ценность колонии, а самое главное — они грамотнее, живее
у них наука. Это частью наши старые знакомые: Тоська, Шелапутин, Жевелий,
Богоявленский, частью новые имена: Лапоть, Шаровский, Романченко, Назаренко,
Векслер. Всё это будущие командиры и деятели эпохи завоевания Куряжа. И
сейчас они уже часто ходят в комсводотрядах. Перечисленные группы колонистов
составляли большую часть нашего коллектива. По своему мажорному тону, по
своей энергии, по своим знаниям и опыту эти группы были очень сильны, и
остальная часть колонистов могла только идти за ними. А остальная часть в
глазах самих колонистов делилась на три раздела: «болото», пацаны и «шпана».
В «болото» входили колонисты, ничем себя не проявившие, невыразительные, как
будто сами не уверенные в том, что они колонисты. Нужно, однако, сказать, что из «болота»
то и дело выделялись личности заметные и вообще «болото» было состоянием
временным. До поры до времени оно большею частью состояло из воспитанников
второй колонии. Малышей было у нас десятка полтора; в глазах колонистов это
было сырьё, главная функция которого — учиться вытирать носы. Впрочем, малыши
и не стремились к какой‑нибудь яркой деятельности и удовлетворялись
играми, коньками, лодками, рыбной ловлей, санками и другими мелочами. Я
считал, что они делают правильно. В «шпане» было человек пять. Сюда входили
Галатенко, Перепелятченко, Евгеньев, Густоиван и ещё кто‑то. Отнесены
они были к «шпане» единодушным решением всего общества, после того как
установлено было за каждым из них наличие бьющего в глаза порока: Галатенко —
обжора и лодырь, Евгеньев — припадочный, брехливый болтун, Перепелятченко —
дохлятина, плакса, попрошайка, Густоиван — юродивый, «психический», творящий
молитвы богородице и мечтающий о монастыре. От некоторых пороков
представителям «шпаны» со временем удалось избавиться, но это произошло не
скоро. Таков был коллектив к концу двадцать
третьего года. С внешней стороны все колонисты были, за немногими
исключениями, одинаково подтянуты и щеголяли военной выправкой. У нас уже был
великолепный строй, украшенный спереди четырьмя трубачами и восемью
барабанами. Было у нас и знамя, прекрасное шёлковое, вышитое шёлком
же, — подарок Наркомпроса Украины в день нашего трёхлетия. В дни пролетарских праздников колония с
барабанным грохотом вступала в город, поражая горожан и впечатлительных
педагогов суровой стройностью, железной дисциплиной и своеобразной фасонной
выправкой. Мы приходили на плац всегда позже всех, чтобы никого не ждать,
замирали в неподвижном «смирно!» трубачи трубили салют всем трудящимся города
и колонисты поднимали руки. После этого наш строй разбегался в поисках
праздничных впечатлений, но на месте колонны замирали: впереди знаменщик и
часовые, на месте последнего ряда — маленький фланженер. И это было так
внушительно, что никогда никто не решался стать на обозначенное нами место.
Одежную бедность мы легко преодолевали благодаря нашей изобретательности и
смелости. Мы были решительными противниками ситцевых костюмов, этой
возмутительной особенности детских домов. А более дорогих костюмов мы не
имели. Не было у нас и новой, красивой обуви. Поэтому на парады мы приходили
босиком, но это имело такой вид, как будто это нарочно. Ребята блистали
чистыми белыми сорочками. Штаны хорошие, чёрные, они подвёрнуты до колен и
сияют внизу белыми отворотами чистого белья. И рукава сорочек подняты выше
локтя. Получался очень нарядный, весёлый строй несколько селянского рисунка. Третьего октября двадцать третьего года
такой строй протянулся через плац колонии. К этому дню была закончена
сложнейшая операция, длившаяся три недели. На основании постановления
объединённого заседания педагогического совета и совета командиров колония
имени Горького сосредоточивалась в одном имении, бывшем Трепке, а своё старое
имение у Ракитного озера передавала в распоряжение губнаробраза. К третьему
октября всё было вывезено во вторую колонию: мастерские, сараи, конюшни,
кладовые, вещи персонала, столовая, кухня и школа. На утро третьего в колонии
оставались только пятьдесят колонистов, я и знамя. В двенадцать часов представитель
губнаробраза подписал акт о приёме имения колонии имени Горького и отошёл в
сторонку. Я скомандовал: — Под знамя, смирно! Колонисты вытянулись в салюте, загремели
барабаны, заиграли трубы знамённый марш. Знамённая бригада вынесла из
кабинета знамя. Приняв его на правый фланг, мы не стали прощаться со старым
местом, хотя вовсе не имели к нему никакой вражды. Просто не любили
оглядываться назад. Не оглянулись и тогда, когда колонна колонистов, разрывая
тишину полей барабанным треском, прошла мимо Ракитного озера, мимо крепости
Андрия Карповича, по хуторской улице и спустилась в луговую низину Коломака,
направляясь к новому мосту, построенному колонистами. Во дворе второй колонии собрался весь
персонал, много селян из Гончаровки и блестел такой же красотой строй
колонистов второй колонии, замерший в салюте горьковскому знамени. Мы вступили в новую эпоху. |
|
||||
|
|
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1. Кувшин молока
Мы перешли во вторую колонию в хороший,
тёплый, почти летний день. Ещё и зелень на деревьях не успела потускнеть, ещё
травы зеленели в разгаре своей второй молодости, освежённые первыми осенними
днями. И вторая колония была в это время, как красавица в тридцать лет: не
только для других, а и для себя хороша, счастлива и покойна в своей уверенной
прелести. Коломак обвивал её почти со всех сторон, оставляя небольшой проход
для сообщения с Гончаровкой. Над Коломаком щедро нависли шепчущим пологом
буйные кроны нашего парка. много здесь было тенистых и таинственных уголков,
где с большим успехом можно было купаться, и разводить русалок, и ловить
рыбу, а в крайнем случае и посекретничать с подходящим товарищем. Наши
главные дома стояли на краю высокого берега, и предприимчивые и бесстыдные
пацаны прямо из окон летали в реку, оставив на подоконниках несложные свои
одежды. В других местах, там, где расположился
старый сад, спуск к реке шёл уступами, и самый нижний уступ раньше всех был
завоеван Шере. Здесь было всегда просторно и солнечно. Коломак широк и
спокоен, но для русалок это место мало соответствовало, как и для рыбной
ловли и вообще для поэзии. Вместо поэзии здесь процветали капуста и чёрная
смородина. Колонисты бывали на этом плёсе исключительно с деловыми
намерениями — то с лопатой, то с сапкой, а иногда вместе с колонистами с
трудом пробирались сюда Коршун или Бандитка, вооружённые плугом. В этом же
месте находилась и наша пристань — три доски, выдвинутые над волнами Коломака
на три метра от берега. Ещё дальше, заворачивая к востоку,
Коломак, не скупясь, разостлал перед нами несколько гектаров хорошего,
жирного луга, обставленного кустарниками и рощицами. Мы спускались на луг
прямо из нашего нового сада, и этот зелёный спуск тоже был удивительно
приспособлен для особого дела: в часы отдыха так и тянуло посидеть на травке
в тени крайних тополей сада и лишний раз полюбоваться и лугом, и рощами, и
небом, и крылом Гончаровки на горизонте. Калина Иванович очень любил это
место и иногда в воскресный полдень увлекал меня сюда. Я любил поговорить с Калиной Ивановичем о
мужиках и о ремонте, о несправедливостях жизни и о нашем будущем. Перед нами
был луг, и это обстоятельство иногда сбивало Калину Ивановича с правильного
философского пути: — Знаешь, голубе, жизнь, так она
вроде бабы: от неё справедливости не ожидай. У кого, понимаешь, ты, вуса в
гору торчат, так тому и пироги, и варенники, и пляшка, и а у кого, понимаешь,
и борода не растёт, а не то что вуса, так тому, подлая, и воды не вынесет
напиться. От как был я в гусарах… Ах ты, сукин сын, где ж твоя голова
задевалася? Чи ты её з хлибом зьив, чи ты её забув в поезде? Куда ж ты,
паразит, коня пустив, чи тоби повылазило? Там же капуста посажена! Конец этой речи Калина Иванович
произносит, стоя уже далеко от меня и размахивая трубкой. В трёхстах метрах от нас темнеет в траве
гнедая спина, не видно кругом ни одного «сукиного сына». Но Калина Иванович
не ошибается в адресе. Луг — это царство Братченко, здесь он всегда незримо
присутствует, речь Калины Ивановича, собственно говоря, есть заклинание. Ещё
две‑три короткие формулы, и Братченко материализуется, но в полном
согласии со всею спиритической обстановкой он появляется не возле коня, а
сзади нас с сада: — И чего вы репетуете, Калина
Иванович? Дэ в бога заяц, дэ в чёрта батько? Дэ капуста, а дэ кинь? начинается
специальный спор, из которого даже полный профан в луговом хозяйстве может
понять, что здорово уже постарел Калина Иванович, что уже с большим трудом
разбирается в колонийской топографии и действительно забыл, где затерялся
луговой клочок капустного поля. Колонисты позволяли Калине Ивановичу
стареть спокойно. Сельское хозяйство давно уже нераздельно принадлежало Шере,
и Калина Иванович только в порядке придирчивой критики и пытался иногда
просунуть старый нос в некоторые сельскохозяйственные щели. Шере умел
приветливо, холодной шуткой прищемить этот нос, и тогда Калина Иванович
сдавался. — Что ж ты поробышь? Када‑то и
у нас хлиб рожався. Нехай теперь другие попробують: хисту много, а чи хлиб
уродится? Но в общем хозяйстве Калина Иванович всё
больше и больше приближался к положению английского короля — царствовал, но
не правил. Мы все признавали его хозяйственное величие и склонялись перед его
сентенциями с почтительностью, но дело делали по‑своему. Это даже и не
обижало Калину Ивановича, ибо он не отличался болезненным самолюбием и, кроме
того, ему дороже всего были собственные сентенции, как для его английского
коллеги царственная мишура. По старой традиции Калина Иванович ездил
в город, и выезд его теперь обставлялся некоторой торжественностью. Он всегда
был сторонником старинной роскоши, и хлопцы знали его изречение: — У пана фаетон модный, та кинь
голодный, в у хозяина воз простецкий, зато кинь молодецкий. Старый воз, напоминавший гробик,
колонисты устилали свежим сеном и закрывали чистым рядном. Запрягали лучшего
коня и подкатывали к крыльцу Калины Ивановича. Все хозяйственные чины и
власти к этому моменту делали, что нужно: у помзавхоза Дениса Кудлатого лежит
в кармане список городских операций, кладовщик Алёшка Волков запихивает под
сено нужные ящики, глечики, верёвочки и прочие упаковки. Калина Иванович
выдерживает выезд перед крыльцом три‑четыре минуты, потом выходит в
чистеньком отглаженном плаще, обжигает спичкой наготовленную трубку,
оглядывает мельком коня или воз, иногда бросает сквозь зубы, важно: — Сколько раз тоби говорив: не
надевай в город таку драну шапку. От народ непонимающий!.. Пока Денис меняется с товарищами
картузами, Калина Иванович взбирается на сиденье и приказывает: — Ну паняй, што ли. В городе Калина Иванович больше сидит в
кабинете какого‑нибудь продовольственного магната, задирает голову и
старается поддержать честь сильной и богатой державы — колонии имени
Горького. Именно поэтому его речи касались больше вопросов широкой политики: — У мужиков всё есть. Это я вам
говорю определённо. А в это время Денис Кудлатый в чужом
картузе плавает и ныряет в хозяйственном море, помещающемся этажом ниже:
выписывает ордера, ругается с заведующим и конторщиками, нагружает воз
мешками и ящиками, оставляя неприкосновенным место Калины Ивановича, кормит
коня и к трём часам вваливается в кабинет, весь в муке и в опилках: — Можно ехать, Калина Иванович. Калина Иванович расцветает
дипломатической улыбкой, пожимает руку начальству и деловито спрашивает
Дениса: — Ты всё нагрузив, как следовает? По приезде в колонию истомлённый Калина
Иванович отдыхает, а Денис, наскоро съев простывший обед, до позднего вечера
носит свою монгольскую физиономию по колонийским хозяйственным путям и
хлопочет, как старуха. Кудлатый органически не выносил вида
самой малой брошенной ценности; он страдал, если с воза струшивалась солома,
если где‑то потерялся замок, если двери в коровник висят на одной
петле. Денис был скуп на улыбку, но никогда не казался злым, и его
приставанья к каждому растратчику хозяйственных ценностей никогда не были
утомительно‑назойливы, столько в его голосе убедительной солидности и
сдержанной воли. Он умел допекать легкомысленных пацанов, полагавших в
душевной простоте, что залезть на дерево — самое целесообразное вложение
человеческой энергии. Денис одним движением бровей снимал их с дерева и
говорил: — Ну каким местом, собственно
говоря, ты рассуждаешь? Тебя женить скоро, а ты на вербе сидишь и штаны
рвёшь. Пойдём, я тебе выдам другие штаны. — Какие другие? — обливается
пацан холодным потом. — Это тебе будет как спецовка, чтобы
по деревьям лазить. Ну скажи, собственно говоря, чи ты видел где такого
человека, чтобы в новых штанах на деревья лазил? Видел ты такого? Денис глубоко был проникнут хозяйственным
духом и поэтому не способен был уделить внимание человеческому страданию. Он
не мог понять такой простой человеческой психологии: пацан как раз потому и
залез на дерево, что находился в состоянии восторга по случаю получения новых
штанов. Штаны и дерево были причинно связаны, а Денису казалось, что это вещи
несовместимые. Жёсткая политика Кудлатого, однако, была
необходима, ибо наша бедность требовала свирепой экономии. Поэтому Кудлатый
неизменно выдвигался советом командиров на работу помзавхоза, и совет
командира решительно отводил малодушные жалобы пацанов на неправильные якобы
репрессии Дениса по отношению к штанам. Карабанов, Белухин, Вершнев, Бурун и
другие старики высоко ценили энергию Кудлатого и сами ей беспрекословно
подчинялись весной, когда Денис на общем собрании приказывал: — Завтра посдавайте ботинки в
кладовку, летом можно и босому ходить. Много поработал Денис в октябре 1923
года. Десять отрядов колонистов с трудом разместились в тех зданиях, которые
были приведены в полный порядок. В старом помещичьем дворце, который у нас
называли белым домом, расположились спальни и школа, а в большом зале,
заменившем веранду, работала столярная. Столовая была опущена в подвальный
этаж второго дома, в котором были квартиры сотрудников. Она пропускала не
больше тридцати пяти человек одновременно, и поэтому мы обедали в три смены.
Сапожная, колёсная, швейная мастерские ютились в углах, очень мало похожих на
производственные залы. Всем в колонии было тесно — и колонистам и
сотрудникам. И как постоянное напоминание о нашем возможном благополучии
стоял в новому саду двухэтажный «ампир», издеваясь над нашим воображением
просторами высоких комнат, лепными потолками и распластавшейся над садом
широкой открытой верандой. Сделать здесь полы, окна, двери, лестницы,
отопление, и мы имели бы другие помещения для всякой педагогической нужды. Но
для такого дела у нас не было шести тысяч рублей, а текущие наши доходы
уходили на борьбу с цепкими остатками старой бедности, возвращаться к которой
было для нас нестерпимым. На этом фронте наше наступление уничтожило уже клифты,
изодранные картузы, раскладушки‑кровати, ватные одеяла эпохи последнего
Романова и обмотанные тряпками ноги. Уже и парикмахер стал приезжать к нам
два раза в месяц, и хотя он брал за стрижку машинкой десять копеек, а за
причёску двадцать, мы могли позволить себе роскошь выращивать на колонистских
головах «польки», «политики» и другие плоды европейской культуры. Правда,
мебель наша была ещё некрашеной, к столу подавались деревянные ложки, бельё
было в заплатах, но это уже потому, что главные куски наших доходов тратили
мы на инвентарь, инструмент и вообще на основной капитал. Шести тысяч рублей у нас не было, и на
получение их не имелось никаких надежд. На общих собраниях коммунаров, в
совете командиров, просто в беседах старших колонистов и в комсомольских
речах, даже в щебете пацанов очень часто можно было услышать название этой
суммы, и во всех этих случаях она представлялась абсолютно недостижимой по
своей величине. В это время колония имени Горького
находилась в ведении Наркомпроса и от него получала небольшие сметные суммы.
Что это были за деньги, можно было судить хотя бы по тому, что на одежду
одного колониста в год полагалось двадцать восемь рублей. Калина Иванович
возмущался. — Хто оно такой разумный, що так
ассигнуеть? От бы мене посмотреть на его лицо, какое оно такое, бо прожив,
понимаешь ты, шесть десятков, а таких людей в натуре не видав, паразитов! И я таких людей не видел, хотя и бывал в
Наркомпросе. Цифра эта не назначалась человеком‑организатором, а
получалась в результате простого деления стихии беспризорщины на число
беспризорных. В красном доме, как запросто мы называли
трепкинский «ампир», было убрано, как для бала, но бал откладывался на долгое
время, даже первые пары танцоров — плотники — приглашены ещё не были. Но при такой печальной конъюнктуре
настроение у колонистов было далеко не подавленное. Карабанов относил это
обстоятельство к кое‑какой чертовщине: — Нам чёрты наворожуть, ось
побачитэ! Нам же везёт, бо мы же незаконнорожденные… От побачитэ, не чёрты,
та ще якась нечиста сыла, — може, видьма, а може, ще хто. Такого не може
буты, щоб отой дом отаким дурнем стояв перед очима. И поэтому, когда мы получили телеграмму,
что шестого октября приезжает в колонию инспектор Укрпомдета Бокова и что
надлежит за нею выслать лошадей к харьковскому поезду, в правящих кругах
колонии к этому известию отнеслись весьма внимательно и многие высказывали
мысли, имеющие прямое отношение к ремонту красного дома: — Эта старушка шесть тысяч может… — Почему ты знаешь, что она
старушка? — В помдетах этих всегда старушки. Калина Иванович сомневался: — От помдета ничего не получишь. Это
я вже знаю. Будет просить, чи нельзя принять трёх хлопцев. И потом баба
всё-таки: теорехтически женськое равноправие, а прахтически как была бабой,
так и осталась… Пятого в ведомстве Антона Братченко мыли
парный фаэтон и заплетали гривы Рыжему и Мэри. Столичные гости в колонии
бывали редко, и Антон склонен был относиться к ним с большим почётом. Утром
шестого я выехал на вокзал, и на козлах сидел сам Братченко. На вокзальной площади, сидя в фаэтоне, мы
с Антоном внимательно осматривали всех старушек и вообще женщин
наробразовского стиля, выходящих на площадь. Неожиданно услышали вопрос от
кого‑то, мало для нас подходящего: — Откуда эти лошади? Антон грубовато сказал сквозь зубы: — У нас свои дела. Вон извозчики. — Вы не из колонии имени Горького? Взметнув ногами, Антон совершил на козлах
полный оборот вокруг своей оси. Заинтересовался и я. Перед нами стояло существо абсолютно
неожиданное: лёгкое серое пальто в большую клетку, из‑под пальто
кокетливые шёлковые ножки. А лицо холёное, румяное, и ямочки на щеках
высокого качества, и блестящие глаза, и тонкие брови. Из‑под кружевного
дорожного шкафа смотрят на нас ослепительные локоны блондинки. За нею
носильщик, и у него в руках пустячный багаж: коробка, саквояж из хорошей
кожи. — Вы — товарищ Бокова? — Ну вот видите, я сразу угадала,
что это горьковцы. Антон, наконец, пришёл в себя, повертел
серьёзно головой и заботливо разобрал вожжи. Бокова впорхнула в экипаж,
заменив окружавший нас привокзальный воздух каким‑то другим газом,
ароматным и свежим. Я подальше отодвинулся в угол сиденья и был вообще очень
смущён непривычным соседством. Товарищ Бокова всю дорогу щебетала о самых
разнообразных вещах. Она много слышала о колонии имени Горького, и ей ужасно
захотелось посмотреть, «что за такая колония». — Ах, вы знаете, товарищ Макаренко,
у нас так трудно, так трудно с этими ребятами! Мне ужасно их жаль, знаете,
так хочется чем‑нибудь им помочь. А это ваш воспитанник? Милый какой
мальчик. Не скучно вам здесь? В этих детских домах очень скучно, знаете. У
нас много говорят о вас. Только говорят, что вы нас не любите. — Кого это? — Нас — дамсоцвос. — Не понимаю. — Говорят, что вы так нас называете
— дамский соцвос — дамсоцвос… — Вот ещё новости! — сказал я.
Никогда я так никого не называл… Я искренно рассмеялся. Бокова была в
восторге от такого удачного названия. — А вы знаете, это немножко верно: в
соцвосе много дам. Я тоже такая — дама. Вы от меня ничего такого — учёного —
не услышите… Вы довольны? Антон то и дело оглядывался с козел,
серьёзно вытаращивая большие глаза на непривычного седока. — Он всё на меня смотрит! —
смеялась Бокова. — Чего он на меня так смотрит? Антон краснел и что‑то бурчал,
погоняя лошадей. В колонии нас встретили заинтересованные
колонисты и Калина Иванович. Семён Карабанов смущённо полез в собственныю
«потылыцю», выражая этим жестом полную растерянность. Задоров прищурил один
глаз и улыбался. Я представил Бокову колонистам, и они
приветливо потащили её показывать колонию. Меня дёрнул за рукав Калина
Иванович и спросил: — А чем её кормить надо? — Ей‑богу, не знаю, чем их
кормят, — ответил я в тон Калине Ивановичу. — Я думаю так, что для неё надо
молока больше. Как ты думаешь, а? — Нет, Калина Иванович, надо что‑нибудь
посолидней… — Да что же я сделаю? Разве кабана
зарезать? Так Эдуард Николаевич не дасть. Калина Иванович отправился хлопотать о
кормлении важной гостьи, а я поспешил к Боковой. Она успела уже хорошо
познакомиться с хлопцами и говорила им: — Называйте меня Марией Кондратьевной. — Мария Кондратьевна? От здорово!..
Так от смотрите, Мария Кондратьевна, это у нас оранжерея. Сами делали, тут и
я поколупал немало: видите, до сих пор мозоли. Карабанов показывал Марии Кондратьевне
свою руку, похожую на лопату. — Это он врёт, Мария Кондратьевна,
это у него мозоли от весел. Мария Кондратьевна оживлённо вертела
белокурой красивой головой, на которой уже не было дорожного шарфа, и очень
мало интересовалась оранжереей и другими нашими достижениями. Показали Марии Кондратьевне и красный
дом. — Отчего же вы его не
оканчиваете? — спросила Бокова. — Шесть тысяч, — сказал
Задоров. — А у вас нет денег? Бедненькие! — А у вас есть? — зарычал
Семён. — О, так в чём же дело? Знаете что, давайте мы здесь на травке
посидим. Мария Кондратьевна грациозно
расположилась на травке у самого красного дома. Хлопцы в ярких красках
описали ей нашу тесноту и будущие роскошные формы нашей жизни после
восстановления красного дома. — Вы понимаете — у нас сейчас
восемьдесят колонистов, а то будет сто двадцать. Вы понимаете? Из сада вышел Калина Иванович, и Оля
Воронова несла за ним огромный кувшин, две глиняные кружки и половину ржаного
хлеба. Мария Кондратьевна ахнула: — Смотрите, какая прелесть, как у
вас всё прекрасно! Это ваш такой дедушка? Он, пасечник, правда? — Нет, я не пасечник, — расцвёл
в улыбке Калина Иванович, — и никогда не был пасечником, а только это
молоко лучше всякого мёда. Это вам не какая‑нибудь баба делала, а
трудовая колония имени Максима Горького. Вы такого молока никогда в жизни не
пили: и холодное и солодкое. Мария Кондратьевна захлопала в ладоши и
склонилась над кружкой, в которую священнодейственно наливал молоко Калина
Иванович. Задоров поспешил использовать этот занимательный момент: — У вас шесть тысяч даром лежат, а у
нас дом не ремонтируется. Это, понимаете, несправедливо. Мария Кондратьевна задохнулась от
холодного молока и прошептала страдальческим голосом: — Это не молоко, а счастье… Никогда
в жизни… — Ну а шесть тысяч? — нахально
улыбался ей в лицо Задоров. — Какой этот мальчик
материалист, — Мария Кондратьевна прищурилась. — Вам нужно шесть
тысяч? А мне что за это будет? Задоров беспомощно оглянулся и развёл
руками, готовый предложить в обмен на шесть тысяч всё своё богатство.
Карабанов долго не думал: — Мы можем вам предложить сколько
угодно такого счастья. — Какого, какого счастья? —
всеми цветами радуги заблестела Мария Кондратьевна. — Холодного молока. Мария Кондратьевна повалилась грудью на
траву и засмеялась в изнеможении. — Нет, вы меня не одурачите вашим
молоком. Я вам дам шесть тысяч, только вы должны принять от меня сорок детей…
хороших мальчиков, только они теперь, знаете, такие… чёрненькие… Колонисты сделались серьёзны. Оля
Воронова, как маятником, размахивала кувшином и смотрела в глаза Марии
Кондратьевне. — Так отчего же? — сказала
она. — Мы возьмём сорок детей. — Поведите меня умыться, и я хочу
спать… А шесть тысяч я вам дам. — А вы ещё на наших полях не были. — На поля поедем завтра. Хорошо? Мария Кондратьевна прожила у нас три дня.
Уже к вечеру первого дня она знала многих колонистов по именам и до глубокой
ночи щебетала на скамье в старом саду. Катали они её и на лодке, и на
гигантах, и на качелях, только поля она не успела осмотреть и насилу‑насилу
нашла время подписать со мною договор. По договору Укрпомдет обязывался
перевести нам шесть тысяч на восстановление красного дома, а мы должны были
после такого восстановления принять от Укрпомдета сорок беспризорных. От колонии Мария Кондратьевна была в
восторге. — У вас рай, — говорила
она. — У вас есть прекрасные, как бы это сказать… — Ангелы? — Нет, не ангелы, а так — люди. Я не провожал Марию Кондратьевну. На
козлах не сидел Братченко, и гривы у лошадей заплетены не были. На козлах
сидел Карабанов, которому Антон почему‑то уступил свой выезд. Карабанов
сверкал чёрными глазами и до отказа напихан был чертячьими улыбками, рассыпая
их по всему двору. — Договор подписан, Антон
Семёнович? — спросил он меня тихо. — Подписан. — Ну и добре. Эх, и прокачу
красавицу! Задоров пожимал Марии Кондратьевне руку: — Так вы приезжайте к нам летом. Вы
же обещали. — Приеду, приеду, я здесь дачу
найму. — Да зачем дачу? К нам… Мария Кондратьевна закивала на все
стороны головой и всем подарила по ласковому, улыбающемуся взгляду. Возвратившись с вокзала, Карабанов,
распрягая лошадей, был озабочен, и так же озабоченно слушал его Задоров. Я
подошёл к ним. — Говорил я, что ведьма поможет, так
и вышло. — Ну а какая же она ведьма? — А вы думаете, ведьма, так
обязательно на метле? И с таким носом? Нет. Настоящие ведьмы красивые. |
|
||||
|
|
2. Отченаш
Бокова не подвела: уже через неделю
получили мы перевод на шесть тысяч рублей, и Калина Иванович усиленно
закряхтел в новой строительной горячке. Закряхтел и четвёртый отряд Таранца,
которому было задание из сырого леса сделать хорошие двери и окна. Калина
Иванович поносил какого‑то неизвестного человека: — Чтоб ему гроб из сырого леса
сделали, как помрёть, паразит!.. Наступил последний акт нашей
четырёхлетней борьбы с трепкинской разрухой; нас всех, от Калины Ивановича до
Шурки Жевелия, охватывало желание скорее окончить дом. Нужно было скорее
прийти к тому, о чём мечтали так долго и упорно. Начали нас раздражать
известковые ямы, заросли бурьяна, нескладные дорожки в парке, кирпичные
осколки и строительные отбросы по всему двору. А нас было только восемьдесят
человек. Воскресные советы командиров терпеливо отжимали у Шере два‑три
сводных отряда для приведения в порядок нашей территории. Часто на Шере и
сердились: — И честное слово, это уже чересчур!
У вас же нечего делать, всё под шнурок сделано. Шере спокойно доставал измятый блокнот и
негромко докладывал, что у него, напротив, всё запущено, пропасть всякой
работы и если он даёт два отряда для двора, так это только потому, что он
вполне признает необходимость и такой работы, иначе он никогда бы не дал, а поставил
бы эти отряды на сортировку пшеницы или на ремонт парников. Командиры недовольно бурчат, с трудом
помещая в своих душах противоречивые переживания: и злость на неуступчивость
Шере, и восхищение его твёрдой линией. Шере в это время заканчивал организацию
шестиполья. Мы все вдруг заметили, как выросло наше сельское хозяйство. Среди
колонистов появились люди, преданные этому делу, как своему будущему, и среди
них особенно выделялась Оля Воронова. Если увлекались землёй Карабанов,
Волохов, Бурун, Осадчий, то это было увлечение почти эстетического порядка.
Они влюбились в сельскохозяйственную работу, влюбились без всякой мысли о
собственной пользе, вошли в неё, не оглядываясь назад и не связывая её ни с
собственным будущим, ни с другими своими вкусами. Они просто жили и
наслаждались прекрасной жизнью, умели оценить каждый пережитый в работе и в
напряжении день и завтрашнего дня ожидали как праздника. Они были уверены,
что все эти дни приведут их к новым и богатым удачам, а что это такое будет,
об этом они не думали. Правда, все они готовились в рабфак, но и с этим делом
они не связывали никакой точной мечты и даже не знали, в какой рабфак они
хотели бы поступить. Были и другие колонисты, любящие сельское
хозяйство, но они стояли на более практической позиции. Такие, как Опришко и
Федоренко, учиться в школе не хотели, никаких особенных претензий вообще не
предъявляли к жизни и с добродушной скромностью полагали, что завести своё
хозяйство на земле, оборудоваться хорошей хатой, конём и женой, летом
работать «от зари до зари», к осени всё по‑хозяйски собрать и сложить,
а зимой спокойно есть вареники и борщи, ватрушки и сало, отгуливая два раза в
месяц на собственных и соседских родинах, свадьбах, именинах и заручинах
(сговор, обручение), — прекрасное будущее для человека. Оля Воронова была на особом пути. Она
смотрела на наши и соседские поля с задумчивым или восторженным глазом
комсомолки, для неё на полях росли не только вареники, но и проблемы. Наши шестьдесят десятин, над которыми так
упорно работал Шере, ни для него, ни для его учеников не заслоняли мечты о
большом хозяйстве, с трактором, с «гонами» в километр длиной. Шере умел
поговорить с колонистами на эту тему, и у него составилась группа постоянных
слушателей. Кроме колонистов в этой группе постоянно присутствовали Спиридон,
комсомольский секретарь из Гончаровки, Павел Павлович. Павлу Павловичу Николаенко было уже
двадцать шесть лет, но он ещё не был женат, по деревенской мерке считался
старым холостяком. Его отец, старый Николаенко, на наших глазах выбивался в
крепкого хозяина‑кулака, потихоньку используя бродячих мальчишек‑батраков,
но в то же время прикидывался убеждённым незаможником. Может быть, поэтому Павел Павлович не
любил отцовского очага, а толкался в колонии, нанимаясь у Шере для выполнения
более тонких работ с пропашными, выступая перед колонистами почти в роли
инструктора. Павел Павлович был человек начитанный и умел внимательно и
вдумчиво слушать Шере. И Павел Павлович и Спиридон то и дело
поворачивали беседу на крестьянские темы, большое хозяйство они иначе не
представляли себе, как хозяйство крестьянское. Карие глаза Оли Вороновой
пристально присматривались к ним и сочувственно теплели, когда Павел Павлович
негромко говорил: — Я так считаю: сколько кругом
работает народу, а без толку. А чтобы с толком работали — надо учить. А кто
научит? Мужик, ну его к чёрту, его учить трудно. Вот Эдуард Николаевич всё
подсчитали и рассказали. Это верно. Так работать же надо! А этот чёрт
работать так не будет. Ему дай своё. — Колонисты же работают, —
осторожно говорил Спиридон, человек с большим и умным ртом. — Колонисты, — улыбается
грустно Павел Павлович, — это же, понимаете, совсем не то. Оля тоже улыбается, складывает руки, как
будто собирается раздавить орех, и вдруг задорно перебрасывает взгляд на верхушки
тополей. Золотистые косы Ольги сваливаются с плеч, а за косами опускается
вниз и внимательный серый глаз Павла Павловича. — Колонисты не собираются
хозяйничать на земле и работают, а мужики всю жизнь на земле, и дети у них, и
все… — Ну так что? — не понимает
Спиридон. — Понятно что! — удивлённо
говорит Оля. — Мужики должны ещё лучше работать в коммуне. — Как это должны? — ласково
спрашивает Павел Павлович. Оля смотрит сердито в глаза Павла
Павловича, и он на минуту забывает о её косах, а видит только этот сердитый,
почти не девичий глаз. — Должны! Ты понимаешь, что значит
«должны»? Это тебе как дважды два — четыре. Разговор этот слушают Карабанов и Бурун.
Для них тема имеет академическое значение, как и всякий разговор о граках, с
которыми они порвали навсегда. Но Карабанова увлекает острота положения, и он
не может отказаться от интересной гимнастики: — Ольга правильно говорит: должны —
значит, нужно взять и заставить… — Как же ты их заставишь? —
спрашивает Павел Павлович. — Как попало! — загорается Семён. —
Как людей заставляют? Силой. Давай сейчас мне всех твоих граков, через неделю
у меня будут работать, как тёпленькие, а через две недели благодарить будут. Павел Павлович прищуривается: — Какая ж у тебя сила? Мордобой? Семён со смехом укладывается на скамью, а
Бурун сдержанно‑презрительно поясняет: — Мордобой — это чепуха! Настоящая
сила — револьвер. Оля медленно поворачивает к нему лицо и
терпеливо поучает: — Как ты не понимаешь: если люди
должны что‑нибудь сделать, так они и без твоего револьвера сделают.
Сами сделают. Им нужно только рассказать как следует, растолковать. Семён, поражённый, подымает со скамьи
вытаращенное лицо: — Э‑э, Олечко, цэ вы кудысь за
той, заблудылысь. Растолковать… ты чуешь, Бурун? Ха? Що ты ему растолкуешь,
коли вин хоче куркулем буты? — Кто хочет куркулем8 — Ольга
возмущённо расширяет глаза. — Как кто? Та все. Все, до одного.
Ось и Спиридон, и Павло Павлович… Павел Павлович улыбается. Спиридон
ошеломлён неожиданным нападением и может только сказать: — Ну дывысь ты! — От и дывысь! Вин комсомолец тилько
потому, що земли нэма. А дай ему зараз двадцать десятин и коровку, и овечку,
и коня доброго, так и кончено. Сядэ тоби ж, Олечко, на шию и поидэ. Бурун хохочет и подтверждает авторитетно: — Поедет. И Павло поедет. — Та пошли вы к чёрту,
сволочи! — оскорбляется, наконец, Спиридон и краснеет, сжимая кулаки. Семён ходит вокруг садовой скамейки и
высоко поднимает то одну, то другую ногу, изображая высшую степень восторга.
Трудно разобрать, серьёзно он говорит или дразнит деревенских людей. Против скамейки на травке сидит Силантий
Семёнович Отченаш. Голова у него, «как пивной котёл», морда красная,
стриженный бесцветный ус, а на голове ни одной волосинки. Такие люди редко у
нас теперь попадаются. А раньше много их бродило по Руси — философов,
понимающих толк и в правде человеческой, и в казённом вине. — Семён это правильно здесь говорит.
Мужик — он не понимает компании, как говорится. Ему если, здесь это, конь,
так и лошонка захочется — два коня, это, чтоб было, и больше никаких данных.
Видишь, какая история. Отченаш жестикулирует отставленными от
кулака большим корявым пальцем и умно щурит белобрысые глазки. — Так что же, кони человеком правят,
что ли? — сердито спрашивает Спиридон. — Здесь это, правильно: кони правят,
вот какая история. Кони и коровы, смотри ты. А если он выскочит без всяких,
так только сторожем на баштан годится. Видишь, какая история. Силантия все полюбили в коммуне. С
большой симпатией относится к нему и Оля Воронова. И сейчас она близко,
ласково наклоняется к Силантию, а он, как к солнцу, обращает к ней широкое
улыбающееся лицо. — Ну что, красавица? — Ты, Силантий, по‑старому
смотришь. По‑старому. А кругом тебя новое. Силантий Семёнович Отченаш пришёл к нам
неизвестно откуда. Просто пришёл из мирового пространства, не связанный
никакими условностями и вещами. Принёс с собой на плечах холщовую рубаху, на
босых ногах дырявые древние штаны — и всё. А в руках даже и палки не было.
Чем‑то особенно этот свободный человек понравился колонистам, и они с
большим воодушевлением втащили его в мой кабинет. — Антон Семёнович, смотрите, какой
человек пришёл! Силантий с интересом смотрел на меня и
улыбался пацанам, как старый знакомый: — Это что же, как говорится, ваш
начальник будет? И мне он сразу понравился. — Вы по делу к нам? Силантий расправил что‑то на своей
физиономии, и она сразу сделалась деловой и внушающей доверие. — Видишь, какая, здесь это, история.
Я человек рабочий, а у тебя работа есть, и никаких больше данных… — А что вы умеете делать? — Да как это говорится: если капитала
здесь нету, так человек всё может делать. Он вдруг открыто и весело рассмеялся.
Рассмеялись и пацаны, глядя на него, рассмеялся и я. И для всех было ясно:
были большие основания именно смеяться. — И вы всё умеете делать? — Да, почитай, что все… видишь,
какая история, — уже несколько смущённо заявил Силантий. — А что же всё-таки… Силантий начал загибать пальцы: — И пахать, и скородить
(бороновать), это, и за конями ходить, и за всяким, здесь это, животным, и,
как это говорится, по хозяйству: по плотницкому, и по кузнецкому, и по
печному делу. И маляр, значит, и по сапожному делу могу. Ежели это самое, как
говорится, хату построить — сумею, и кабана, здесь это, зарезать тоже. Вот
только детей крестить не умею, не приходилось. Он вдруг снова громко рассмеялся, утирая
слёзы на глазах, — так ему было смешно. — Не приходилось? Да ну? — Не звали ни разу, видишь, какая
история. Ребята искренно заливались, и Тоська
Соловьёв пищал, подымаясь к Силантию на цыпочках: — Почему не звали, почему не звали? Силантий сделался серъёзен и, как хороший
учитель, начал разъяснять Тоське: — Здесь это, думаешь, такая, брат
история: как кого крестить, думаю, вот меня позовут. А смотришь, найдётся и
побогаче меня, и больше никаких данных. — Документы у вас есть? —
спросил я Силантия. — Был документ, недавно ещё был,
здесь это, документ. Так видишь, какая история: карманов у меня нету,
потерялся, понимаешь. Да зачем тебе документ, когда я сам здесь налицо,
видишь это, как живой, перед тобою стою? — Где же вы работали раньше? — Да где? У людей, видишь это,
работал. У разных людей. И у хороших, и у сволочей, у разных, видишь, какая
история. Прямо говорю, чего ж тут скрывать: у разных людей. — Скажите правду: красть
приходилось? — Здесь это, прямо скажу тебе: не
приходилось, понимаешь, красть. Что не приходилось, здесь это, так и вправду
не приходилось. Такая, видишь, история. Силантий смущённо глядел на меня.
Кажется, он думал, что для меня другой ответ был бы приятнее. Силантий остался у нас работать. Мы
пробовали назначить его в помощь Шере по животноводству, но из такой
регламентации ничего не вышло. Силантий не признавал никаких ограничений в
человеческой деятельности: почему это одно ему можно делать, а другое нельзя?
И поэтому он у нас делал всё, что находил нужным и когда находил нужным. На
всяких начальников он смотрел с улыбкой, и приказания пролетали мимо его
ушей, как речь на чужом языке. Он успевал в течение дня поработать и в
конюшне, и в поле, и на свинарнике, и на дворе, и в кузнице, и на заседании
педагогического совета и совета командиров. У него был исключительный талант
чутьём определить самое опасное место в колонии и немедленно оказываться на
этом месте в роли ответственного лица. Не признавая института приказания, он
всегда готов был отвечать за свою работу, и его всегда можно было поносить и
ругать за ошибки и неудачи. В таких случаях он почёсывал лысину и разводил
руками: — Здесь это, как говорится,
действительно напутали, видишь, какая история. Силантий Семёнович Отченаш с первого дня
с головою влез в комсомольские планы и непременно разглагольствовал на
комсомольских общих собраниях и заседаниях бюро. Но было и так: пришёл он ко
мне уверенно злой и размахивая пальцем, возмущался: — Здесь это, прихожу к ним… — К кому это? — Да, видишь, к комсомольцам этим —
не пускают, как говорится: закрытое, видишь это, заседание. Я им говорю по‑хорошему:
здесь это, молокососы, от меня закроешься, так и сдохнешь, говорю, зелёным.
Дураком, здесь это, был, дураком и закопают, и больше никаких данных. — Ну и что ж? — Да видишь, какая история: не
понимают, что ли, или, здесь это, пьяные они, как говорится, так и не пьяные.
Я им толкую: от кого нужно тебе закрываться? От Луки, от этого Софрона, от
Мусия, здесь это, правильно. А как же ты меня не пускаешь — не узнал, как
говорится, а то, может, сдурел? Так видишь, какая история: не слушают даже,
хохочут, как это говорится, как малые ребята. Им дело, а они насмешки, и
больше никаких данных. Вместе с комсомолом принимал Силантий
участие и в школьных делах. Комсомольский регулярный режим прежде
всего поднял на ноги нашу школу. До того времени она влачила довольно жалкое
существование, будучи не в силах преодолеть отвращение к учебе многих
колонистов. Это, пожалуй, понятно. Первые горьковские
дни были днями отдыха после тяжёлых беспризорных переживаний. В эти дни
укрепились нервы колонистов под тенью непрезентабельной мечты о карьерах
сапожников и столяров. Великолепное шествие нашего коллектива и
победные фанфары на берегах Коломака сильно подняли мнение колонистов о себе.
Почти без труда нам удалось вместо скромных сапожничьих идеалов поставить
впереди волнующие и красивые знаки: |
|
||||
|
|
РАБФАК В то время слово «рабфак» означало совсем
не то, что сейчас обозначает. Теперь это простое название скромного учебного
заведения. Тогда это было знамя освобождения рабочей молодежи от темноты и
невежества. Тогда это было страшно яркое утверждение непривычных человеческих
прав на знание, и тогда мы все относились к рабфаку, честное слово, с
некоторым даже умилением. Это всё было у нас практической линией: к
осени 1923 года почти всех колонистов обуяло стремление на рабфак. Оно
просочилось в колонии незаметно, ещё в 1921 году, когда уговорили наши
воспитательницы ехать на рабфак незадачливую Раису. Много рабфаковцев из
молодежи паровозного завода приходило к нам в гости. Колонисты с завистью
слушали их рассказы о героических днях первых рабочих факультетов, и эта
зависть помогала им теплее принимать нашу агитацию. Мы настойчиво призывали
колонистов к школе и к знаниям, и о рабфаке говорили им как о самом прекрасном
человеческом пути. Но поступление на рабфак в глазах колонистов было связано
с непереносимо трудным экзаменом, который, по словам очевидцев, выдерживали
люди только исключительно гениальные. Для нас было очень нелегко убедить
колонистов, что и в нашей школе к этому страшному испытанию подготовиться
можно. Многие колонисты были уже и готовы к поступлению на рабфак, но их
разбирал безотчётный страх, и они решили остаться ещё на год в колонии, чтобы
подготовиться наверняка. Так было у Буруна, Карабанова, Вершнева, Задорова.
Особенно поражал нас учебной страстью Бурун. В редких случаях его нужно было
поощрять. С молчаливым упорством он осиливал не только премудрости арифметики
и грамматики, но и свои сравнительно слабые способности. Самый несложный пустяк,
грамматическое правило, отдельный тип арифметической задачи он преодолевал с
большим напряжением, надувался, пыхтел, потел, но никогда не злился и не
сомневался в успехе. Он обладал замечательно счастливым заблуждением: он был
глубоко уверен, что наука на самом деле такая трудная и головоломная вещь,
что без чрезмерных усилий её одолеть невозможно. Самым чудесным образом он
отказывался замечать, что другим те же самые премудрости даются шутя, что
Задоров не тратит на учебу ни одной лишней минуты сверх обычных школьных
часов, что Карабанов даже на уроках мечтает о вещах посторонних и переживает
в своей душе какую‑нибудь колонийскую мелочь, а не задачу или
упражнение. И, наконец, наступило такое время, когда Бурун оказался впереди
товарищей, когда их талантливо схваченные огоньки знания сделались чересчур
скромными по сравнению с солидной эрудицией Буруна. Полной противоположностью
Буруну была Маруся Левченко. Она принесла в колонию невыносимо вздорный
характер, крикливую истеричность, подозрительность и плаксивость. Много мы
перемучились с нею. С пьяной бесшабашностью и больным размахом она могла в
течение одной минуты вдребезги разнести самые лучшие вещи: удачу, хороший
день, тихий, ясный вечер, лучшие мечты и самые радужные надежды. Было много
случаев, когда казалось, что остаётся только одно: брать вёдрами холодную
воду и безжалостно поливать это невыносимое существо, вечно горящее глупым,
бестолковым пожаром. Настойчивые, далеко не нежные, а иногда и
довольно жёсткие сопротивления коллектива приучили Марусю сдерживаться, но
тогда она стала с таким же больным упрямством куражиться и издеваться над
самой собой. Маруся обладала счастливой памятью, была умница и собой
исключительно хороша: на смуглом лице глубокий румянец, большие чёрные глаза
всегда играли огнями и молниями, а над ними с побеждающей неожиданностью —
спокойный, чистый, умный лоб. Но Маруся была уверена, что она безобразна, что
она похожа «на арапку», что она ничего не понимает и никогда не поймёт. На
самое пустячное упражнение она набрасывалась с давно заготовленной злостью: — Всё равно ничего не выйдет! Пристали ко
мне — учись! Учите ваших Бурунов. Пойду в прислуги. И зачем меня мучить, если
я ни к чёрту не гожусь? Наталья Марковна Осипова, человек
сентиментальный, с ангельскими глазами и с таким же невыносимо ангельским
характером, просто плакала после занятий с Марусей. — Я её люблю, я хочу её научить, а
она меня посылает к чёрту и говорит, что я нахально к ней пристаю. Что мне
делать? Я перевёл Марусю в группу Екатерины
Григорьевны и боялся последствий этой меры. Екатерина Григорьевна подходила к
человеку с простым и искренним требованием. Через три дня после начала занятий
Екатерина Григорьевна привела Марусю ко мне, закрыла двери, усадила дрожащую
от злобы свою ученицу на стул и сказала: — Антон Семёнович! Вот Маруся.
Решайте сейчас, что с ней делать. Как раз мельнику нужна прислуга. Маруся
думает, что из неё только прислуга. Давайте отпустим её к мельнику. А есть и
другой выход: я ручаюсь, что к следующей осени я приготовлю её на рабфак, у неё
большие способности. — Конечно, на рабфак, — сказал
я. Маруся сидела на стуле и ненавидящим
взглядом следила за спокойным лицом Екатерины Григорьевны. — Но я не могу допустить, чтобы она
оскорбляла меня во время занятий. Я тоже трудящийся человек, и меня нельзя
оскорблять. Если она ещё один раз скажет слово «чёрт» или назовёт идиоткой, я
заниматься с нею не буду. Я понимаю ход Екатерины Григорьевны, но
уже все ходы были перепробованы с Марусей, и моё педагогическое творчество не
пылало теперь никаким воодушевлением. Я посмотрел устало на Марусю и сказал
без всякой фальши: — Ничего не выйдет. И чёрт будет, и
дура, и идиотка. Маруся не уважает людей, и это так скоро не пройдёт… — Я уважаю людей, — перебила
меня Маруся. — Нет, ты никого не уважаешь. Но что
же делать? Она наша воспитанница. Я считаю так, Екатерина Григорьевна: вы
взрослый, умный и опытный человек, а Маруся девочка с плохим характером.
Давайте не будем на неё обижаться. дадим ей право: пусть она называет вас
идиоткой и даже сволочью — ведь и такое бывало — а вы не обижайтесь. Это
пройдёт. Согласны? Екатерина Григорьевна, улыбаясь,
посмотрела на Марусю и сказала просто: — Хорошо. Это верно. Согласна. Марусины чёрные очи глянули в упор на
меня и заблестели слезами обиды; она вдруг закрыла лицо косынкой и с плачем
выбежала из комнаты. Через неделю я спросил Екатерину
Григорьевну: — Как Маруся? — Ничего. Молчит и на вас очень
сердита. А на другой день поздно вечером пришёл ко
мне Силантий с Марусей и сказал: — Насилу, это, привёл к тебе, как
говорится. Маруся, видишь, очень на тебя обижается, Антон Семёнович.
Поговори, здесь это, с нею. Он скромно отошёл в сторону. Маруся
опустила лицо. — Ничего мне говорить не нужно. Если
меня считают сумасшедшей, что ж, пускай считают. — За что ты на меня обижаешься? — Не считайте меня сумасшедшей. — Я тебя и не считаю. — А зачем вы сказали Екатерине
Григорьевне? — Да это я ошибся. Я думал, что ты
будешь её ругать всякими словами. Маруся улыбнулась: — Я ж не ругаю. — А, ты не ругаешь? Значит, я
ошибся. Мне почему‑то показалось. Прекрасное лицо Маруси засветилось
осторожной, недоверчивой радостью: — Вот так вы всегда: нападаете на
человека… Силантий выступил вперёд и
зажестикулировал шапкой: — Что ж ты к человеку придираешься?
Вас это, как говорится, сколько, а он один! Ну, ошибся малость, а ты, здесь
это, обижаться тебе не нужно. Маруся весело и быстро глянула в лицо
Силантия и звонко спросила: — Ты, Силантий, болван, хоть и
старый. И выбежала из кабинета. Силантий развёл
шапкой и сказал: — Видишь, какая, здесь это, история. И вдруг хлопнул шапкой по колену и
захохотал: — Ах, и история, ж, будь ты
неладна!.. |
|
||||
|
|
3. Доминанты
Не успели столяры закрыть окна красного
дома, налетела на нас зима. зима в этом году упала симпатичная: пушистая, с
милым характером, без гнилых оттепелей, без изуверских морозов. Кудлатый три
дня возился с раздачей колонистам зимней одежды. Конюхам и свинарням дал
Кудлатый валенки, остальным колонистам — ботинки, не блиставшие новизной и
фасоном, но обладавшие многими другими достоинствами: добротностью материала,
красивыми заплатами, завидной вместимостью, так что и две пары портянок
находили для себя место. Мы тогда ещё не знали, что такое пальто, а носили
вместо пальто полужилеты‑полупиджаки, стеганные на вате, с ватными
рукавами — наследие империалистической войны, — которые николаевские
солдаты остроумно называли «куфайками». На некоторых головах появились шапки,
от которых тоже попахивало царским интендантством, но большинству колонистов
пришлось и зимой носить бумажные картузы. Сильнее утеплить организмы
колонистов мы в то время ещё не могли. Штаны и рубашки и на зиму остались те
же: из лёгкой бумажной материи. Поэтому зимой а движениях колонистов
наблюдалась некоторая излишняя лёгкость, позволявшая им даже в самые сильные
морозы переноситься с места на место с быстротой метеоров. Хороши зимние вечера в колонии. В пять
часов работы окончены, до ужина ещё три часа. Кое‑где зажгли
керосиновые лампочки, но не они приносят истинное оживление и уют. По
спальням и классам начинается топка печей. Возле каждой печи две кучи: кучка
дров и кучка колонистов, и те и другие собрались сюда не столько для дела
отопления, сколько для дружеских вечерних бесед. Дрова начинают первые, по
мере того как проворные руки пацана подкладывают их в печку. Они рассказывают
сложную историю, полную занятных приключений и смеха, выстрелов, погони,
мальчишеской бодрости и победных торжеств. Пацаны с трудом разбирают их
болтовню, так как рассказчики перебивают друг друга и всё куда‑то
спешат, но смысл рассказа понятен и забирает за душу: на свете жить интересно
и весело. А когда замирает трескотня дров, рассказчики укладываются в горячий
отдых, только шепчут о чём-то усталыми языками — начинают свои рассказы
колонисты. В одной из групп Ветковский. Он старый
рассказчик в колонии, и у него всегда есть слушатели. — Много есть на свете хорошего. Мы
здесь сидим и ничего не видим, а есть на свете такие пацаны, которые ничего
не пропустят. Недавно я одного встретил. Был он аж на Каспийском море и по
Кавказу гулял. Там такое ущелье есть и есть скала, так и называется «Пронеси,
господи». Потому что другой дороги нет, одна, понимаешь, дорога — мимо этой
самой скалы. Один пройдёт, а другому не удаётся: всё время камни валятся.
Хорошо, если не придётся по кумполу, а если стукнет, летит человек прямо в
пропасть, никто его не найдёт. Задоров стоит рядом и слушает внимательно
и так же внимательно вглядывается в синие глаза Ветковского. — Костя, а ты бы отправился
попробовать, может, тебя «господи» и пронесёт? Ребята поворачивают к Задорову головы,
озарённые красным заревом печки. Костя недовольно вздыхает: — Ты не понимаешь, Шурка, в чём
дело. Посмотреть всё интересно. Вот пацан был там… Задоров открывает свою обычную ехидно‑неотразимую
улыбку и говорит Косте: — Я вот этого самого пацана о другом
спросил бы… Пора трубу закрывать, ребята. — О чём спросил бы? — задумчиво
говорит Ветковский. Задоров наблюдает за шустрым мальчиком,
гремящим вверху заслонками. — Я у него спросил бы таблицу
умножения. Ведь, дрянь, бродит по свету дармоедом и растёт неучем, наверное,
и читать не умеет. Пронеси, господи? Таких болванов действительно нужно по
башкам колотить. Для них эта самая скала нарочно поставлена! Ребята смеются, и кто‑то советует: — Нет, Костя, ты уж с нами поживи.
Какой же ты болван? У другой печки сидит на полу, расставил
колени и блестит лысиной Силантий и рассказывает что‑то длинное: — …Мы думали всё, как говорится,
благополучно. А он, подлец такой, плакал же и целовался, паскуда, а как
пришёл в свой кабинет, так и нагадил, понимаешь. Взял, здесь это, холуя и в
город пустил. Видишь, какая история. На утречко, здесь это, смотрим: жандармы
верхом. И люди говорят: пороться нам назначено. А я с братом, как говорится,
не любили, здесь это, чтобы нам штаны снимали, и больше никаких данных. Так
девки же моей жалко, видишь, какая история? Ну, думаю, здесь это, девки не
тронут. Сзади Силантия установлены на полу
валенки Калины Ивановича, а выше дымится его трубка. Дым от трубки крутым
коленом спускается к печке, бурлит двумя рукавами по ушам круглоголового
пацана и жадно включается в горячую печную тягу. Калина Иванович подмигивает мне одним
глазом и перебивает Силантия: — Хэ‑хэ‑хэ! Ты,
Силантий, прямо говори — погладили тебя эти паразиты по тому месту, откуда
ноги растут, чи не погладили? Силантий задирает голову, почти
опрокидывается навзничь и заливается смехом: — Здесь это, погладили, как
говорится, Калина Иванович, это ты верно сказал… Из‑за девки, будь она
неладна. И у других печей журчащие ручейки
повестей, и в классах, и по квартирам. И у Лидочки наверняка сидят Вершнев и
Карабанов. Лидочка угощает их чаем с вареньем. Чай не мешает Вершневу злиться
на Семёна: — Ну х‑хорошо, вчера з‑зубоскалил,
сегодня з‑зубоскалил, а надо же к‑к‑когда нибудь и з‑з‑задуматься… — Да о чём тебе думать? Чи у тебя
жена, чи волы, чи в коморе богато? О чём тебе думать? Живи, тай годи! — О жизни надо думать, ч‑ч‑чудак
к‑к‑какой. — Дурень ты, Колька, ей‑ей
дурень! По‑твоему думать, так нужно систы в кресло, очи вытрищать и
ото… заходытысь думать. У кого голова есть, так тому й так думается. А
такому, як ты, само собою нужно чогось поисты такого, щоб думалось… — Ну зачем вы обижаете
Николая? — говорит Лидочка. — Пусть человек думает, он до чего‑нибудь
и додумается. — Хто? Колька додумается? Да никогда
в жизни! Колька — знаете, кто такой? Колька ж Иисусик. Вин же «правды шукае».
Вы бачилы такого дурня? Ему правда нужна! Он правдою будет чоботы мазать. От Лидочки Семён и Колька выходят
прежними друзьями, только Семён орёт песню на всю колонию, а Николай в это
время нежно его обнял и уговаривает: — Р‑раз р‑революция,
понимаешь, так д‑должно быть всё правильно. И в моей скромной квартире гости. Я
теперь живу с матерью, глубокой старушкой, жизнь которой тихонько струится в
последних вечерних плёсах, укрытых прозрачными, спокойными туманами. Мать мою
все колонисты называют бабушкой. У бабушки сидит Шурка Жевелий, младший
брат и без того маленького Митьки Жевелия. Шурка ужасно востроносый. Живёт он
в колонии давно, но как‑то не растёт, а больше заостряется в нескольких
направлениях: нос у него острый, острые уши, острый подбородок и взгляд тоже
острый. У Шурки всегда имеются охотные промыслы.
Где‑нибудь за захолустным кустом у сада у него дощатая загородка, и там
живёт пара кроликов, а в подвале кочегарки он пристроил воронёнка.
Комсомольцы на общем собрании иногда обвиняют Шурку в том, что всё его
хозяйство назначается будто бы для спекуляции и вообще носит частный
характер, но Шурка деятельно защищается и грубовато требует: — А ну докажи, кому я что продавал?
Ты видел, когда продавал? — А откуда у тебя деньги? — Какие деньги? — А за какие деньги ты вчера покупал
конфеты? — Смотри ты, деньги! Бабушка дала
десять копеек. Против бабушки в общем собрании не
спорят. Возле бабушки всегда вертится несколько пацанов. Они иногда по её
просьбе исполняют небольшие поручения в Гончаровке, но стараются это делать
так, чтобы я не видел. А когда наверное известно, что я занят и скоро в
квартире меня ожидать нельзя, у бабушки за столом сидят двое‑трое и
пьют чай или ликвидируют какой‑нибудь компот, который бабушка варила
для меня, но который мне сьесть было некогда. По стариковской никчёмной
памяти бабушка даже имён всех своих друзей не знала, но Шурку отличала от
других, потому что Шурка старожил в колонии и потому что он самый энергичный
и разговорчивый. Сегодня Шурка пришёл к бабушке по особым
и важным причинам. — Здравствуйте. — Здравствуй, Шурка. Что это тебя
так долго не видно было? Болен был, что ли? Шурка усаживается на табурет и хлопает
козырьком когда‑то белой фуражки по ситцевому новому колену. На голове
у Шурки топорщатся острые, после давней машинки, белобрысые волосы. Шурка
задирает нос и рассматривает невысокий потолок. — Нет, я не был болен. А у меня
кролик заболел. Бабушка сидит на кровати и роется в своём
основном богатстве — в деревянной коробочке, в которой лоскутики, нитки,
клубочки — старые запасы бабушкины. — Кролик заболел? Бедный! Как же ты? — Ничего не поделаешь, —
говорит Шурка серьёзно, с большим трудом удерживая волнение в правом
прищуренном глазу. — А полечить если? — смотрит на
Шурку бабушка. — Полечить нечем, — шепчет
Шурка. — Лекарство нужно какое? — Если бы пшена достать… полстакана
пшена, и всё. — Хочешь, Шура, чаю? —
спрашивает бабушка. — Смотри, там чайник на плите, а вон стаканы. И мне
налей. Шурка осторожно укладывает фуражку на
табуретку и неловко возится у высокой плиты. А бабушка с трудом подымается на
цыпочки и достаёт с полки розовый мешочек, в котором хранится у неё пшено. Самая весёлая и самая крикливая компания
собирается в колёсном сарайчике Козыря. Козырь здесь и спит. В углу сарайчика
низенькая самоделковая печка, на печке чайник. В другом углу раскладушка,
покрытая пёстрым одеялом. Сам Козырь сидит на кровати, а гости — на
чурбачках, на производственном оборудовании, на горках ободьев. Все
настойчиво стараются вырвать из души Козыря обильные запасы религиозного
опиума, которые он накопил за свою жизнь. Козырь печально улыбается: — Нехорошо, детки, нехорошо,
господи, прости. Разгневается господь… Но пока собрался господь разгневаться,
разгневался Калина Иванович. Он из тёмного просвета дверей выступает на свет
и размахивает трубкой: — Это что же вы такое над старым
производите? Какое тебе дело до Иисуса Христа, скажи мне, пожалуйста? Я тебя
как захвачу отседова, так не только Христу, а и Николаю‑угоднику
молебны будешь служить! Ежели вас советская власть ослобонила от богов, так и
радуйся молча, а не то что куражиться сюда прийшов. — Спаси Христос, Калина Иванович, не
даёте в обиду старика… — Если что, ты ко мне жалиться
приходи. С этими босяками без меня не управишься, на своих христосов не очень
надейся. Ребята делали вид, будто они напугались
Калины Ивановича, и из колёсного сарайчика спешили разойтись по другим
колонистским уголкам. Теперь не было у нас больших спален‑казарм, а
расположились ребята в небольших комнатах по шесть‑восемь человек. В
этих спальнях отряды колонистов сбились крепче, ярче стали выделяться
характерные черты каждой отдельной группы, и работать с ними стало
интересней. Появился одиннадцатый отряд — отряд малышей, организованный
благодаря настойчивому требованию Георгиевского. Он возился с ними по‑прежнему
неустанно: холил, купал, играл и журил, и баловал, как мать, поражая своей
энергией и терпением закалённые души колонистов. Только эта изумительная
работа Георгиевского немного скрашивала тяжёлое впечатление, возникавшее
благодаря всеобщей уверенности, что Георгиевский — сын иркутского
губернатора. Прибавилось в колонии воспитателей. Искал
я настоящих людей терпеливо и кое‑что выуживал из довольно бестолкового
запаса педагогических кадров. На профсоюзном учительском огороде за городом
обнаружил я в образе сторожа Павла Ивановича Журбина. Человек это был
образованный, добрый, вымуштрованный, настоящий стоик и джентльмен. Он
понравился мне благодаря особому своему качеству: у него была чисто гурманская
любовь к человеческой природе; он умел со страстью коллекционера говорить об
отдельных чертах человеческих характеров, о неуловимых завитках личности, о
красотах человеческого героизма и терпеливо высматривал в людской толпе
признаки каких‑то новых коллективных законов. Я видел, что он должен
непременно заблудиться в своём дилетантском увлечении, но мне нравилась
искренняя и чистая натура этого человека, и за это я простил ему штабс‑капитанские
погоны 35‑го пехотного Брянского полка, которые, впрочем, он спорол ещё
до Октября, не испачкав своей биографии никакими белогвардейскими подвигами и
получив за это в Красной Армии звание командира роты запаса. Вторым был Зиновий Иванович Буцай. Ему
было лет двадцать семь, но он только что окончил художественную школу и к нам
был рекомендован как художник. Художник был нам нужен и для школы, и для
театра, и для всяких комсомольских дел. Зиновий Иванович Буцай поразил нас
крайним выражением целого ряда качеств. Он был чрезвычайно худ, чрезвычайно
чёрен и говорил таким чрезвычайно глубоким басом, что с ним трудно было
разговаривать: какие‑то ультрафиолетовые звуки. Зиновий Иванович
отличался прямо невиданным спокойствием и невозмутимостью. Он приехал к нам в
конце ноября, и мы с нетерпением ожидали, какими художествами вдруг
обогатится колония. Но Зиновий Иванович, ещё ни разу не взявшись за карандаш,
поразил нас иной стороной своей художественной натуры. Через несколько дней после его приезда
колонисты сообщили мне, что каждое утро он выходит из своей комнаты голый,
набросив на плечи пальто, и купается в Коломаке. В конце ноября Коломак уже
начинал замерзать, а скоро обратился в колонийский каток. Зиновий Иванович
при помощи Отченаша проделал специальную прорубь и каждое утро продолжал своё
ужасное купанье. Через короткое время он слег в постель и пролежал в плеврите
недели две. Выздоровел и снова полез в полонку. В декабре у него был бронхит
и ещё что‑то. Буцай пропускал уроки и нарушал наши школьные планы. Я,
наконец, потерял терпение и обратился к нему с просьбой прекратить эту
глупость. Зиновий Иванович в ответ захрипел: — Купаться я имею право, когда найду
нужным. В кодексе законов о труде это не запрещается. Болеть я тоже имею
право, и таким образом ко мне нельзя предъявить никаких официальных
обвинений. — Голубчик, Зиновий Иванович, так я
же неофициально. Для чего вам мучить себя? Жалко вас просто по‑человечески. — Ну, если так, так я вам объясню: у
меня здоровье слабое, организм мой очень халтурно сделан. Жить с таком
организмом, вы понимаете, противно. Я решил твёрдо: или я его закалю так, что
можно будет жить спокойно, или, чёрт с ним, пускай пропадает. В прошлом году
у меня было четыре плеврита, а в этом году уже декабрь, а был только один.
Думаю, что больше двух не будет. Я нарочно пошёл к вам, здесь у вас речка под
боком. Вызвал я и Силантия и кричал на него: — Это что за фокусы? Человек с ума
сходит, а ты для него проруби делаешь!… Силантий виновато развёл руками: — Ты здесь, это, не сердись, Антон
Семёнович, иначе, понимаешь, нельзя. Один такой вот был у меня… Ну, видишь,
захотелось ему на тот свет. Топтатьс, здесь это, приспособился. Как
отвернёшься, а он, сволочь, уже в реке. Я его вытаскивал, вытаскивал, как
говорится, уморился даже. А он, смотри ты, такая сволочь была вредная, взял и
повесился. А мне здесь это, и в голову не пришло. Видишь, какая история. А
этому я не мешаю, и больше никаких данных. Зиновий Иванович лазил в прорубь до
самого мая месяца. Колонисты сначала хохотали над претензиями этого дохлого
человека, потом прониклись к нему уважением и терпеливо ухаживали за ним во
время его многочисленных плевритов, бронхитов и обыкновенных простуд. Но бывали целые недели, когда закаливание
организма Зиновия Ивановича не сопровождалось повышением температуры, и тогда
проявлялась его действительная художественная натура. Вокруг Зиновия
Ивановича скоро организовался кружок художников; они выпросили у совета
командиров маленькую комнату в мезонине и устроили ателье. В журчащий зимний вечер в ателье Буцая
идёт самая горячая работа, и стены мезонина дрожат от смеха художников и
гостей‑меценатов. Под большой керосиновой лампой над
огромным картоном работает несколько человек. Почёсывая черенком кисти в
угольно‑чёрной голове, Зиновий Иванович рокочет, как протодиакон на
похмелье: — Прибавьте Федоренку сепии. Это же
грак, а вы из него купчиху сделали. Ванька, всегда ты кармин лепишь, где надо
и где не надо. Рыжий, веснушчатый, с вогнутым лицом, Ванька Лапоть,
передразнивая Зиновий Ивановича, отвечает хриплым деланным басом: — Сепию всю на Лешего истратили. Стало шумно по вечерам и в моём кабинете.
Недавно из Харькова приехали две студентки и привезли такую бумажку: «Харьковский педагогический институт
командирует тт. К. Варскую и Р. Ландсберг для практического ознакомления с
постановкой педагогической работы в колонии имени М. Горького». Я с большим любопытством встретил этих
представителей молодого педагогического поколения. И К. Варская и Р.
Ландсберг были завидно молоды, каждой не больше двадцати лет. К. Варская —
очень хорошенькая полная блондинка, маленькая и подвижная; у неё нежный и
тонкий румянец, какой можно сделать только акварелью. Всё время, сдвигая еле
намеченные тонкие брови и волевым усилием прогоняя с лица то и дело
возникающую улыбку, она учинила мне настоящий допрос: — У вас есть педологический кабинет? — Педологического кабинета нет. — А как вы изучаете личность? — Личность ребёнка? — спросил я
по возможности серьёзно. — Ну да. Личность вашего
воспитанника. — А для чего её изучать? — Как «для чего»? А как же вы
работаете? Как вы работаете над тем, чего вы не знаете? К. Варская пищала энергично и с искренней
экспрессией и всё время оборачивалась к подруге. Р. Ландсберг, смуглая, с
чёрными восхитительными косами, опускала глаза, снисходительно терпеливо
сдерживая естественное негодование. — Какие доминанты у ваших
воспитанников преобладают? — строго в упор спросила К. Варская. — Если в колонии не изучают
личность, то о доминантах спрашивать лишнее, — тихо произнесла Р.
Ландсберг. — Нет, почему же? — сказал я
серьёзно. — О доминантах я могу кое‑что сообщить. Преобладают те
самые доминанты, что и у вас… — А вы откуда нас знаете? —
недружелюбно спросила К. Варская. — Да вот вы сидите передо мною и
разговаривайте. — Ну так что же? — Да ведь я вас насквозь вижу. Вы
сидите здесь, как будто стеклянные, и я вижу всё, что происходит внутри вас. К. Варская покраснела, но в этот момент в
кабинет ввалились Карабанов, Вершнев, Задоров, и ещё какие‑то
колонисты. — Сюда можно, чи тут секреты? — А как же! — сказал я. —
Вот познакомьтесь — наши гости, харьковские студенты. — Гости? От здорово! А как же вас
зовут? — Ксения Романовна Варская. — Рахиль Семёновна Ландсберг. Семён Карабанов приложил руку к щеке и
озабоченно удивился: — Ой, лышенько, на что же так
длинно? Вы, значит, просто Оксана? — Ну всё равно, — согласилась К.
Варская. — А вы — Рахиль, та й годи? — Пусть, — прошептала Р.
Ландсберг. — Вот. Теперь можно вам и вечерять
дать. Вы студенты? — Да. — Ну так и сказали б, вы ж голодни,
як той… як його? Як бы цэ були Вершнев с Задоровым, сказали бы: як собака. А
то… ну, скажем, как кошенята. — А мы и в самом деле
голодны, — засмеялась Оксана. — У вас и умыться можно? — Идём. Мы вас сдадим девчатам: там
что хотите, то и делайте. Так произошло наше первое знакомство.
Каждый вечер они приходили ко мне, но на самую короткую минутку. Во всяком
случае, разговор об изучении личности не возобновлялся — Оксане и Рахили было
некогда. Ребята втянули их в безбрежное море колонийских дел, развлечений и
конфликтов, познакомили с целой кучей настоящих проклятых вопросов. То и дело
возникавшие в коллективе водовороты и маленькие водопадики обойти живому
человеку было трудно — не успеешь оглянуться, уже завертело тебя и потащило
куда‑то. Иногда, бывало, притащит прямо в мой кабинет и выбросит на
берег. В один из вечеров притащило интересную
группу: Оксана, Рахиль, Силантий и Братченко. Оксана держала Силантия за рукав и
хохотала: — Идите, идите, чего упираетесь? Силантий действительно упирался. — Он ведёт разлагающую линию у вас в
колонии, а вы и не видите. — В чём дело, Силантий? Силантий недовольно освободил рукав и
погладил лысину: — Да видишь, какое дело: сани, здесь
это, оставили на дворе. Семён и вот они, здесь это, придумали: с горки,
видишь, кататься. Антон, вот он самый здесь, вот пусть он сам скажет. Антон сказал: — Причепились и причепились:
кататься! Ну, Семёну я сразу дал чересседельником, он и ушёл, а эти никаких,
тащат сани. Ну что с ними делать? Чересседельником — плакать будут. А
Силантий им сказал… — Вот, вот! — возмущалась
Оксана. — Пускай Силантий повторит, что он сказал. — Да чего ж такого! Правду, здесь
это, сказал, и никаких данных. Говорю, замуж тебе хочется, а ты будешь, здесь
это, сани ломать. Видишь, какая история… — Не всё, не всё… — А что ж ещё? Всё, как говорится. — Он говорит Антону: ты её запряги в
сани да прокатись на Гончаровку, сразу тише станет. говорил? — Здесь это, и теперь скажу:
здоровые бабы, а делать им нечего, у нас лошадей не хватает, видишь, какая
история. — Ах! — крикнула Оксана. —
Уходите, уходите отсюда! Марш! Силантий засмеялся и выбрался с Антоном
из кабинета. Оксана повалилась на диван, где уже давно дремала Рахиль. — Силантий — интересная личность,
сказал я. — Вот бы вы занялись её изучением. Оксана ринулась из кабинета, но в дверях
остановилась и сказала, передразнивая кого‑то: — Насквозь вижу: стеклянный! И убежала, сразу за дверями попав в какую‑то
гущу колонистов; услышал я только, как зазвенел её голос и унёсся в привычном
для меня колонийском вихрике. — Рахиль, идите спать. — Что? Разве я хочу спать? А вы? — Я ухожу. — Ага, ну… конечно… Она, по‑детски кулачком протирая
левый глаз, пожала мне руку и выбралась из кабинета, цепляясь плечом за край
двери. |
|
||||
|
|
4. Театр
То, что рассказано в предыдущей главе,
составляло только очень незначительную часть зимнего вечернего времени.
Теперь даже немного стыдно в этом признаться, но почти всё свободное время мы
приносили в жертву театру. Во второй колонии мы завоевали настоящий
театр. Трудно даже описать тот восторг, который охватил нас, когда мы
получили в полное своё распоряжение мельничный сарай. В нашем театре можно было поместить до
шестисот человек — зрителей нескольких сел. («Педагогическая поэма» Правда, были в театре и некоторые
неудобства. Калина Иванович считал даже эти неудобства настолько вредными,
что предлагал обратить театр в подкатный сарай: — Если ты поставишь воз, то ему от
холода ничего не будет, для него не нужно печку ставить. А для публики печи
надо. — Ну и поставим печи. — Поможет, як бидному рукопожатия.
Ты ж видав, что там потолка нету, а крыша железная прямо без всякой
подкладки. Печки топить — значит нагревать царство небесное и херувимов и
серахвимов, а вовсе не публику. И какие ты печки поставишь? Тут же нужно в
крайнем разе чугунки ставить, так кто ж тебе разрешить чугунки, это ж готовый
пожар: начинай представления и тут же начинай поливать водой. Но мы не согласились с Калиной
Ивановичем, тем более что и Силантий говорил: — Такая, видишь, история: бесплатно,
здесь это, представление, да ещё и пожар тут же без хлопот — никто, здесь
это, обижаться не будет. Печи мы поставили чугунные и железные и
топили их только во время представления. Нагреть театральный воздух они
никогда не были в состоянии, всё тепло от них немедленно улетало вверх и
вылезало наружу через железную крышу. И поэтому, хотя самые печи накалялись
всегда докрасна, публика предпочитала сидеть в кожухах и пальто, беспокоясь
только о том, чтобы случайно не загорелся бок, обращённый к печке. И пожар в нашем театре был только один
раз, да и то не от печки, а от лампы, упавшей на сцене. Была при этом паника,
но особого рода: публика осталась на местах, но колонисты все полезли на
сцену в неподдельном восторге и Карабанов на них кричал: — Ну что вы за идиоты, чи вы огня не
бачили? Сцену мы построили настоящую: просторную,
высокую, со сложной системой кулис, с суфлёрской будкой. За сценой осталось
большое свободное пространство, но мы не могли им воспользоваться. Чтобы
организовать для играющих сносную температуру, мы отгородили от этого
пространства небольшую комнатку, поставили в ней буржуйку и там гримировались
и одевались, кое‑как соблюдая очередь и разделение полов. На остальном
закулисном пространстве и на самой сцене царил такой же мороз, как и на
открытом воздухе. В зрительном зале стояло несколько
десятков родов дощатых скамей, необозримое пространство театральных мест,
невиданное культурное поле, на котором только сеять да жать. Театральная наша деятельность во второй
колонии развернулась очень быстро и на протяжении трёх зим, никогда ни на
минуту не понижая темпов и размаха, кипела в таких грандиозных размерах, что
я сам сейчас с трудоми верю тому, что пишу. За зимний сезон мы ставили около сорока
пьес, и в то же время мы никогда не гонялись за каким‑либо клубным
облегчением и ставили только самые серьёзные большие пьесы в четыре‑пять
актов, повторяли обычно репертуар столичных театров. Это было ни с чем не
сравнимое нахальство, но, честное слово, это не было халтурой. Уже с третьего спектакля наша театральная
слава разнеслась далеко за пределы Гончаровки. К нам приходили селяне из
Пироговки, из Гавриловки, Бабичевки, Гонцов, Вацив, Сторожевого, с Воловьих,
Чумацких, Озёрских хуторов, приходили рабочие из пригородных поселков,
железнодорожники с вокзала и паровозного завода, а скоро начали приезжать и
городские люди: учителя, вообще наробразовцы, военные, совработники,
кооператоры и снабженцы, просто молодые люди и девушки, знакомые колонистов и
знакомые знакомых. В конце первой зимы, по субботам, с обеда вокруг
театрального сарая располагался табор дальних приезжих. Усатые люди в серяках
и шубах распрягали лошадей, накрывали их ряднами и попонами, гремели вёдрами
у колодца с журавлём, а в это время их спутницы с головами, закутанными до
глаз, потанцевавши возле саней, чтобы нагреть нахолодевшие за дорогу ноги,
бежали в спальни к нашим девчатам, покачиваясь на высоких кованых каблучках,
чтобы погреться и продолжить завязавшееся недавно знакомство. Многие из них
вытаскивали из‑под соломы кошёлки и узелки. Направляясь в далёкую
театральную экскурсию, они брали с собой пищу: пироги, паляныци, перерезанные
накрест квадраты сала, спиральные завитки колбасы и кендюхи (сорт колбасы).
Значительная часть их запасов предназначалась для угощения колонистов, и
бывали иногда такие пиршественные дни, пока бюро комсомольское категорически
не запретило принимать от приезжих зрителей какие бы то ни было подарки. В субботу театральные печи растапливались
с двух часов, чтобы дать возможность приезжим погреться. Но чем ближе
завязывались знакомства, тем больше проникали гости в помещения колонии, и
даже в столовой можно было видеть группу гостей, особенно приятных и, так
сказать, общих, которых дежурные находили возможным пригласить к столу. Для колонийской кассы спектакли
доставались довольно тяжело. Костюмы, парики, всякие приспособления стоили
нам рублей сорок‑пятьдесят. Значит, в месяц это составляло около
двухсот рублей. Это был очень большой расход, но мы ни разу не потеряли
гордости и не назначили ни одного гроша в виде платы за зрелище. Мы
рассчитывали больше всего на молодежь, а селянская молодежь, особенно
девчата, никогда не имела карманных денег. Сначала вход в театр был свободным, но
скоро наступило время, когда театральный зал потерял способность вместить
всех желающих, и тогда были введены входные билеты, распределявшиеся заранее
между комсомольскими ячейками, сельсоветами и специальными нашими полпредами
на местах. Неожиданно для себя мы встретились со
страшной жадностью селянства к театру. Из‑за билетов происходили
постоянные ссоры и недоразумения между отдельными сёлами. К нам приезжали
возбуждённые секретари и разговаривали довольно напористо: — А чего это нам передали на завтра
только тридцать билетов? Заведующий театральными билетами Жорка
Волков язвительно мотает головой перед лицом секретаря: — А того, что и это для вас много. — Много? Вы здесь сидите, бюрократы,
а знаете, что много? — Мы здесь сидим и видим, как
поповны ходят по нашим билетам. — Поповны? Какие поповны? — Ваши поповны, рыжие такие,
мордатые. Узнавши свою поповну, секретарь понижает
тон, но не сдаётся: — Ну, хорошо, две поповны… Почему же
уменьшили на двадцать билетов? Было пятьдесят, а теперь тридцать. — Потеряли доверие, — зло
отвечает Жорка. — Две поповны, а сколько попадей, лавочниц, куркулек —
мы не считали. Вы там загниваете, а мы должны считать? — А какой же сукин сын передал, вот
интересно? — Вот и сукины сыны… тоже не
считаем. Вам и тридцать много. Секретарь, как ошпаренный, спешит домой
расследовать обнаруженное загнивание, но на его место прилетает новый
протестант: — Товарищи, что вы делаете? У нас
пятьдесят комсомольцев, а вы прислали пятнадцать штук. — По данным шестого "П"
сводного отряда, в прошлый раз от вас приехало только пятнадцать трезвых
комсомольцев, да и то из них четыре старые бабы, а остальные были пьяные. — Ничего подобного, это тут наврали,
что пьяные. Наши работают на спиртовом заводе, так от них действительно
пахло… — Проверяли: изо рта пахнет, нечего
на завод сворачивать… — Да я вам привезу, сами посмотрите,
от них всегда пахнет, а вы придираетесь и выдумываете. Что это за загибы! — Брось! Наши разберут всегда, где
завод, а где пьяный. — Ну, прибавьте хоть пять билетов,
как вам не стыдно!.. Вы тут разным городским барышням да знакомым раздаёте, а
комсомольцы у вас на последнем месте… Мы вдруг увидели, что театр — это не наше
развлечение или забава, но наша обязанность, неизбежный общественный налог,
отказаться от уплаты которого было невозможно. В комсомольском бюро задумались крепко.
Драматический кружок на своих плечах не мог вынести такую нагрузку.
Невозможно было представить, чтобы даже одна суббота прошла без спектакля,
причём каждую неделю — премьера. Повторить постановку — это значило бы
опустить флаг, предложить нашим ближайшим соседям, постоянным посетителям,
испорченный вечер. В драмкружке начались всякие истории. Даже Карабанов взмолился: — Да что я? Нанялся, что ли? На той
неделе жреца играл, на этой — генерала, а теперь говорят — играй партизана.
Что же я — двужильный или как? Каждый вечер репетиция до двух часов, а в
субботу и столы тягай, и декорации прибивай… Коваль опирается руками на стол и кричит: — Может, тебе диван поставить под
грушей, та ты полежишь трохи (немного)? Нужно! — Нужно, так и организуй, чтобы все
работали. — И организуем. — И организуй. — Давай совет командиров! На совете командиров бюро предложило:
никаких драмкружков, всем работать — и всё. В совете всегда любили дело оформить
приказом. Оформили так: параграф 5. На основании постановления совета
командиров считать работу по постановке спектаклей такой работой, которая
обязательна для каждого колониста, а потому для постановки спектакля
«Приключения племени ничевоков» назначаются такие сводные отряды… Дальше следовало перечисление сводных
отрядов, как будто дело касалось не высокого искусства, а полки бураков или
окучивания картофеля. Профанация искусства начиналась с того, что вместо
драмкружка появился шестой "А" сводный отряд под командой Вершнева
в составе двадцати восьми человек… на данный спектакль. А сводный отряд — это значит: точный
список и никаких опозданий, вечерний рапорт с указанием опоздавших и прочее,
приказ командира, в ответ обычное «есть» с салютом рукой, а в случае чего —
отдуваться в совете командиров или на общем собрании, как за нарушение колонийской
дисциплины, в лучшем случае разговоры со мной и несколько нарядов вне очереди
или домашний арест в выходной день. Это была действительно реформа.
Драмкружок ведь организация добровольная, здесь всегда есть склонность к
некоторому излишнему демократизму, к текучести состава, драмкружок всегда
страдает борьбой вкусов и претензий. Это заметно в особенности во время
выбора пьесы и распределения ролей. И в нашем драмкружке иногда начинало
выпирать личное начало. Постановление бюро и совета командиров
было принято колонийском обществом, как дело, само собой понятное и не
вызывающее сомнений. Театр в колонии — это такое же дело, как и сельское
хозяйство, как и восстановление имения, как порядок и чистота в помещениях.
Стало безразличным с точки зрения интересов колонии, какое именно участие
принимает тот или другой колонист в постановке, — он должен делать то,
что от него требуется. Обыкновенно на воскресном совете
командиров я докладывал, какая идёт пьеса в следущую субботу и какие
колонисты желательны в роли артистов. Все эти колонисты сразу зачислялись в
шестой "А" сводный, из них назначался командир. Все остальные
колонисты разбивались на театральные сводные отряды, носившие всегда номер
шестой и действовавшие до конца одной постановки. Были такие сводные: Шестой "А" — артисты. Шестой "П" — публика. Шестой "О" — одежда. Шестой горячий — отопление. Шестой "Д" — декорация. Шестой "Р" — реквизит. Шестой "С" — освещение и
эффекты. Шестой "У" — уборка. Шестой "Ш" — шумы («шухеры», по‑нашему). Шестой "З" — занавес. Если принять во внимание, что до поры до
времени колонистов было всего восемьдесят человек, то для каждого станет
ясным, что ни одного свободного колониста остаться не могло, а если пьеса
выбиралась с большим числом действующих лиц, то наших сил просто не хватало.
Составляя сводные отряды, совет командиров, разумеется, старался исходить из
индивидуальных желаний и наклонностей, но это не всегда удавалось; часто
бывало и так, что колонист заявлял: — Почему меня назначили в шестой
"А"? Я ни разу не играл. Ему отвечали: — Что это за граковские разговоры?
Всякому человеку приходится когда‑нибудь играть в первый раз. В течение недели эти сводные, и в
особенности их командиры, в свободные часы метались по колонии и даже по
городу, «как солёные зайцы». У нас не было моды принимать во внимание разные
извинительные причины, и поэтому комсводам часто приходилось очень туго.
Правда, в городе, мы имели знакомства, и нашему делу многие сочувствовали. По
этому, например, мы всегда доставали хорошие костюмы для какой угодно пьесы,
но если и не доставали, то шестые "О" сводные умели их делать для
любой эпохи и в любом количестве из разных материалов и вещей, находящихся в
колонии. При этом считалось, что не только вещи колонии, но и вещи
сотрудников находятся в полном распоряжении наших театральных сводных.
Например, шестой "Р" сводный всегда был убеждён, что реквизит
потому так и называется, что он реквизируется из квартир сотрудников. По мере
развития нашего дела образовались в колонии и некоторые постоянные склады. Пьесы
с выстрелами и вообще военные мы ставили часто, у нас образовался целый
арсенал, а кроме того, набор военных костюмов, погон и орденов. Постепенно из
колонийского коллектива выделялись и специалисты, не только актёры, но и
другие: были у нас замечательные пулемётчики, которые при помощи изобретённых
ими приспособлений выделывали самую настоящую пулемётную стрельбу, были
артиллеристы, Ильи‑пророки, у которых хорошо выходили гром и молния. На разучивание пьесы полагалась одна
неделя. Сначала мы пытались делать, как у людей: переписывали роли и
старались их выучить, но потом эту затею бросили: ни переписывать, ни учить
было некогда, ведь у нас была ещё обычная колонийская работа и школа — в
первую очередь всё-таки нужно было учить уроки. Махнув рукой на всякие
театральные условности, мы стали играть под суфлёра, и хорошо сделали. У
колонистов выработалось исключительное умение схватывать слова суфлёра; мы
даже позволяли себе роскошь бороться с отсебятинами и вольностями на сцене.
Но для того чтобы спектакль проходил гладко, мне пришлось к своим
обязанностям режиссера прибавить ещё суфлёрские функции, ибо от суфлёра
требовалось не только подавать текст, но и вообще дирижировать сценой:
поправлять мизансцены, указывать ошибки, командовать стрельбой, поцелуями и
смертями. Недостатка в актёрах у нас не было. Среди
колонистов нашлось много способных людей. Главными деятелями сцены были: Пётр
Иванович Горович, Карабанов, Ветковский, Буцай, Вершнев, Задоров, Маруся
Левченко, Кудлатый, Коваль, Глейзер, Лапоть. Мы старались выбирать пьесы с большим
числом действующих лиц, так как многие колонисты хотели играть и нам было
выгодно увеличить число умеющих держаться на сцене. Я придавал большое
значение театру, так как благодаря ему сильно улучшался язык колонистов и вообще
сильно расширялся горизонт. Но иногда нам не хватало актёров, и в таком
случае мы приглашали и сотрудников. Один раз даже Силантия выпустили на
сцену. На репетициях он показал себя малоспособным актёром, но так как ему
нужно было сказать только одну фразу «Поезд опаздывает на три часа», то
особенного риска не было. Действительность превзошла наши ожидания. Силантий вышел вовремя и в порядке, но
сказал так: — Поезд, здесь это, опаздывает на
три часа, видишь, какая история. Реплика произвела сильнейшее впечатление на
публику, но это ещё не беда; ещё более сильное впечатление она произвела на
толпу беженцев, ожидавших поезда на вокзале. Беженцы закружили по сцене в
полном изнеможении, никакого внимания не обращая на мои призывы из суфлёрской
будки, тем более что и я оказался человеком впечатлительным. Силантий с
минуту наблюдал всё это безобразие, потом рассердился: — Вам говорят, олухи, как говорится!
На три часа, здесь это, поезд опоздал… чего обрадовались? Беженцы с восторгом прислушивались к речи
Силантия и в панике бросились со сцены. Я пришёл в себя и зашептал: — Убирайся к чёртовой матери!
Силантий, уходи к дьяволу! — Да видишь, какая история… Я поставил книжку на ребро — знак закрыть
занавес. Трудно было доставать артисток. Из
девочек кое‑как могли играть Левченко и Настя Ночевная, из персонала —
только Лидочка. Все эти женщины не были рождены для сцены, очень смущались,
наотрез отказывались обниматься и целоваться, даже если это до зарезу
полагалось по пьесе. Обходиться же без любовных ролей мы никак не могли. В
поисках артисток мы перепробовали всех жён, сестер, тетей и других
родственниц наших сотрудников и мельничных, упрашивали знакомых в городе и
еле‑еле сводили концы с концами. Поэтому Оксана и Рахиль на другой же
день по приезде в колонию уже играли на репетиции, восхищая нас ярко
выраженной способностью целоваться без малейшего смущения. Однажды нам удалось сагитировать
случайную зрительницу, знакомую каких‑то мельничных, приехавшую из
города погостить. Она оказалась настоящей жемчужиной: красивая, голос
бархатный, глаза, походка — все данные для того, чтобы играть развращённую
барышню в какой‑то революционной пьесе. На репетициях мы таяли от
наслаждения и ожидания поразительной премьеры. Спектакль начался с большим
подъёмом, но в первом же антракте за кулисы пришёл муж жемчужины,
железнодорожный телеграфист, и сказал жене в присутствии всего ансамбля: — Я не могу позволить тебе играть в
этой пьесе. Идём домой. Жемчужина перепугалась и прошептала: — Как же я поеду? А пьеса? — Мне никакого дела нет до пьесы.
Идём! Я не могу позволить, чтобы тебя всякий обнимал и таскал по сцене. — Но… как же это можно? — Тебя раз десять поцеловали только
за одно действие. Что это такое? Мы сначала даже опешили. Потом пробовали
убедить ревнивца. — Товарищ, так на сцене поцелуй
ничего не значит, — говорил Карабанов. — Я вижу, значит или не
значит, — что я, слепой, что ли? Я в первом ряду сидел… Я сказал Лаптю: — Ты человек разбитной, уговори его
как‑нибудь. Лапоть приступил честно к делу. Он взял
ревнивца за пуговицу, посадил на скамью и зажурчал ласково: — Какой вы чудак, такое полезное,
культурное дело! Если ваша жена для такого дела с кем‑нибудь и
поцелуется, так от этого только польза. — Для кого польза, а для меня отнюдь
не польза, — настаивал телеграфист. — Так для всех польза. — По‑вашему, выходит: пускай
все целуют мою жену? — Чудак, так это же лучше, чем если
один какой‑нибудь пижон найдётся? — Какой пижон? — Да бывает… А потом смотрите: здесь
же перед всеми, и вы видите. Гораздо хуже ведь, если где‑нибудь за кустиком,
а вы и знать не будете. — Ничего подобного! — Как «ничего подобного»? Ваша жена
так умеет хорошо целоваться, — что же, вы думаете, с таким талантом она
будет пропадать? Пускай лучше на сцене… Муж с трудом согласился с доводами Лаптя
и с зубовным скрежетом разрешил жене окончить спектакль при одном условии,
чтобы поцелуи были «ненастоящие». Он ушёл обиженный. Жемчужина была
расстроена. Мы боялись, что спектакль будет испорчен. В первом ряду сидел муж
и всех гипнотизировал, как удав. Второй акт прошёл, как панихида, но, к общей
радости, на третьем акте мужа в первом ряду не оказалось. Я никак не мог
догадаться, куда он делся. Только после спектакля дело выяснилось. Карабанов
скромно сказал: — Я ему посоветовал уйти. Он сначала
не хотел, но потом послушался. — Как же ты сделал? Карабанов зажег глаза, устроил чертячью
морду и зашипел: — Слухайте! Краще давайте по чести.
Сегодня всё буде добре, но если вы зараз не пидэтэ, честное колонийське
слово, мы вам роги наставимо. У нас таки хлопцы, що не встроить ваша жинка. — Ну и что? — радостно
заинтересовались актёры. — Ничего. Он только сказал:
«Смотрите же, вы дали слово», — и перешёл в последний ряд. Репетиции у нас происходили каждый день и
по всей пьесе целиком. Спали мы в общем недостаточно. Нужно принять во
внимание, что многие наши актёры ещё и ходить по сцене не умели, поэтому
нужно было заучивать на память целые мизансцены, начиная от отдельного
движения рукой или ногой, от отдельного положения головы, взгляда, поворота.
На это я и обращал внимание, надеясь, что текст всё равно обеспечит суфлёр. К
субботнему вечеру пьеса считалась готовой. Нужно всё-таки сказать, что мы играли не
очень плохо, — многие городские люди были довольны нашими спектаклями.
Мы старались играть культурно, не пересаливали, не подделывались под вкусы
публики, не гонялись за дешёвым успехом. Пьесы ставили украинские и русские. В субботу театр оживал с двух часов дня.
Если было много действующих лиц, Буцай начинал гримировать сразу после обеда;
помогал ему и Пётр Иванович. От двух до восьми часов они могли приготовить к
игре до шестидесяти человек, а после этого уже гримировались сами. По части оформления спектакля колонисты
были не люди, а звери. Если полагалось иметь на сцене лампу с голубым
абажуром, они обыскивали не только квартиры сотрудников, но и квартиры
знакомых в городе, а лампу с голубым абажуром доставали непременно. Если на
сцене ужинали, так ужинали по‑настоящему, без какого бы то ни было
обмана. Этого требовала не только добросовестность шестого "Р"
сводного, но и традиция. Ужинать на сцене при помощи подставных блюд наши
артисты считали недостойным для колонии. Поэтому иногда нашей кухне
доставалось: приготовлялась закуска, жарилось жаркое, пеклись пироги или
пирожные. Вместо вина добывалось ситро. В суфлёрской будке я всегда трепетал во
время прохождения ужина: актёры в таком моменте слишком увлекались игрой и
переставали обращать внимание на суфлёра, затягивая сцену до того момента,
когда уже на столе ничего не оставалось. Обыкновенно мне приходилось ускорять
темпы замечаниями такого рода: — Да довольно вам… слышите? Кончайте
ужин, чёрт бы вас побрал! Артисты поглядывали на меня с удивлением,
показывали глазами на недоеденного гуся и оканчивали ужин только тогда, когда
я доходил до белого каления и шипел: — Карабанов, вон из‑за стола!
Семён, да говори же, подлец: «Я уезжаю». Карабанов наскоро глотает непережёванного
гуся и говорит: — Я уезжаю. А за кулисами в перерыве укоряет меня: — Антон Семёнович, ну как же вам не
стыдно! Колы приходиться того гуся исты, и то не дали… Обыкновенно же артисты старались на сцене
не задерживаться, ибо на сцене холодно, как на дворе. В пьесе «Бунт машин» Карабанову нужно
было целый час торчать на сцене голому, имея только узенькую повязку на
бедрах. Спектакль проходил в феврале, а, на наше несчастье, морозы стояли до
тридцати градусов. Екатерина Григорьевна требовала снятия спектакля, уверяя
нас, что Семён обязательно замёрзнет. Дело кончилось благополучно: Семён
отморозил только пальцы на ногах, но Екатерина Григорьевна после акта
растирала его какой‑то горячительной смесью. Холод всё же нам мешал художественно
расти. Шла у нас такая пьеса — «Товарищ Семивзводный». На сцене изображается
помещичий сад, и полагалась статуя. Шестой "Р" статуи нигде не
нашёл, хотя обыскал все городские кладбища. Решили обойтись без статуи. Но
когда открыли занавес, я с удивлением увидел и статую: вымазанный до отказа
мелом, завёрнутый в простыню, стоял на декоративной табуретке Шелапутин и
хитро на меня поглядывал. Я закрыл занавес и прогнал статую со сцены, к большому
огорчению шестого "Р". В особенности добросовестны и
изобретательны были шестые "Ш" сводные. Ставили мы «Азефа». Сазонов
бросает бомбу в Плеве. Бомба должна разорваться. Командир шестого
"Ш" Осадчий говорил: — Взрыв мы этот сделаем настоящий. Так как я играл Плеве, то был больше всех
заинтересован в этом вопросе. — Как это понимать — настоящий? — А такой, что и театр может в гору
пойти. — Это уже и лишнее, — сказал я
осторожно. — Нет, ничего, — успокоил меня
Осадчий, — всё хорошо кончится. Перед сценой взрыва Осадчий показал мне
приготовления: за кулисами поставлено несколько пустых бочек, возле каждой
бочки стоит колонист с двустволкой, заряженной приблизительно на мамонта. С
другой стороны сцены на полу разложены куски стекла, а над каждым куском колонист
с кирпичом. С третьей стороны против выходов на сцену сидит полдесятка ребят,
перед ними горят свечи, а в руках у них бутылки с какой‑то жидкостью. — Это что за похороны? — А это самое главное: у них
керосин. Когда нужно будет, они наберут в рот керосину и дунут керосином на
свечки. Очень хорошо получается. — Ну вас к… И пожар может быть. — Вы не бойтесь, смотрите только,
чтобы керосином глаза не выжгло, а пожар мы потушим. Он показал мне ещё один ряд колонистов, у
ног которых стояли вёдра, полные воды. Окружённый с трёх сторон такими
приготовлениями, я начал переживать действительно обречённость несчастного
министра и серьёзно подумывал о том, что поскольку я лично не должен отвечать
за все преступления Плеве, то в крайнем случае я имею право удрать через
зрительный зал. Я пытался ещё раз умерить добросовестность Осадчего. — Но разве керосин можно тушить
водой? Осадчий был неуязвим, он знал это дело со
всеми признаками высшей эрудиции: — Керосин, когда его дунуть на
свечку, обращается в газ, и его тушить не нужно. Может быть, придётся тушить
другие предметы… — Например, меня? — Вас мы в первую очередь потушим. Я покорился своей участи: если я не
сгорю, то во всяком случае меня обольют холодной водой, и это в
двадцатиградусный мороз! Но как же я мог обнаружить своё малодушие перед
лицом всего шестого "Ш" сводного, который столько энергии и
изобретательности истратил на оформление взрыва! Когда Сазонов бросил бомбу, я ещё раз
имел возможность войти в шкуру Плеве и не позавидовал ему: охотничьи ружья
выстрелили в бочки, и бочки ахнули, раздирая обручи и мои барабанные
перепонки, кирпичи обрушились на стекло, и полдесятка ртов со всей силой
молодых лёгких дунули на горящие свечки керосином, и вся сцена моментально
обратилась в удушливый огненный вихрь. Я потерял возможность плохо сыграть
собственную смерть и почти без памяти свалился на пол, под оглушительный гром
аплодисментов и крики восторга шестого "Ш" сводного. Сверху на меня
сыпался чёрный жирный керосиновый пепел. Закрылся занавес, меня под руки
поднимал Осадчий и заботливо спрашивал: — У вас нигде не горит? У меня горело только в голове, но я
промолчал об этом: кто его знает, что приготовлено у шестого "Ш"
сводного на этот случай? Таким же образом мы взрывали пароход во
время одного несчастливого рейса его к революционным берегам СССР. Техника
этого события была ещё сложнее. Надо было не только в каждое окно парохода
выдуть пучок огня, но и показать, что пароход действительно летит в воздух.
Для этого за пароходом сидело несколько колонистов, которые бросали вверх
доски, стулья, табуретки. Они наловчились заранее спасать свои головы от всех
этих вещей, но капитану Петру Ивановичу Горовичу сильно досталось: у него
загорелись бумажные позументы на рукавах, и он был сильно контужен падавшей
сверху мебелью. Впрочем, он не только не жаловался, но нам пришлось переждать
полчаса, пока он пересмеётся, чтобы узнать наверняка, в полном ли порядке все
его капитанские органы. Некоторые роли играть у нас было
действительно трудно. Колонисты не признавали, например, никаких выстрелов за
сценой. Если вас полагалось застрелить, то вы должны были приготовиться к
серьёзному испытанию. Для вашего убийства брался обыкновенный наган, из
патрона вынималась пуля, а всё свободное пространство забивалось паклей или
ватой. В нужный момент в вас палили целой кучей огня, а так как стреляющий
всегда увлекался ролью, то он целил обязательно в ваши глаза. Если же
полагалось в вас произвести несколько выстрелов, то по указанному адскому
рецепту приготовлялся целый барабан. Публике было всё-таки лучше: она сидела в
тёплых кожухах, кое-где топились печи, ей запрещалось только грызть семечки,
да ещё нельзя было приходить в театр пьяным. При этом, по старой традиции,
пьяным считался каждый гражданин, у которого при детальном исследовании обнаруживался
слабый запах алкоголя. Людей с таким или приблизительно таким запахом
колонисты умели сразу угадывать среди нескольких сот зрителей и ещё лучше
умели вытащить из ряда и с позором выставить за двери, безжалостно пропуская
мимо ушей очень похожие на правду уверения: — Да, честное слово, ещё утром
кружку пива выпил. Для меня как
режиссера были ещё и дополнительные страдания и на спектакле, и перед
спектаклем. Кудлатого, например, я никак не мог научить такой фразе: Брали дани и пошлины За все годы прошлые. Он почему‑то признавал
только такую вариацию: Брали бранны и пошлины За все годы прошлинные. Так и на
спектакле сказал. А во время
постановки «Ревизора» хорошо играли колонисты, но к концу спектакля обратили
меня в злую фурию, потому что даже мои крепкие нервы не могли выдержать таких
сильных впечатлений: Аммос Фёдорович: Верить ли
слухам, Антон Семёнович? К вам привалило необыкновенное счастье? Артемий Филлипович: Имею честь
поздравить Антона Семёновича с необыкновенным счастьем. Я душевно
обрадовался, когда услышал. Анна Андреевна, Мария Антоновна! Растаковский: Антона
Семёновича поздравляю. Да продлит бог жизнь и новой четы и даст вам потомство
многочисленное, внучат и правнучат. Анна Андреевна, Марья Антоновна! Коробкин: Имею честь
поздравить Антона Семёновича. Хуже всего было
то, что на сцене в костюме городничего я никакими способами не мог
расправиться со всеми этими извергами. Только после немой сцены, за кулисами,
я разразился гневом: — Чёрт бы вас побрал, что это такое?
Это издевательство, что ли, это нарочно? На меня смотрели удивлённые
физиономии, и почтмейстер — Задоров спрашивал: — В чём дело? А что случилось? Всё
хорошо прошло. — Почему вы все называли меня
Антоном Семёновичем? — А как же?.. Ах да… Ах ты, чёрт!
Антон Антонович городничий же. — Да на репетициях вы же правильно
называли! — Чёрт его знает… то на репетициях,
а тут как‑то волнуешься… |
|
||||
|
|
5. Кулацкое воспитание
Двадцать шестого марта отпраздновали день
рождения А. М. Горького. Бывали у нас и другие праздники, о них когда‑нибудь
расскажу подробнее. Старались мы, чтобы на праздниках у нас было и людно, и
на столах полно, и колонисты, по совести говоря, любили праздновать и в
особенности готовиться к праздникам. Но в горьковском дне для нас было особое
очарование. В этот день мы встречали весну. Это само собой. Бывало, расставят
хлопцы парадные столы, на дворе обязательно, чтобы всем вместе усесться на
пиршество, и вдруг с востока подует вражеским духом: налетят на нас острые,
злые крупинки, сморщатся лужицы во дворе, и сразу отсыреют барабаны в строю
для отдачи салюта нашему знамени и по случаю праздника. Всё равно поведёт
колонист прищуренным глазом на восток и скажет: — А здорово уже весной пахнет! Было ещё в горьковском празднике одно
обстоятельство, которое мы сами придумали, которым очень дорожили и которое
нам страшно нравилось. Давно уже так решили колонисты, что в этот день мы
празднуем «вовсю», но не приглашаем ни одного постороннего человека.
Догадается кто‑нибудь сам приехать — пусть будет дорогой гость, и
именно потому, что сам догадался, а вообще это наш семейный праздник, и
посторонним на нём делать нечего. И получалось действительно по‑особому
просто и уютно, по‑родственному ещё больше сближались горьковцы, хотя
формы праздника вовсе не были каким‑нибудь домашними. Начинали с
парада, торжественно выносили знамя, говорили речи, проходили торжественным
маршем мимо портрета Горького. А после этого садились за столы — и не будем
скромничать — за здоровье Горького… нет, ничего не пили, но обедали… ужас,
как обедали! Калина Иванович, выходя из‑за стола, говорил: — Я так думаю, что нельзя буржуев
осуждать, паразитов. После того обеда, понимаешь, никакая скотина не будет
работать, а не то что человек… На обед было: борщ, но не просто борщ, а
особенный: такой борщ варят хозяйки только тогда, когда хозяин именинник;
потом пироги с мясом, с капустой, с рисом, с творогом, с картошкой, с кашей,
и каждый пирог не влезает ни в один колонийский карман; после пирогов жареная
свинина, не привезённая с базара, а своего завода, выращенная десятым отрядом
ещё с осени, специально выращенная для горьковского дня. Колонисты умели
холить свиное стадо, но резать свиней никто не хотел, даже командир десятого,
Ступицын, отказывался: — Не могу резать, жалко, хорошая
свинья была Клеопатра. Клеопатру зарезал, конечно, Силантий
Отченаш, мотивируя свои действия так: — Дохлую свинью, здесь это, пускай
ворог режет, а мы будем резать, как говорится, хорошую. Вот какая история. После Клеопатры можно было бы и
отдохнуть, но на столе появлялись миски и полумиски со сметаной и рядом с
ними горки вареников с творогом. И ни один колонист не спешил к отдыху, а,
напротив, с полным вниманием обращались к вареникам и сметане. А после
вареников — кисель, и не какой‑нибудь по‑пански — на блюдечках, а
в глубоких тарелках, и мне не приходилось наблюдать, чтобы колонисты ели
кисель без хлеба или без пирога. И только после этого обед считался
оконченным и каждый получал на выход из‑за стола мешок с конфетами и
пряниками. И по этому случаю Калина Иванович говорил правильно: — Эх, если бы Горькие почаще
рождались, хорошо было бы! После обеда колонисты не уходили
отдыхать, а отправлялись по шестым сводным готовить постановку «На дне» —
последний спектакль в сезоне. Калина Иванович очень интересовался спектаклем: — Посмотрю, посмотрю, што оно за
вещь. Слышал много про это самое дно, а не видав. И читать как‑то так
не пришлось. Нужно сказать, что в этом случае сильно
преувеличивал Калина Иванович случайную свою неудачу: еле‑еле он умел
разбираться в тайнах чтения. Но сегодня Калина Иванович в хорошем настроении,
и не следует к нему придираться. Горьковский праздник был отмечен в этом году
особенным образом: по предложению комсомола было введено в этом году звание
колониста. Долго обсуждали эту реформу и колонисты и педагоги и сошлись на
том, что придумано хорошо. Звание колониста дали только тем, кто
действительно дорожит колонией и кто борется за её улучшение. А кто сзади
бредёт, пищит, ноет или потихоньку «латается», тот только воспитанник. правду
нужно сказать, таких нашлось немного — человек двадцать. Получили звание
колониста и старые сотрудники. При этом было постановлено: если в течение
одного года работы сотрудник не получает такого звания, значит, он должен
оставить колонию. Каждому колонисту дали никелированный
значок, сделанный для нас по особому заказу в Харькове. Значок изображал
спасательный круг, на нём буквы МГ, сверху красная звёздочка. Сегодня на параде получил значок и Калина
Иванович. Он был очень рад этому и не скрывал своей радости: — Сколько этому самому Николаю Александровичу
служив, только и счастья, что гусаром считався, а теперь босяки орден дали,
паразиты. И ничего не поробышь — даже, понимаешь ты, приятно! Что значит,
когда у них в руках государственная держава! Сам без штанов ходить, а ордена
даёть. Радость Калины Ивановича была омрачена
неожиданным приездом Марии Кондратьевны Боковой. Месяц тому назад она была
назначена в наш губсоцвос и хотя не считалась нашим прямым начальством, но в
некоторой мере наблюдала за нами. Слезая с извозчичьего экипажа, она была
очень удивлена, увидев наши парадные столы, за которыми доканчивали пир те
колонисты, которые подавали за обедом. Калина Иванович поспешил
воспользоваться её удивлением и незаметно скрылся, оставив меня
расплачиваться и за его преступления. — Что это у вас за торжество? —
спросила Мария Кондратьевна. — День рождения Горького. — А почему меня не позвали? — В этот день мы посторонних не
приглашаем. У нас такой обычай. — Всё равно, давайте обедать. — Дадим. Где это Калина Иванович? — Ах, этот ужасный дед? Пасечник?
Это он удрал от меня сейчас? И вы тоже участник этой гадости? Мне теперь
проходу не дают в губнаробразе. И комендант говорит, что с меня будут два
года высчитывать. Где этот самый Калина Иванович, давайте его сюда! Мария Кондратьевна делала сердитое лицо,
но я видел, что для Калины Ивановича особенной опасности не было: Мария
Кондратьевна была в хорошем настроении. Я послал за ним колониста. Калина
Иванович издали поклонился. — Ближе и не подходите! —
смеялась Мария Кондратьевна. — Как вам не стыдно! Ужас какой! Калина Иванович присел на скамейку и
сказал: — Доброе дело сделали. Я был свидетелем преступления Калины
Ивановича неделю назад. Приехали мы с ним в наробраз и зашли в кабинет Марии
Кондратьевны по какому‑то пустяковому делу. У неё огромный кабинет,
обставленный многочисленной мебелью из какого‑то особенного дерева.
Посреди кабинета стол Марии Кондратьевны. Она имела особую удачу: вокруг её
стола всегда стоит толпа разных наробразовских типов, с одним она говорит,
другой принимает участие в разговоре, третий слушает, тот разговаривает по
телефону, тот пишет на конце стола, тот читает, чьи‑то руки подсовывают
ей бумажки на подпись, а кроме всего этого актива целая куча народу просто
стоит и разговаривает. Галдёж, накурено, насорено. Присели мы с Калиной
Ивановичем на диванчик и о чём-то своём беседуем. Врывается в кабинет сильно
расстроенная худая женщина и прямо к нам с речью. Насилу мы разобрали, что
дело идёт о детском саде, в котором есть дети и хороший метод, но нет никакой
мебели. Женщина, видимо, была здесь не первый раз, потому что выражалась она
очень энергично и не проявляла никакой почтительности к учреждению: — Чёрт бы
их побрал, наоткрывали детских садов целый город, а мебели не дают. На чём
детям сидеть, спрашиваю? Сказали: сегодня прийти, дадут мебель. Я детей
привела за три версты, подводы привела, никого нет, и жаловаться некому. Что
это за порядки? Целый месяц хожу. А у самой, посмотрите, сколько мебели — и
для кого, спрашивается? Несмотря на громкий голос женщины, никто
из окружающих стол Марии Кондратьевны не обратил на неё внимания, да,
пожалуй, за общим шумом её никто и не слышал. Калина Иванович присмотрелся к
окружающей обстановке, хлопнул рукой по диванчику и спросил: — Я вас так
понимаю, что эта мебель для вас подходить? — Эта мебель? —
обрадовалась женщина. — Да это прелесть что за мебель!.. — Так в
чём же дело? — сказал Калина Иванович. — Раз она к вам подходить, а
здесь стоит без последствия, — забирайте себе эту мебель для ваших
детишек. Глаза взволнованной женщины, до того момента внимательно наблюдавшие
мимику Калины Ивановича, вдруг перевернулись на месте и снова уставились на
Калину Ивановича: — Это как же? — Обыкновенно как: выносите и ставьте на
ваши подводы. — Господи, а как же? — Если вы насчёт документов, то
не обращайте внимания: найдутся паразиты, столько бумажек напишуть, что и не
рады будете. Забирайте. Ну а если спросят, как же я скажу, кто
разрешил? — Так и скажите, что я разрешил. — Значит, вы
разрешили? — Да, я разрешил. — Господи! — радостно простонала
женщина и с лёгкостью моли выпорхнула из комнаты. Через минуту она снова
впорхнула, уже в сопровождении двух десятков детей. Они весело набросились на
стулья, креслица, полукреслица, диванчики и с некоторым трудом начали
вытаскивать их в двери. Треск пошёл по всему кабинету, и на этот
треск обратила внимание Мария Кондратьевна. Она поднялась за столом и
спросила: — Что это вы делаете? — А вот выносим, — сказал смуглый
мальчуган, тащивший кресло с товарищем. — Так нельзя ли потише, — сказала
Мария Кондратьевна и села продолжать своё наробразовское дело. Калина
Иванович разочарованно посмотрел на меня. — Ты чув? Как же это такое
можно? Так они ж, паразиты, детишки эти, всё вытащут? Я уже давно с восторгом
смотрел на похищение кабинета Марии Кондратьевны и возмущаться был не в
состоянии. Два мальчика дёрнули за наш диванчик, мы предоставили им полную
возможность вытащить и его. Хлопотливая женщина, сделав несколько последних
петель вокруг своих воспитанников, подбежала к Калине Ивановичу, схватила его
руку и с чувством затрясла её, наслаждаясь смущённо улыбающимся лицом
великодушного человека. — А как же вас зовут? Я же должна знать. Вы нас
прямо спасли! — Да для чего вам знать, как меня зовут. Теперь, знаете, о
здравии уже не возглашают, за упокой как будто ещё рано… — Нет, скажите,
скажите… — Я, знаете, не люблю, когда меня благодарят… — Калина Иванович
Сердюк, вот как зовут этого доброго человека, — сказал я с
чувством. — Спасибо вам, товарищ Сердюк, спасибо! — Не стоить. А
только вывозите её скорей, а то кто‑нибудь придёть да ещё переменить.
Женщина улетела на крыльях восторга и благодарности. Калина Иванович поправил
пояс на своём плаще, откашлялся и закурил трубку. — А зачем ты сказал?
Оно и так было бы хорошо. Не люблю, знаешь, когда меня очень благодарят… А
интересно всё-таки: довезёт чи не довезёт? Скоро окружение Марии Кондратьевны
рассосалось по другим помещениям наробраза, и мы получили аудиенцию. Мария
Кондратьевна быстро с нами покончила, рассеянно посмотрела вокруг и
заинтересовалась: — Куда это мебель вынесли, интересно? Оставили мне пустой
кабинет. — Это в один детский сад, — произнёс серьёзно Калина
Иванович, отвалившийся на спинку стула. Только через два дня каким‑то
чудом выяснилось, что мебель была вывезена с разрешения Калины Ивановича. Нас
приглашали в наробраз, но мы не поехали. Калина Иванович сказал: — Буду я там
из‑за каких‑то стульев ездить! Мало у меня своих болячек? Вот по всем этим причинам Калина Иванович
чувствовал себя несколько смущённым. — Доброе дело сделали. Что ж тут
такого? — Как же вам не стыдно? Какое вы имели право разрешать? Калина
Иванович любезно повернулся на стуле: — Я имею право всё разрешать, и всякий
человек. Вот я вам сейчас разрешаю купить себе имение, разрешаю — и всё.
Покупайте. А если хотите, можете и даром взять, тоже разрешаю. — Но ведь
и я могу разрешить, — Мария Кондратьевна оглянулась, — скажем,
вывезти все эти табуретки и столы? — Можете. — Ну и что? —
смущённо продолжала настаивать Мария Кондратьевна. — Ну и ничего. —
Ну так как же? Возьмут и вывезут? — Кто вывезеть? — Кто‑нибудь. —
Хэ‑хэ‑хэ, нехай вывезеть — интересно будет посмотреть, какой он
сам отседова поедеть? — Он не поедет, а его повезут, — сказал,
улыбаясь, Задоров, давно уже стоявший за спиной Марии Кондратьевны. Мария
Кондратьевна покраснела, посмотрела снизу на Задорова и неловко спросила: —
Вы думаете? Задоров открыл все зубы: — Да, мне так кажется. —
Разбойничья какая‑то философия, — сказала Мария
Кондратьевна. — Так вы воспитываете ваших
воспитанников? — строго обратилась она ко мне. — Приблизительно
так… — Какое же это воспитание? Мебель растащили из кабинета, что это такое,
а? Кого вы воспитываете? Значит, если плохо лежит, бери, да? Нас слушала
группа колонистов, и на их физиономиях был написан самый живой интерес к
завязавшейся беседе. Мария Кондратьевна горячилась, в её тоне я различал
хорошо скрываемые неприязненные нотки. Продолжать спор в таком направлении
мне не хотелось. Я сказал миролюбиво: — Давайте по этому вопросу когда‑нибудь
поговорим основательно, ведь вопрос всё-таки сложный. Но Мария Кондратьевна
не уступала: — Да какой тут сложный вопрос! Очень просто: у вас кулацкое
воспитание. Калина Иванович понял серьёзность её раздражения и подсел к ней
ближе. — Вы не сердитесь на меня, на старика, а только нельзя так
говорить: кулацкое. У нас воспитания совецькая. Я, конечно, пошутив, думав,
тут же и хозяйка сидит, посмеётся, да и всё, а может, и обратить внимание,
что вот у детишек стульев нету. А хозяйка плохая: из‑под носа у неё
вынесли мебель, а она теперь виноватых шукает: кулацькая воспитания… —
Значит, и ваши воспитанники будут так делать? — уже слабо защищалась
Мария Кондратьевна. — И пущай себе делають… — Для чего? — А вот,
чтобы плохих хозяев учить. Из‑за толпы колонистов выступил
Карабанов и протянул Марии Кондратьевне палочку, на которую был привязан
белоснежный носовой платок, — сегодня их выдали колонистам по случаю
праздника. — Ось, подымайте белый флаг, Мария
Кондратьевна и сдавайтесь скорийше. Мария Кондратьевна вдруг засмеялась, и
заблестели у неё глаза: — Сдаюсь, сдаюсь, нет у вас
кулацкого воспитания, никто меня не обмошенничал, сдаюсь, дамсоцвос сдаётся! Ночью, когда в чужом кожухе вылез я из
суфлёрской будки, в опустевшем зале сидела Мария Кондратьевна и внимательно
наблюдала за последними движениями колонистов. За сценой высокий дискант
Тоськи Соловьёва требовал: — Семён, Семён, а костюм ты сдал?
Сдавай костюм, а потом уходи. Ему отвечал голос Карабанова: — Тосечка, красавец, чи тебе
повылазило: я же играл Сатина. — Ах, Сатина! Ну тогда оставь себе
на память. На краю сцены стоит Волохов и кричит в
темноту: — Галатенко, так не годится, печку
надо потушить! — Та она и сама потухнет, —
отвечает сонным хрипом Галатенко. — А я тебе говорю: потуши. Слышал
приказ: не оставлять печек. — Приказ, приказ! — бурчит
Галатенко. — Потушу… На сцене группа колонистов разбирает
ночлежные нары, и кто‑то мурлычет: «Солнце всходит и заходит». — Доски эти в столярную
завтра, — напоминает Митька Жевелий и вдруг орёт: — Антон! А, Антон! Из‑за кулис отвечает Братченко: — Агов, а чего ты, как ишак? — Подводу дашь завтра? — Та дам. — И коня? — А сами не довезёте? — Не хватит силы. — А разве тебе мало овса дают? — Мало. — Приходи, я дам. Я подхожу к Марии Кондратьевне. — Вы где ночуете? — Я вот жду Лидочку. Она
разгримируется и проводит меня к себе… Скажите, Антон Семёнович, у вас такие
милые колонисты, но ведь это так тяжело: сейчас очень поздно, они ещё
работают, а устали как, воображаю! Неужели им нельзя дать чего‑нибудь
поесть? Хотя бы тем, которые работали. — Работали все, на всех нечего дать. — Ну а вы сами, вот ваши педагоги
сегодня и играли, и интересно всё — почему бы вам не собраться, посидеть,
поговорить, ну и… закусить. Почему? — Вставать в шесть часов, Мария
Кондратьевна. — Только потому? — Видите ли, в чём дело, —
сказал я этой милой, доброй женщине, наша жизнь гораздо более суровая, чем
кажется. Гораздо суровее. Мария Кондратьевна задумалась. Со сцены
спрыгнула Лидочка и сказала: — Сегодня хороший спектакль, правда? |
|
||||
|
|
6. Стрелы Амура
С горьковского дня наступила весна. С
некоторого времени мы стали ощущать пробуждение весны в кое‑какой
специальной области. Театральная деятельность сильно
приблизила колонистов к селянской молодежи, и в некоторых пунктах сближения
обнаружились чувства и планы, не предусмотренные теорией соцвоса. В
особенности пострадали колонисты, поставленные волею совета командиров в
самые опасные места, в шестой "П" сводный отряд, в названии
которого буква П многозначительно говорит о публике. Те колонисты, которые играли на сцене в
составе шестого "А" сводного, до конца были втянуты в омут
театральной отравы. Они переживали на сцене часто романтические подъёмы,
переживали и сценическую любовь, но именно поэтому спасены были на некоторое
время от тоски так называемого первого чувства. Так же спасительно обстояло
дело и с другими шестыми сводными. В шестом "Ш" ребята всегда имели
дело с сильно взрывчатыми веществами, и Таранец редко даже снимал повязку с
головы, испорченной во время его многочисленных пиротехнических упражненеий.
И в этом сводном любовь как‑то не прививалась: оглушительные взрывы
пароходов, бастионов и карет министров занимали души колонистов до последней
глубины, и не мог уже загореться в них «угрюмый, тусклый огонь желанья». Едва
ли мог загореться такой «огонь» и у ребят, перетаскивающих мебель и
декорации, — слишком решительно происходила в этом случае, выражаясь
педагогическим языком, сублимация. Даже горячие сводные, которые развивали
свою деятельность в самой толще публики, сбережены были от стрел амура, ибо и
самому легкомысленному Амуру не пришло бы в голову прицеливаться в измазанных
углем, закопчённые, черномазые фигуры. Колонист из шестого "П"
сводного стоял в безнадёжно обречённой позиции. Он выходил в театральный зал в лучшем
колонийском костюме, я его гонял и цукал за самую маленькую неряшливость. У
него из грудного кармана кокетливо выглядывал уголок чистого носового платка,
его причёска была всегда образцом элегантности, он обязан быть вежливым, как
дипломат, и внимательным, как зубной техник. И вооружённый такими
достоинствами, он неизменно попадал под действие известных чар, которые и в
Гончаровке, и в Пироговке, и на Воловьих хуторах приготовляются
приблизительно по тем самым рецептам, что и в парижских салонах. Первая встреча у дверей нашего театра во
время проверки билетов и поисков свободного места как будто не угрожала
никакими опасностями: для девиц фигура хозяина и устроителя этих
замечательных зрелищ с такими волнующими словами и с такими чудесами техники
казалась ещё привлекательно‑неприкосновенной, почти недоступной для
любви — настолько недоступной, что и селянские кавалеры, разделяя то же
восхищение, не терзались ревностью. Но проходил второй, третий, пятый
спектакль, и повторялась старая, как мир, история. Параска с Пироговки или
Маруся с Воловьего хутора вспоминали о том, что румяные щеки, чёрные брови —
впрочем, не только чёрные — и блестящие глаза, сияющие новизной и модным
покроем ситцевое платье, облегавшее мириады самых несомненных ценностей,
музыка итальянско‑украинского "л", которое умеют произносить
по‑настоящему только девчата, «казала», «куповала», — всё это
сила, оставляющая далеко позади не только сценические хитрости горьковцев, но
и всякую иную, самую американскую технику. И когда все эти силы приводились в
действие, от всей недоступной значительности колонистов ничего не оставалось.
Наступал момент, когда колонист после спектакля приходил ко мне и бессовестно
врал: — Антон Семёнович, разрешите
проводить девчат из Пироговки, а то они боятся. В этой фразе заключалась редкая
концентрация лжи, ибо и для просителя и для меня было точно известно, что
никто никого не боится, и никого не нужно провожать, и множественное число
«девчат» — гипербола, и разрешения никакого не требуется: в крайнем случае
эскорт пугливой зрительницы будет организован без разрешения. И поэтому я
разрешал, подавляя в глубине моей педагогической души явное ощущение
неувязки. Педагогика, как известно, решительно отрицает любовь, считая, что
«доминанта» эта должна наступать только тогда, когда неудача воспитательного
воздействия уже совершенно определилась. Во все времена и у всех народов
педагоги ненавидели любовь. И мне ревниво неприятно видеть, как тот или
другой колонист, пропуская комсомольское или общее собрание, презрительно
забросив книжку, махнув рукой на все качества активного и сознательного члена
коллектива, упрямо начинает признавать только авторитет Маруси или Наташи —
существ, неизмеримо ниже меня стоящих в педагогическом, политическом и
моральном отношениях. Но у меня всегда была склонность к размышлению, и своей
ревности я не спешил предоставить какие‑либо права. Товарищи мои по
колонии и в особенности деятели наробраза были решительнее меня и сильно
нервничали по случаю непредвиденного и внепланового вмешательства Амура: — С этим нужно решительно бороться. Споры эти всегда помогали, ибо до конца
проясняли положение: нужно положиться на собственный здравый смысл и на
здравый смысл жизни. Тогда ещё у самой жизни его было не так много, жизнь
наша была ещё бедна. Мечтал я: были бы мы богатыми, женил бы я колонистов,
заселил бы наши окрестности женатыми комсомольцами. Чем это плохо? Но до
этого было ещё далеко. Ничего. И бедная жизнь что‑нибудь придумает. Я
не стал преследовать влюблённых педагогическим вмешательством, тем более что
они не выходили из рамок приличия. Опришко в минуту откровенности показал мне
карточку Маруси — явное доказательство того, что жизнь продолжала что‑то
делать, пока мы раздумывали. Сама по себе карточка мало говорила. На
меня смотрело широкое курносое лицо, ничего не прибавляющее к среднему типу
Марусь. Но на обороте было написано выразительным школьным почерком: «Дорогому Дмитру от Маруси Лукашенко.
Люби и не забывай». Дмитро Опришко сидел на стуле и открыто
показывал всему миру, что он человек конченый. От его удалой фигуры жалкие
остались остатки, и даже закрученный на голове залихватский чуб исчез: сейчас
он был добродетельно и акуратно уложен в мирную причёску. Карие глаза, раньше
так легко возбуждаемые остроумным словом и охотой смеяться и прыгать, сейчас
тихо‑смирно выражали только домашнюю озабоченность и покорность
ласковой судьбе. — Что ты собираешься делать? Опришко улыбнулся. — Без вашей помощи трудно будет. Мы
ещё батьку ничего не говорили, и Маруся боится. Но так вообще батько мне
хорошо ставится. — Ну хорошо, подождём. Опришко ушёл от меня довольный, бережно
спрятав на груди портрет возлюбленной. Гораздо хуже обстояло дело у Чобота.
Чобот был человек угрюмый и страстный, но других достоинств у него не было.
Когда‑то он начал в колонии с серьёзного конфликта с поножовщиной, с
тех пор крепко подчинялся дисциплине, но всегда держался в стороне от
бурлящих наших центров. У него было невыразительное, бесцветное лицо, и даже
в минуты гнева оно казалось туповатым. Школу он посещал по необходимости и
еле‑еле научился читать. В нём мне нравился способ выражаться: в его
скупых словах всегда ощущалась большая и простая правдивость. В комсомол его
приняли одним из первых. Коваль имел о нём определённое мнение: — Доклад не сделает и в агитпропы не
годится, но если дать ему пулемёт — сдохнет, а пулемёта не бросит. Вся колония знала, что Чобот страстно
влюбился в Наташу Петренко. Наташа жила в доме Мусия Карповича, считалась его
племянницей, на самом деле была просто батрачкой. В театр всё-таки пускал её
Мусий Карпович, но одевалась она очень бедно: нескладная юбка, кем‑то
давно заношенная, корявые, не по ноге, ботинки и старомодная, со складками,
тёмная кофта. В другоя одеянии мы её не видели. Одежда обращала Наташу в
жалкое чучело, но тем привлекательнее казалось её лицо. В рыжем ореоле
изодранного, испачканного бабьего платка на вас смотрит даже не лицо, а какое‑то
высшее выражение нетронутости, чистоты, детски улыбающейся доверчивости.
Наташа никогда не гримасничала, никогда не выражала злобы, негодования,
подозрения, страдания. Она умела только или серьёзно слушать, и в это время у
неё чуть‑чуть подрагивали густые чёрные ресницы, или открыто,
внимательно улыбаться, показывая милые маленькие зубки, из которых один
передний был поставлен немножко вкось. Наташа приходила в колонию всегда в
стайке девчат и на деланно‑шумливом этом фоне сильно выделялась
детской, простой сдержанностью и хорошим настроением. Чобот непременно её встречал и хмуро
усаживался с нею на какой‑нибудь скамье, нисколько не смущая её своей
хмуростью и ничего не изменяя в её внутреннем мире; я сомневался в том, что
этот ребёнок может полюбить Чобота, но хлопцы возражали мне хором: — Кто? Наташа? Да она за Чобота в
огонь и в воду, даже и не задумается. В это время у нас, собственно говоря,
вовсе не было свободы заниматься романами. Наступили те дни, когда солнце
принимается за обычный штурм, работая по восемнадцати часов в сутки. Подражая
ему, и Шере наваливал на нас столько работы, что мы только молча отдувались,
вспоминали не без горечи, что ещё осенью с большим энтузиазмом утвердили на
общем собрании его посевной план. Официально у Шере считалось шестиполье, но
на деле выходило гораздо более сложное. Шере почти не сеял зерновых. На
чёрном паре у него было гектаров семь озимой пшеницы, в сторонке спрятались
небольшие нивы овса и ячменя, да для опыта на небольшом клочке завёл он какую‑то
невиданную рожь, предсказывая, что ни один селянин никогда не угадает, что
это рожь, «а будет только мекать». Пока что мекали не сеялне, а мы.
Картофель, бураки, баштаны, капуста, целая плантация гороха — и всё это
разных сортов, в которых трудно было разобраться. Говорили при этом хлопцы,
что Шере на полях развёл настоящую контрреволюцию: — То у него король, а то царь, а то
королева. Действительно разграничив все участки
идеальными прямыми межами и изгородями, Шере везде поставил на деревянных
столбиках фанерные плакатики и на каждом написал, что посеяно и сколько.
Колонисты, — вероятно, те которые охраняли посевы от ворон, —
однажды утром поставили рядом свои надписи и очень обидели Шере таким
поступком. Он потребовал срочного совета командиров и непривычно для нас
кричал: — Что это за насмешки, что это за
глупости? Я так называю сорта, как они у всех называются. Если принято
называть этот сорт «Королём андалузским», так он и называется во всём мире —
не могу я придумать своё название. А это — хулиганство! Для чего выставили:
генерал Буряк, полковник Горох? А это что: капитаны Кавуны и поручики
Помидорчики? Командиры улыбались, не зная как им быть
со всей этой камарильей. Спрашивали по‑деловому: — Так кто же это такое свинство
устроил? То булы короли, а то сталы просто капитаны, чёрт зна що… Хлопцы не могли удержаться от улыбок,
хотя и побаивались Шере. Силантий понимал напряжённость конфликта
и старался умерить его: — Видишь, какая история: такой
король, которого можно, здесь это, коровам кушать, так он не страшный, пускай
остаётся королём. И Калина Иванович стоял на стороне Шере: — По какому случаю шум поднявся? Вам
хочется показать, что вы вот какие револююционеры, с королями воевать кортит,
головы резать паразитам? Так почему вы так беспокоитесь? Ось дадим вам по
ножу и будете резать, аж пот с вас градом. Колонисты знали, что такое «гичку
резать», и встретили заявление Калины Ивановича с глубоким удовлетворением.
На том дело о контрреволюции на наших полях и прекратилось; а когда Шере
высадил из оранжереи против белого дома двести кустов роз и поставил надписи:
«Снежная королева», ни один колонист не заявил протеста. Карабанов только
сказал: — Королева так королева, чёрт с нею,
абы пахла. Больше всего мучили нас бураки. По совести
говоря, это отвратительная культура: её только сеять легко, а потом
начинаются настоящие истерики. Не успела она вылезти из земли, а вылазит она
медленно и вяло, уже нужно её полоть. Первая полка бурака — это драма.
Молодой бурак для новичка ничем не отличается от сорняка, поэтому Шере на эту
полку требовал старших колонистов, а старшие говорили: — Ну что ты скажешь — бураки полоть?
Та неужели мы своё не отпололи? Кончили первую полку, вторую мечтают все
побывать на капусте, на горохе, а уже и сенокосом пахнет — смотришь, в
воскресной заявке Шере скромно написано: «На прорывку бурака — сорок
человек». Вершнев, секретарь совета, с возмущением
читает про себя эту наглую строчку и стучит кулаком по столу: — Да что это такое: опять бурак? Да
когда он кончится, чёрт проклятый!.. Вы, может, по ошибке старую заявку дали? — Новая заявка, — спокойно
говорит Шере. — Сорок человек, и, пожалуйста, старших. На совете сидит Мария Кондратьевна,
живущая на даче в соседней с нами хате, ямочки на её щеках игриво посматривают
на возмущённых колонистов. — Какие вы ленивые мальчики! А в
борще бурак любите, правда? Семён наклоняет голову и выразительно
декламирует: — Во‑первых, бурак кормовой,
хай вин сказыться! Во‑вторых, пойдёмте с нами на прорывку. Если вы
сделаете нам одолжение и проработаете хотя бы один день, так тому и быть,
собираю сводотряд и работаю на бураке, аж пока и в бурты его, дьявола, не
похороним. В поисках сочувствия Мария Кондратьевна
улыбается мне и кивает на колонистов: — Какие! Какие!.. Мария Кондратьевна в отпуску, поэтому и
днём её можно встретить в колонии. Но днём в колонии скучно, только на обед
приходят ребята, чёрные, пыльные, загоревшие. Бросив сапки в углу Кудлатого,
они, как конница Будённого, галопом слетают с крутого берега, развязывая на ходу
завязки трусиков, и Коломак закипает в горячем ключе из их тел, криков, игры
и всяких выдумок. Девчата пищат в кустах на берегу: — Ну, довольно вам, уходите уже!
Хлопцы, а хлопцы, ну уходите, уже наше время. Дежурный с озабоченным лицом проходит на
берег, и хлопцы на мокрые тела натягивают горячие ещё трусики и, поблёскивая
капельками воды на плечах, собираются к столам, поставленным вокруг фонтана в
старом саду. Здесь их давно поджидает Мария Кондратьевна — единственное
существо в колонии, сохранившее белую человеческую кожу и невыгоревшие
локоны. Поэтому она в нашей толпе кажется подчёркнуто холёной, и даже Калина
Иванович не может не отметить это обстоятельство: — Фигурная женщина, ты знаешь, а
даром здесь пропадает. Ты, Антон Семёнович, не смотри на неё теорехтически.
Она на тебя поглядаеть, как на человека, а ты, как грак, ходишь без внимания. — Как тебе не стыдно! — сказал
я Калине Ивановичу. — Не хватает, чтобы и я романами занялся в колонии. — Эх ты! — крякнул Калина
Иванович по‑стариковски, закуривая трубку. — В жизни ты в дурнях
останешься, вот побачишь… Я не имел времени произвести
теоретический и практический анализ качеств Марии Кондратьевны, — может
быть, именно поэтому она всё приглашала меня на чай и очень обижалась на
меня, когда я вежливо уверял её: — Честное слово, не люблю чай. Как‑то после обеда, когда
разбежались колонисты по работам, задержались мы с Марией Кондратьевной у
столов, и она по‑дружески просто сказала мне: — Слушайте вы, Диоген Семёнович!
Если вы сегодня не придёте ко мне вечером, я вас буду считать просто
невежливым человеком. — А что у вас? Чай? — спросил
я. — У меня мороженое, понимаете вы, не
чай, а мороженое… Специально для вас делаю. — Ну, хорошо, — сказал я с
трудом, — в котором часу приходить на мороженое? — В восемь часов. — Но у меня в половине девятого
рапорты командиров. — Вот ещё жертва педагогики… Ну
хорошо, приходите в девять. Но в девять часов, сразу после рапорта,
когда я сидел в кабинете и сокрушался, что нужно идти на мороженое и я не
успел побриться, прибежал Митька Жевелий и крикнул: — Антон Семёнович, скорийше,
скорийше!.. — В чём дело? — Чобота хлопцы привели и Наташку.
Этот самый дед, как его… ага, Мусий Карпович. — Где они? — А в саду там… Я поспешил в сад. В сиреневой аллее на
скамейке сидела испуганная Наташа, окружённая толпой наших девочек и женщин.
Хлопцы по всей алее стояли группами и о чём-то судачили. Карабанов
ораторствовал: И правильно. Жалко, что не убили гадину… Задоров успокаивал дрожащего, плачущего
Чобота: — Да ничего страшного. Вот Антон придёт,
всё устроит. Перебивая друг друга, они рассказали мне
следущее. За то, что Наташа не просушила какие‑то
плахты, забыла, что ли, Мусий Карпович вздумал её проучить и успел два раза
ударить вожжами. В этот момент в хату вошёл Чобот. Какие действия произвёл
Чобот, установить было трудно — Чобот молчал, — но на отчаянный крик
Мусия Карповича сбежались хуторяне и часть колонистов и нашли хозяина в
полуразрушенном состоянии, всего окровавленного, в страхе забившегося в угол.
В таком же печальном состоянии был и один из сыновей Мусия Карповича. Сам
Чобот стоял посреди хаты и «рычав, як собака», по выражению Карабанова.
Наташу нашли потом у кого‑то из соседей. По случаю всех этих событий произошли
переговоры между колонистами и хуторянами. Некоторые признаки указывали, что
во время переговоров не оставлены были без употребления кулаки и другие виды
защиты, но ребята об этом ничего не говорили, а повествовали эпически‑трогательно: — Ну мы ничего такого не делали,
оказали это… первую помощь в несчастных случаях, а Карабанов и говорит
Наташе: «Идём, Наташа в колонию, ты ничего не бойся, найдутся добрые люди,
знаешь, в колонии, мы с этим дело устроимся». Я попросил действущих лиц в кабинет. Наташа серьёзно разглядывала большими
глазами новую для неё обстановку, и только в неуловимых движениях рта можно
было распознать у неё остатки испуга, да на щеке не спеша остывала одинокая
слеза. — Що робыть? — сказал Карабанов
страстно. — Надо кончать. — Давайте кончать, — согласился
я. — Женить, предложил Бурун. Я ответил: — Женить успеем, это не сегодня. Мы
имеем право принять Наташу в колонию. Никто не возражает?.. Да тише, чего вы
орёте! Место для девочки у нас есть. Колька, зачисли её завтра приказом в
пятый отряд. — Есть! — заорал Колька. Нашата вдруг сбросила свой страшный
платок, и глаза у неё заполыхали, как костёр на ветру. Она подбежала ко мне и
засмеялась радостно, как смеются только дети. — Хиба цэ можна? В колонию? Ой,
спасыби ж вам, дядечку! Хлопцы смехом прикрыли душевное волнение.
Карабанов топнул ногой об пол: — Дуже просто. Прямо так просто, що…
чёрты его знают! В колонию, конечно. Нехай колониста тронуть! Девчата радостно потащили Наташу в
спальню. Хлопцы ещё долго галдели. Чобот сидел против меня и благодарил: — Я такого никогда не думал… То вам
спасибо, что такому маленькому человеку защиту дали… А жениться — то дело
второе… До поздней ночи обсуждали мы проишествие.
Рассказали хлопцы несколько подходящих случаев, Силантий выскахал своё
мнение, приводили Наташу в колонийском платье показывать мне, и Наташа оказалась
вовсе на невестой, а маленькой нежной девочкой. После всего этого пришёл
Калина Иванович и сказал, резюмируя вечер: — Годи вам раздувать кадило. Если у
человека голову не оттяпали, значит, человек живёть, всё значиться
благополучно. Ходим на луки (луг), пройдёмся… вот ты увидишь, как эти
паразиты копыци сложили, чтоб их так в гроб укладывали, када помруть! Было уже за полночь, когда мы с Калиной
Ивановичем направились на луг. Тёплая тихая ночь внимательно слушала, что
говорил дорогой Калина Иванович. Аристократически воспитанные, подтянутые,
сохраняя вечную любовь свою к строевым шеренгам, стояли на страже своей
колонии тополя и тоже думали о чём-то. Может быть, они удивлялись тому, что
так всё изменилось кругом: выстраивались они для охраны Трепке, а теперь
приходится сторожить колонию имени Максима Горького. В отдельной группе тополей стояла хата
Марии Кондратьевны и смотрела чёрными окнами прямо на нас. Одно из окон вдруг
тихонько открылось, и из него выпругнул человек. Направился было к нам, на
мгновение остановился и бросился в лес. Калина Иванович прервал рассказ об
эвакуации Миргорода в 1918 году и сказал спокойно: — Этот паразит — Карабанов. Видишь,
он смотрит не теорехтически, а прахтически. А ты остался в дурнях, хоть и
освиченный человек. |
|
||||
|
|
7. Пополнение
В колонию пришёл Мусий Карпович. Мы
думали, что он начинает тяжбу по случаю слишком свободного обращения с его
головой разгневанного Чобота. И в самом деле: голова Мусия Карповича была
демонстративно перевязана и говорил он таким голосом, будто даже это не Мусий
Карпович, а умирающий лебедь. Но по волнующему нас вопросу он высказался
миролюбиво и по‑христиански кротко: — Так я ж совсем не потому, что
девчонка. Я по другому делу. Боже сохрани, чи я буду с вами спорить, чи што?
Так, то пускай и так… Я насчёт мельницы к вам пришёл. От сельсовета пришёл с
хорошим делом. Коваль прицелился лбом в Мусия Карповича: — Насчёт мельницы? — Ну да ж. Вы насчёт мельницы
хлопочете — это аренда, значит. И сельсовет же тоже подал заявление. Так от
мы так думаем: как вы советская власть, так и сельсовет — советская власть,
не может быть такого: то мы, а то — вы… — Ага, — сказал Коваль
несколько иронически. Так начался в колонии короткий
дипломатический период. Я уговорил Коваля и хлопцев напялить на себя дипломатические
фраки и белые галстуки, и Лука Семёнович с Мусием Карповичем на некоторое
время получили возможность появляться на территории колонии без опасности для
жизни. В это время всю колонию сильно занимал
вопрос о покупке лошадей. Знаменитые наши рысаки старели на глазах, даже
Рыжий начинал отращивать стариковскую бороду, а Малыша совет командиров
перевёл уже на положение инвалида и назначил ему пенсию. малыш получил на
дожитие постоянное место в конюшне и порцию овса, а запрягать его допускалось
только с моего личного разрешения. Шере всегда с презрением относился к
Бандитке, Мэри и Коршуну говорил: — Хорошее хозяйство то, в котором
кони хорошие, а если кони дрянь, значит, и хозяйство дрянь. Антон Братченко, переживший влюблённость
во всех наших лошадей по очереди и всегда всем предпочитавший Рыжего, и тот
теперь под влиянием Шере начинал любить какого‑то будущего коня,
который вот‑вот появится в его царстве. Я, Шере, Калина Иванович и
Братченко не пропускали ни одной ярмарки, видели тысячи лошадей, но купить
нам всё-таки ничего не довелось. То кони были плохие, такие же, как и у нас,
то дорого с нас просили, то находил Шере какую‑нибудь неприятную
болезнь или недостаток. И правду нужно сказать, хороших лошадей на ярмарках
не было. Война и революция прикончили породистые лошадиные фамилии, а новых
заводов ещё не народилось. Антон приезжал с ярмарки почти в оскорблённом
состоянии: — Как же это так? А если нам нужен
хороший конь, настоящий конь, так как же? Буржуев просить чи как? Калина Иванович, по гусарской старой
памяти, любил копаться в лошадином вопросе, и даже Шере доверял его знаниям,
изменяя в этом деле своей постоянной ревности. А Калина Иванович однажды в
кругу понимающих людей сказал: — Говорят эти паразиты, Лука та
Мусий этот самый, что будто у дядьков на хуторах есть хорошие кони, а на
ярмарок не хотят выводить, боятся. — Неправда, — сказал
Шере, — нет у них хороших коней. Есть такие, как мы видели. Хороших
коней вот скоро с заводов достать можно будет, ещё рановато. — А я вам кажу — есть, — продолжал
утверждать Калина Иванович. — Лука знает, этот сукин сын всю округу
знает, как и что. Та и подумайте, откуда ж может взяться хорошая животная,
если не у хозяина! А на хуторах хозяева живуть. Он, паразит, тихонько соби
сыдать, а жеребчика выгодовал, держит, сволочь, в тайне, значить, боиться —
отберуть. А если поехать — купим… Я тоже решил вопрос без всяких признаков
идеологии. — В ближайшее воскресенье едем,
посмотрим. А может быть, и купим что‑нибудь. Шере согласился. — Отчего не поехать? Коня, конечно,
не купим, а проехаться хорошо. Посмотрю, что за хлеба у этих «хозяев». В воскресенье запрягли фаэтон и мягко
закачались на мягких селянских дорогах. Проехали Гончаровку, пересекли
харьковский большак, шагом проползли через засыпанную песком сосновую рощу и
выехали наконец в некоторое царство‑государство, где никогда ещё не
были. С высокой пологой возвышенности открылся
довольно приятный пейзаж. Перед нами без конца, от горизонта до горизонта,
ширилась по нивелиру сделанная равнина. Она не поражала разнообразием; может
быть, в этой самой простоте и было что‑то красивое. Равнина плотненько
была засеяна хлебом; золотые, золотисто‑зелёные, золотисто‑жёлтые,
ходили кругом широкие волны, изредка подчёркнутые ярко‑зелёными пятнами
проса или полем рябенькой гречихи. А на этом золотом фоне с непостижимой
правильностью были расставлены группы белоснежных хат, окружённые
приземистыми бесформенными садиками. У каждой группы одно‑два дерева:
вербы, осины, очень редко тополи и баштан с грязно‑коричневым куренём.
Всё это было выдержано в точном стиле; самый придирчивый художник не мог бы
здесь обнаружить ни одного ложного мазка. Картина понравилась и Калине Ивановичу: — Вот видите, как хозяева живуть?
Тут тебе живуть аккуратные люди. — Да, — неохотно согласился
Шере. — Тут враги советской власти живут,
бандиты, — сказал Антон, оглядываясь с козел. — Да на что ему твоя
советская власть? — даже рассердился немного Калина Иванович. — Что
ему может дать твоя советская власть, када у него всё есть: хлеб свой, и
мясо, и рядно, и овчина, самогон тоже сам делает, паразит, веник ему если
нужен, так смотри, нехворощи сколько растёть и какая хорошая нехвороща. — И лебеда своя, — сказал Шере. — Лобеда не мешаеть, што ж с того,
што лобеда, а этот хозяин всё государство держить, а если б ещё государство с
ним обходилось, как следовает… — Хозяйство это никудышное,
нищенское, — задумчиво произнёс Шере, — ни пропашных, ни травы, ни
добрых сортов. А в хатах тоже ничего нет у этих ваших «хозяев»: деревянный
стол, две лавки, кожух в скрыне, пара сапог — «богатство». И это всё
благодаря скупости да жадности. Сами ж говорите: не доспит, не доест. Разве
он живёт по‑человечески, этот дикарь? А хаты? Это ж не человеческое
жилище. Стены из грязи, пол из глины, на крышу солома… Вигвам. — Не красна изба углами, а красна
пирогами, хе‑хе‑хе, — хитро подмигнул Калина Иванович. — Картошка с луком, какие там
пироги… — Давайте завернём к этому, —
предложил Калина Иванович. По забитой травкой дорожке повернул Антон
к примитивным воротам, сделанным из трёх тонких стволов вербы, связанных
лыком. Серый задрипанный пёс, потягиваясь, вылез из‑под воза и хрипло,
с трудом пересиливая лень, протявкал. Из хаты вышел хозяин и, стряхивая что‑то
с нечесаной бороды, с удивлением и некоторым страхом воззрился на мой полувоенный
костюм. — Драстуй, хозяин! — весело
сказал Калина Иванович. — От церкви, значиться, вернулись? — Я до церкви редко бываю, —
ответил хозяин таким же ленивым хриплым голосом, как и охранитель его
имущества. — Жинка разве когда… А откедова будете? — А мы по такому хорошему делу:
кажут люди, что у вас коня можно доброго купить, а? Хозяин перевёл глаза на наш выезд.
Недостаточно гармонированная пара Рыжего и вороной Мэри, видимо, его
успокоила. — Как вам это сказать? Чтобы хорошие
лошади были, так где ж там! А есть у меня лошинка, третий год — може, вам
пригодится? Он отправился в конюшню и из самого
дальнего угла вывёл трёхлетку кобылу, весёлую и упитанную. — Не запрягал? — спросил Шере. — Так чтобы запрягать куды для
какого дела, так нет, а проезжать — проезжал. Можно проехаться. Добре бежит,
не могу ничего такого сказать. — Нет, — сказал Шере, —
молода для нас. Нам для работы нужно. — Молода, молода, — согласился
хозяин. — Так у хороших людей подрасти может. Это такое дело. Я за нею
три года ходил. Добре ходил, вы же бачите? Кобылка была действительно холёная:
блестящая, чистая шерсть, расчёсанная грива, во всех отношениях она была
чистоплотнее своего воспитателя и хозяина. — А сколько, к примеру, эта
кобылка, а? — спросил Калина Иванович. — Вижу так, что хозяева
покупают, да если магарыч хороший будет, так шестьдесят червяков. Антон уставился на верхушку вербы и,
наконец сообразив, в чём дело, ахнул: — Сколько? Шестьсот рублей? — Шестьсот же, — сказал хозяин
скромно. — Шестьсот рублей вон за это
г…? — не сдерживая гнева, закричал Антон. — Сам ты г…, много ты понимаешь! Ты
походи за конём, а потом будешь говорить. Калина Иванович примирительно сказал: — Нельзя так сказать, что г…,
кобылка хорошая, но только нам не подходить. Шере молча улыбнулся. Мы уселись в фаэтон
и поехали дальше. Серый отсалютовал нам прежним тявканьем, а хозяин, закрывая
ворота, даже не посмотрел вдогонку. Мы побывали на десятке хуторов. Почти в
каждом были лошади, но мы ничего не купили. Домой возвращались уже под вечер. Шере
уже не рассматривал поля, а о чём-то сосредоточенно думал. Антон злился на
Рыжего и то и дело перетягивал его кнутом, приговаривая: — Одурел, что ли? Бурьяна не бачив,
смотри ты… Калина Иванович со злостью посматривал на
придорожную нехворощу и бурчал всю дорогу: — Какой же, понимаешь ты, скверный
народ, паразиты! Приезжают до них люди, ну, там продав чи не продав, так будь
же человеком, будь же хозяином, сволочь. Ты ж видишь, паразит, что люди с
утра в дороге, дай же поисты, есть же у тебя чи там борщ, чи хоть картошка…
Ты ж пойми: бороду расчесать ему николы, ты видав такого? А за паршивую
лошичку шестьсот рублей! Он, видите, «ходыв за лошичкою». Тай не он ходыв, а
сколько там этих самых батрачков, ты видав? Я видел этих молчаливых замазур,
перепуганно застывших возле сажей и конюшен в напряжённом наблюдении
неслыханных событий: приезда городских людей. Они ошеломлены чудовищным
сочетанием стольких почтенностей на одном дворе. Иногда эти немые деятели
выводили из конюшен лошадей и застенчиво подавали хозяину повод, иногда даже
они похлопывали коня по крупу, выражая этим, может быть, и ласку к привычному
живому существу. Калина Иванович, наконец, замолчал и
раздраженно курил трубку. Только у самого вьезда в колонию он сказал весело: — От выморили голодом, чёртовы паразиты!.. В колонии мы застали Луку Семёновича и
Мусия Карповича. Лука был очень поражён неудачей нашей экспедиции и
протестовал: — Не может такого дела буты! Раз я
сказал Антону Семёновичу и Калине Ивановичу, так отетое самое дело мы
сполним. Вы, Калина Иванович, не утруждайте себе, потому нет хуже, када у
человека нервы спорчены. А вот на той неделе поедем с вами, только пускай
Антон Семёнович не едут, у них вид такой, хэ‑хэ‑хэ,
большевицький, так народ опасается. В следущее воскресенье Калина Иванович
поехал на хутора с Лукой Семёновичем и на его лошади. Братченко отнесся
хладнокровно‑безнадёжно и зло пошутил, провожая: — Вы хоть хлеба возьмите на дорогу,
а то с голоду сдохнете. Лука Семёнович погладил рыжую красавицу‑бороду
над праздничной вышитой рубашкой и аппетитно улыбнулся розовыми устами: — Как это можно, товарищ Братченко?
До людей едем, как это можно такое дело: свой хлеб брать! Поимо сегодня и
борщу настоящего и баранины, а може, хто й пляшку соорудить. Он подмигнул заинтересованному Калине
Ивановичу и взял в руки фасонные тёмно-красные вожжи. Широкий кормлёный
жеребец охотно заколыхался под раскоряченной дугой, увлекая за собой
добротную, щедро окованную бричку. Вечером все колонисты, как по пожарному
сигналу. сбежались к неожиданному явлению: Калина Иванович приехал
победителем. За бричкой был привязан жеребец Луки Семёновича, а в оглоблях
пришла красивая, серая в яблоках, большая кобыла. И Калина Иванович и Лука
Семёнович носили на себе доказательства хорошего приёма, оказанного им
лошадиными хозяевами. Калина Иванович с трудом вылез из брички и старался изо
всех сил, чтобы колонисты не заметили этих самых доказательств. Карабанов
помог Калине Ивановичу: — Магарыч был, значит? — Ну а как же! Ты ж видишь, какая
животная. Калина Иванович похлопывал кобылу по
неизмеримому крупу. Кобыла была и в самом деле хороша: мохнатые мощные ноги,
рост, богатырская грудь, ладная массивная фигура. Никаких пороков не мог
найти в ней и Шере, хотя и долго лазил под её животом и то и дело весело и
нежно просил: — Ножку, дай ножку… Хлопцы покупку одобрили. Бурун, серьёзно
прищурив глаза, обошёл кобылу со всех сторон и отозвался: — Наконец‑то в колонии лошадь
как лошадь. И Карабанову кобыла понравилась: — Да, это хозяйская лошадь. Эта
стоит пятьсот рублей. Если таких лошадей десяток, можно пироги исты. Братченко кобылу принял с любовным
вниманием, ходил вокруг неё и причмокивал от удовольствия, поражался с
радостным оживлением её громадной и спокойной силе, её мирному, доверчивому
характеру. У Антона появились перспективы, он пристал к Шере с настойчивым
требованием: — Жеребца нужно хорошего. Свой завод
будет, понимаете? Шере понимал, серьёзно‑одобрительно
поглядывал на Зорьку (так звали кобылу) и говорил сквозь зубы: — Буду искать жеребца. У меня
наметилось одно место. Только вот пшеницу уберём — поеду. В колонии в это время с самого утра до
заката проходила работа, ритмически постукивая на проложенных Шере точных и
гладких рельсах. Сводные отряды колонистов, то большие, то малые, то
состоящие из взрослых, то нарочито пацаньи, вооружённые то сапками, то
косами, то граблями, то собственными пятернями, с чёткостью расписания
скорого поезда проходили в поле и обратно, блестя смехом и шутками, бодростью
и уверенностью в себе, до конца зная, где, что и как нужно сделать. Иногда Оля
Воронова, наш помагронома, приходила с поля и между глотками воды из кружки в
кабинете говорила дежурному командиру: — Пошли помощь пятому сводному. — А что такое? — С вязкой отстают… жарко. — Сколько? — Человек пять. Девочки есть? — Есть одна. Оля вытирает губы рукавом и уходит куда‑то.
Дежурный с блокнотом в руках направляется под грушу, где с самого утра
расположился штаб резервного сводного отряда. За дежурным командиром бежит
смешной мелкой побежкой дежурный сигналист. Через минуту из‑под груши
раздаётся короткое «стаккато» сбора резерва. Из‑за кустов, из реки, из
спален стремглав вылетают пацаны, у груши собирается кружок, и ещё через
минуту пятёрка колонистов быстрым шагом направляется к пшеничному полю. Мы уже приняли сорок пацанов пополнения.
Целое воскресенье возились с ними колонисты, банили, одевали, разбивали по
отрядам. Число отрядов мы не увеличили, а перевели наши одиннадцать в красный
дом, оставив в каждом определённое число мест. Поэтому новенькие крепко
увязаны со старыми кадрами и с гордостью чувствуют себя горьковцами, только
ходить ещё не умеют, «лазят», как говорит Карабанов. Народ пришёл к нам всё молодой,
тринадцати‑четырнадцати лет, и есть замечательно хорошие морды,
особенно симпатичные после того, когда разрумянится пацан в бане, блестят на
нём новые сатиновые трусики, а голова если и плохо пострижена, так Белухин
успокаивает: — Сегодня они сами стриглись, так
понимаете, не очень… Вечерком придёт парикмахер, там мы оформим. Пополнение два дня ходит по колонии с
расширенными зрачками, фиксируя всякие новые впечатления. Заходит в свинарню
и удивлённо таращится на строго Ступицына. Антон с пополнением принципиально не
разговаривает: — Чего эти прилезли? Ваше место пока
что в столовой. — Почему в столовой? — А что ж ты ещё умеешь делать? Ты —
хлебный токарь. — Нет, я буду работать. — Знаем, как вы работаете: за тобой
двух надзирателей ставить нужно. Правда? — А вот командир говорил:
послезавтра на работу, вот посмотришь. — Подумаешь, посмотрю — не видел,
что ли: ой, жарко! ой, воды хочется! ой, папа, ой, мама!.. Пацаны смущённо улыбаются: — Какая там мама… ничего подобного. Но уже к вечеру первого дня у Антона
появляются симпатии. Какими‑то неизвестными способами он отбирает
любителей лошадей. Смотришь, по дорожке на поле уже катится бочка с водой, а
на бочке сидит новый горьковец Петька Задорожный и правит Коршуном, сопровождаемый
напутствием из дверей конюшни: — Не гони коня, это не пожарная
бочка. Через день новенькие участвуют в сводных
отрядах, спотыкаются и кряхтят в непривычных трудовых усилиях, но ряд
колонистов упорно проходит по полю картофеля, почти не ломая равнения, и
новенькому кажется, что и он равняется со всеми. Только через час он
замечает, что на двух новеньких дали один рядок картофеля, а у старых
колонистов рядок на каждого. Обливаясь потом, он тихонько спрашивает соседа: — А скоро кончать? Сняли пшеницу и на току завозились с
молотилкой. Шере, грязный и потный, как и все, проверяет шестеренки и
поглядывает на стог, приготовленный к молотьбе. — Послезавтра молотить, а завтра за
конём поедем. — Я поеду, — говорит осторожно
Семён, поглядывая на Братченко. — Поезжай, что же, — говорит
Антон. — А хороший жеребец? — Жеребец ничего себе, —
отвечает Шере. — В совхозе купили? — В совхозе. — А сколько? — Триста. — Дёшево. — Угу! — Совецький, значит? — смотрит
Калина Иванович на молотилку. — А зачем этот элеватор так высоко
задрали? — Советский, — отвечает
Шере. — Ничего не высоко, солома лёгкая. В воскресенье отдыхали, купались,
катались на лодках, возились с новичками, а под вечер вся аристократия, как
всегда, собралась у крыльца белого дома, дышала запахами «снежных королев» и,
поражая притаившихся в сторонке новичков, вспоминала разные истории. Вдруг из‑за мельницы, вздымая пыль,
крутой дугой пятясь от брошенного старого котла, карьером вылетел всадник.
Семён на золотом коне летел прямо к нам, и мы все вдруг смолкли и затаили
дыхание: такие вещи мы раньше видели только на картинках, в иллюстрациях к
сказкам и к «Страшной мести». Конь нёс Семёна свободным, лёгким, но в то же
время стремительным аллюром, развевая полный, богатый хвост и комкая на ветру
пушистую, пронизанную золотым светом гриву. В его движении мы еле успевали
поражённой душой вдыхать новые ошеломляющие детали: изогнутую в гордом и
капризно‑игривом повороте могучую шею и тонкие, просторным махом идущие
ноги. Семён осадил коня перед нами, притянул к
груди небольшую красивую голову. Чёрный, по углам налитый кровью, молодой и
горячий глаз глянул вдруг в самое сердце притаившегося Антона Братченко.
Антон взялся руками за уши, ахнул и затрепетал: — Цэ наш? Что? Жеребец? Наш? — Та наш же! — гордо сказал
Семён. — Слазь к чёртовой матери с
жеребца! — заорал вдруг Антон на Карабанова. — Чего расселся? Мало
тебе? От, смотри, запарил. Это вам не куркульская кляча. Антон ухватился за повод, гневным
взглядом повторяя своё приказание. Семён слез с седла. — Понимаю, брат, понимаю. Такой
конь, может, когда и был, так разве у Наполеона. Антон каким‑то взрывом ветра
взвился в седло и потрепал ласково коня по шее. Потом неожиданно смущённо
отвернулся и рукавом вытер глаза. Ребята негромко засмеялись. Калина
Иванович улыбнулся, крякнул, ещё раз улыбнулся. — Ничего не скажешь — таконь конь, я
тебе скажу… Даже так скажу: не к нашему рылу крыльцо. Да… У нас его спортят. — Кто испортит? — свирепо
наклонился к нему Антон. Он закричал на колонистов: — Убью! Кто тронет, убью! Палкой! Железной
палкой по голове! Он круто повернул коня, и конь послушно
понёс его к конюшне кокетливым коротким голопом, как будто обрадовался, что,
наконец, уселся в седле настоящий хозяин. Назвали жеребца Молодцом. |
|
||||
|
|
8. Девятый и десятый отряды
В начале июля мы получили мельницу в
аренду на три года, с платой по три тысячи рублей в год. Получиили в полное
своё распоряжение, отказавшись от каких бы то ни было компаний.
Дипломатические сношения с сельсоветом снова были прерваны, да и дни самого
сельсовета были уже сочтены. Завоевание мельницы было победой нашего
комсомола на втором участке боевого фронта. Неожиданно для себя колония начала
заметно богатеть и приобретать стиль солидного, упорядоченного и культурного
хозяйства. Если так недавно на покупку двух лошадей мы собирались с некоторым
напряжением, то в середине лета мы уже могли без труда ассигновать довольно
большие суммы на хороших коров, на стадо овец, на новую мебель. Между делом, почти не затрудняя наших
смет, затеял Шере постройку нового коровника, и не успели мы опомниться, как
стояло уже на краю двора новое здание, приятное и основательное, и перед ним
расположил Шере цветник, в мелкие закусочки разбивая предрассудок, по
которому коровник — это место грязи и зловония. В новом коровнике стояло новых пять
симменталок, а из наших телят вдруг подрос и поразил нас и даже Шере
невиданными статьями бык, называемый Цезарем. Шере очень трудно было получить паспорт
на Цезаря, но симментальские его стати были настолько разительны, что паспорт
нам всё-таки выдали. Имел паспорт и Молодец, с паспортом жил и Василий
Иванович, шестнадцатипудовый кнур, которого я давно вывез из опытной
станции, — чистокровный англичанин, названный Василием Ивановичем в
честь старого Трепке. Вокруг этих знатных иностранцев — немца,
бельгийца и англичанина — легче было организовать настоящее племенное
хозяйство. Царство десятого отряда Ступицына —
свинарня — давно уже обратилась в серьёзное учреждение, которое по своей
мощности и племенной чистоте считалось в нашей округе первым после опытной
станции. Десятый отряд, четырнадцать колонистов,
работал всегда образцово. свинарня — это было такое место в колонии, о
котором ни у кого ни на одну минуту не возникало сомнений. Свинарня,
великолепная трепкинская постройка пустотелого бетона, стояла посреди нашего
двора, это был наш геометрический центр, и она настолько была вылощена и так
всем импонировала, что в голову никому не приходило поднять вопрос о
шокировании колонии имени Горького. В свинарню допускался редкий колонист.
Многие новички бывали в свинарне только в порядке специальной образовательной
экскурсии; вообще для входа в свинарню требовался пропуск, подписанный мною
или Шере. Поэтому в глазах колонистов и селян работа десятого отряда была
окружена многими тайнами, проникнуть в которые считалось особой честью. Сравнительно лёгкий доступ — с разрешения
командира десятого отряда Ступицына — был в так называемую приёмную. В этом
помещении жили поросята, назначенные к продаже, и производилась случка
селянских маток. В приёмной клиенты платили деньги, по три
рубля за приём; помощник Ступицына и казначей Овчаренко выдавал квитанции. В
приёмной же продавались поросята по твёрдой цене за килограмм, хотя селяне и
доказывали, что смешно продавать поросят на вес, что такое нигде не видано. Большой наплыв гостей в приёмной был во
время опороса. Шере оставлял от каждого опороса только семь поросят, самых
крупных — первенцев, всех остальных отдавал охотникам даром. Тут же Ступицын
инструктировал покупателей, как нужно ухаживать за поросёнком, отнимаемым от
матки, как нужно кормить его при помощи соски, как составлять молоко, как
купать, когда переходить на другой корм. Молочные поросята раздавались только
по удостоверениям комнезама, а так как у Шере заранее были известны все дни
опороса, то у дверей свинарни всегда висел график, в котором было написано,
когда приходить за поросятами тому или другому гражданину. Эта раздача
поросят славила нас по всей округе, и у нас развелось много друзей среди
селянства. По всем окрестным сёлам заходили хорошие английские свиньи,
которые, может быть, и не годились на племя, но откармливались — лучше не
надо. Следующим отделением свинарни был
поросятник. Это настоящая лаборатория, в которой производились пристальные
наблюдения за каждым индивидуумом, раньше чем определялся его жизненный путь.
Поросят у Шере собиралось несколько сот, в особенности весной. Многих
талантливых «пацанов» колонисты знали в лицо и внимательно, с большой
ревностью следили за их развитием. Самые выдающиеся личности известны были и
мне, и Калине Ивановичу, и совету командиров, и многим колонистам. Например,
со дня рождения пользовался нашим общим вниманием сын Василия Ивановича и
Матильды. Он родился богатырем, с самого начала показал все потребные
качества и назначался в наследники своему отцу. Он не обманул наших ожиданий
и скоро был помещён в особняке рядом с папашей под именем Петра Васильевича,
названный так в честь молодого Трепке. Ещё дальше помещалась откормочная. Здесь
царили рецепты, данные взвешивания, доведённые до совершенства мещанское
счастье и тишина. Если в начале откорма некоторые индивиды ещё проявляли
признаки философии и даже довольно громко излагали кое‑как формулы
мировоззрения и мироощущения, то через месяц они молча лежали на подстилке и
покорно переваривали свои рационы. Биографии их заканчивались принудительным
кормлением, и наступал, наконец, момент, когда индивид передавался в
ведомство Калины Ивановича и Силантий на песчаном холме у старого парка без
единой философской судороги превращал индивидуальности в продукт, а у дверей
кладовой Алёшка Волков приготовлял бочки для сала. Последнее отделение — маточная, но сюда
могли входить только первосвященники, и я всех тайн этого святилища не знаю. Свинарня приносила нам большой доход; мы
никогда даже не рассчитывали, что так быстро придём к рентабельному
хозяйству. Упорядоченное до конца полевое хозяйство Шере приносило нам
огромные запасы кормов: бурака, тыквы, кукурузы, картофеля. Осенью мы насилу‑насилу
всё это могли спрятать. Получение мельницы открывало широкие
дороги впереди. Мельница давала нам не только плату за помол — четыре фунта с
пуда зерна, но давала и отруби — самый драгоценный корм для наших животных. Мельница имела значение и в другом
разрезе: она ставила нас в новые отношения ко всему окрестному селянству, и эти
отношения давали нам возможность вести ответственную большую политику.
Мельница — это колонийский наркоминдел. Здесь шагу нельзя было ступить, чтобы
не очутиться в сложнейших переплётах тогдашних селянских коньюктур. В каждом
селе были комнезамы, большею частью активные и дисциплинированные, были
середняки, кругленькие и твёрдые, как горох, и, как горох, рассыпанные в
отдельные, отталкивающиеся друг от друга силы, были и «хозяева» — кулаки,
охмуревшие в своих хуторских редутах и одичавшие от законсервированной злобы
и неприятных воспоминаний. Получивши мельницу в своё распоряжение,
мы сразу объявили, что желаем иметь дело с целыми коллективами и коллективам
будем предоставлять первую очередь. Просили производить запись коллективов
заранее. Незаможники легко сбивались в такие коллективы, приезжали
своевременно, строго подчинялись своим уполномоченным, очень просто и быстро
производили расчёт, и работа на мельнице катилась, как по рельсам. «Хозяева»
составили коллективы небольшие, но крепко сбитые взаимными симпатиями и
родственными связями. Они орудовали как‑то солидно‑молчаливо, и
часто даже трудно было разобрать, кто у них старший. Зато, когда приезжала на мельницу
компания середняков, работа колонистов обращалась в каторгу. Они никогда не
приезжали вместе, а растягивались на целый день. Бывал у них и
уполномоченный, но он сдавал своё зерно, конечно, первым и немедленно уезжал
домой, оставляя взволнованную разными подозрениями и несправедливостями
толпу. Позавтракав — по случаю путешествия — с самогоном, наши клиенты
приобретали большую наклонность к немедленному решению многих домашних
конфликтов и после словесных прений и хватаний друг друга «за грудки» из
клиентов обращались к обеду в пациентов перевязочного пункта Екатерины
Григорьевны, в бешенство приводя колонистов. Командир девятого отряда,
работавшего на мельнице, Осадчий нарочно приходил в больничку ссориться с
Екатериной Григорьевной: — На что вы
его перевязываете? Разве их можно лечить? Это ж граки, вы их не знаете.
Начнёте лечить, так они все перережутся. Отдайте их нам, мы сразу вылечим.
Лучше посмотрели бы, что на мельнице делается! И девятый отряд и заведующий мельницей
Денис Кудлатый, правду нужно сказать, умели лечить буянов и приводить их к
порядку, с течением времени заслужив в этой области большую славу и добившись
непогрешимого авторитета. До обеда хлопцы ещё спокойно стоят у
станков посреди бушующего моря матерных эпиграмм, эманаций самогона,
размахивающих рук, вырываемых друг у друга мешков и бесконечных расчётов на
очередь, перепутанных с какими‑то другими расчётами и воспоминаниями.
Наконец, хлопцы не выдерживают. Осадчий запирает мельницу и приступает к
репрессиям. Тройку‑четверку самых пьяных и матерящихся члены девятого
отряда, подержав секунду в объятиях, берут под руки и выводят на берег
Коломака. С самым деловым видом, мило разговаривая и уговаривая, их усаживают
на берегу и с примерной добросовестностью обливают десятком вёдер воды.
Подвергаемый экзекуции сначала не может войти в суть происходящих событий и
упорно возвращается к темам, затронутым на мельнице. Осадчий, расставив
чёрные от загара ноги и заложив руки в карманы трусиков, внимательно
прислушивается к бормотанию пациента и холодными серыми глазами следит за
каждым его движением. — Этот ещё три раза «мать» сказал.
Дай ему ещё три ведра. Озабоченный Лапоть снизу, с берега, с
размаху подаёт указанное количество и после этого деланно‑серьёзно, как
доктор, рассматривает физиономию пациента. Пациент, наконец, начинает что‑то
соображать, протирает глаза, трясёт головой, даже протестует: — Есть такие права? Ах вы, мать
вашу… Осадчий спокойно приказывает: — Ещё одну порцию. — Есть ещё одну порцию аш два
о, — ладно и ласково говорит Лапоть и, как последнюю драгоценную дозу
лекарства, выливает из ведра на голову бережно и заботливо. Нагнувшись к
многострадальной мокрой груди, он так же ласково и настойчиво требует: — Не дышите… Дышите сильней… Ещё
дышите… Не дышите… К общему восторгу, окончательно
замороченный пациент послушно выполняет требования Лаптя, то замирает в
полном покое, то начинает раздувать живот и хэкать. Лапоть с просветлённым
лицом выпрямляется: — Состояние удовлетворительное:
пульс 370, температура 15. Лапоть в таких случаях умеет не
улыбаться, и вся процедура выдерживается в тонах высоконаучных. Только ребята
у реки хохочут, держа в руках пустые вёдра, да толпа селян стоит на горке и
сочувственно улыбается. Лапоть подходит к этой толпе и вежливо‑серьёзно
спрашивает: — Кто следующий? Чья очередь в
кабинет водолечения? Селяне с открытым ртом, как нектар,
принимают каждое слово Лаптя и начинают смеяться за полминуты до произнесения
этого слова. — Товарищ профессор, — говорит
Лапоть Осадчему, — больных больше нет. — Просушить выздоравливающих, —
отдаёт распоряжение Осадчий. Девятый отряд с готовностью начинает
укладывать на травке и переворачивать под солнцем действительно приходящих в
себя пациентов. Один из них уже трезвым голосом просит, улыбаясь: — Та не треба… я й сам… я вже
здоровый. Вот только теперь и Лапоть добродушно и
открыто смеётся и докладывает: — Этот здоров, можно выписать. Другие ещё топорщатся и даже пытаются
сохранить в действии прежние формулы: «Да ну вас…», но короткое напоминание о
ведре приводит их к полному состоянию трезвости, и они начинают упрашивать: — Та не надо, честное слово, якось
вырвалось, привычка, знаете… Лапоть таких исследует очень подробно,
как самых тяжёлых, и в это время хохот колонистов и селян доходит до высших
выражений, прерываемый только для того, чтобы не пропустить новых перлов
диалога: — Говорите, привычка? Давно это с
вами? — Та що вы, хай бог милуеть, —
краснеет и смущается пациент, но как‑нибудь решительно протестовать
боится, ибо у реки девятый отряд ещё не оставил вёдер. — Значит недавно? А родители ваши
матюкались? — Та само ж собой, — неловко
улыбается пациент. — А дедушка? — Та й дедушка… — А дядя? — Ну да… — А бабушка? — Та натурально… Э, шо вы, бог с
вами. Бабушка, мабудь, нет… Вместе со всеми и Лапоть радуется тому,
что бабушка была совершенно здорова. Он обнимает мокрого больного: — Пройдёт, я говорю: пройдёт. Вы к
нам чаще приезжайте, мы за лечение ничего не берём. И больной, и его приятели, и враги
умирают от припадков смеха. Лапоть серьёзно продолжает, направляясь уже к
мельнице, где Осадчий отпирает замок: — А если хотите, мы можем и на дом
выезжать. Тоже бесплатно, но вы должны заявить за две недели, прислать за
профессором лошадей, а кроме того, вёдра и вода ваши. Хотите, и папашу вашего
вылечим. И мамашу можно. — Та мамаша у него не болееть такой
болезнею, — сквозь хохот заявляет кто‑то. — Позвольте, я же вас спрашивал о
родителях, а вы сказали: та само собой. — Та ну, — поражается
выздоровевший. Селяне приходят в полное восхищение: — А га‑га‑га‑га…
от смотри ж ты… на ридну маты чого наговорыв… — Хто? — Та… Явтух же той… хворый, хворый…
Ой, не можу, ой, пропав, слово чести, пропав, от сволочь! Ну й хлопець же, та
хочь бы тоби засмиявся… Добрый доктор… Лаптя почти с триумфом вносят в мельницу,
и в машинное отделение отдаётся приказание продолжать. Теперь тон работы
диаметрально противоположный: клиенты с чрезмерной даже готовностью исполняют
все распоряжения Кудлатого, беспрекословно подчиняются установленной очереди
и с жадностью прислушиваются к каждому слову Лаптя, который действительно
неистощим и на слово и на мимику. К вечеру помол оканчивается, и селяне
нежно пожимают колонистам руки, а усаживаясь на воз, страстно вспоминают: — А бабушка, каже… Ну й хлопець. От
на село хочь бы по одному такому, так нихто и до церкви не ходыв бы. — Гей, Карпо, що, просох? Га? А
голова як? Всё добре? А бабушка? Га‑га‑га‑га… Карпо смущённо улыбается в бороду,
поправляя мешки на возу, и вертит головой: — Не думав ничого, а попав в
больныцю… — А ну, матюкнись, чи не забув? — Э, ни, теперь разви як Сторожево
проидемо, то, може, на коня заматюкается… — Га‑га‑га‑га… Слава о водолечебнице девятого отряда
скоро разнеслась кругом, и приезжающие к нам помольцы то и дело вспоминали об
этом прекрасном учреждении и непременно хотели ближе познакомиться с Лаптем.
Лапоть серьёзно и дружелюбно подавал им руку: — Я только первый ассистент. А
главный профессор, вот, товарищ Осадчий. Осадчий холодно оглядывает селян. Селяне
осторожно хлопают Лаптя по голым плечам: — Систент? У нас тепера и на сели,
як бува хто загнеть, так кажуть: чи не прывести до тебе водяного ликаря з
колонии. Бо, кажуть, вин можеть и до дому выихаты… Скоро на мельнице мы добились нашего
тона. Было оживлённо, весело и бодро, дисциплина ходила на строгих мягких
лапах и осторожно, «за ручку», переставляла случайных нарушителей на
правильные места. В июле мы провели перевыборы сельсовета.
Без боя Лука Семёнович и его друзья сдали позиции. Председателем стал Павло
Павлович Николаенко, а из колонистов в сельсовет попал Денис Кудлатый. |
|
||||
|
|
9. Четвёртый сводный
В конце июля заработал четвёртый сводный
отряд в составе пятидесяти человек под командой Буруна. Бурун был признанный
командир Четвёртого сводного, и никто из колонистов не претендовал на эту
трудную, но почётную роль. Четвёртый сводный отряд работает «от зари
до зари». Хлопцы чаще говорили, что он работает «без сигнала», потому что для
Четвёртого сводного ни сигнал на работу, ни сигнал с работы не давался.
Четвёртый сводный Буруна сейчас работает у молотилки. В четыре часа утра, после побудки и
завтрака, четвёртый сводный выстраивается вдоль цветника против главного
входа в белый дом. На правом фланге шеренги колонистов выстраиваются все
воспитатели. Они, собственно говоря, не обязаны участвовать в работе
Четвёртого сводного, кроме двух, назначенных в порядке рабочего дежурства, но
давно уже считается хорошим тоном в колонии поработать в Четвёртом сводном, и
поэтому ни один уважающий себя человек не прозевает приказа об организации
Четвёртого сводного. На правом фланге поместились и Шере, и Калина Иванович,
и Силантий Отченаш, и Оксана, и Рахиль, и две прачки, и Спиридон секретарь, и
находящийся в отпуску старший вальцовщик с мельницы, и колёсный инструктор
Козырь, и рыжий и угрюмый наш садовник Мизяк, и его жена, красавица Наденька,
и жена Журбина, и ещё какие‑то люди — я даже всех и не знаю. И в шеренге колонистов много добровольцев:
свободные члены десятого и девятого отрядов, второго отряда конюхов, третьего
отряда коровников — все здесь. Только Мария Кондратьевна Бокова, хоть и
потрудилась встать рано и пришла к нам в стареньком ситцевом сарафане, не
становится в строй, а сидит на крылечке и беседует с Буруном. Мария
Кондратьевна с некоторых пор не приглашает меня ни на чай, ни на мороженое,
но относится ко мне не менее ласково, чем к другим, и я на неё ни за что не в
обиде. Мне она нравится даже больше прежнего: серьёзнее и строже стали у неё
глаза и душевнее шутка. За это время познакомилась Мария Кондратьевна со
многими пацанами и девчатами, подружилась с Силантием, попробовала на вес и
некоторые наши тяжёлые характеры. Милый и прекрасный человек Мария
Кондратьевна, и всё же я ей говорю потихоньку: — Мария Кондратьевна, станьте в
строй. Все будут вам рады в рабочих рядах. Мария Кондратьевна улыбается на утреннюю
зарю, поправляет розовыми пальчиками капризный и тоже розовый локон и
немножко хрипло, из самой глубины груди отвечает: — Спасибо. А что я буду сегодня…
молоть, да? — Не молоть, а молотить, —
говорит Бурун. — Вы будете записывать выход зерна. — А я это смогу хорошо делать? — Я вам покажу, как. — А может быть, вы для меня слишком
лёгкую работу дали? Бурун улыбается: — У нас вся работа одинаковая. Вот
вечером, когда будет ужин Четвёртому сводному, вы расскажете. — Господи, как хорошо: вечером ужин,
после работы… Я вижу, как волнуется Мария Кондратьевна,
и, улыбаясь, отворачиваюсь. Мария Кондратьевна уже на правом фланге звонко
смеётся чему‑то, а Калина Иванович галантерейно пожимает ей руку и тоже
смеётся, как квалифицированный фавн. Выбежали и застрекотали восемь
барабанщиков, пристраиваясь справа. Играя мальчишескими пружинными талиями,
вышли и приготовились четыре трубача. Подтянулись, посуровели колонисты. — Под знамя — смирно! Подбросили в шеренге лёгкие голые руки —
салют. Дежурная по колонии Настя Ночевная, в лучшем своём платье, с красной
повязкой на руке, под барабанный грохот и серебрянный привет трубачей провела
на правый фланг шёлковое горьковское знамя, охраняемое двумя настороженно
холодными штыками. — Справа по четыре, шагом марш! Что‑то запуталось в рядах взрослых,
вдруг пискнула и пугливо оглянулась на меня Мария Кондратьевна, но марш
барабанщиков всех приводит к порядку. Четвёртый сводный вышел на работу. Бурун бегом нагоняет отряд, подскакивает,
выравнивая ногу, и ведёт отряд туда, где давно красуется высокий стройный
стог пшеницы, сложенный Силантием, и несколько стогов поменьше и не таких
стройных — ржи, овса, ячменя и ещё той замечательной ржи, которую даже грачи
не могли узнать и смешивали с ячменем; эти стоги сложены Карабановым,
Чоботом, Федоренко, и нужно признать — как ни парились хлопцы, как не
задавались, а перещеголять Силантия не смогли. У нанятого в соседнем селе локомобиля
ожидают прихода Четвёртого сводного измазанные серьёзные машинисты. Молотилка
же наша собственная, только весной купленная в рассрочку, новенькая, как вся
наша жизнь. Бурун быстро расставляет свои бригады, у
него с вечера всё рассчитано, недаром он старый комсвод‑четыре. Над
стогом овса, назначенного к обмолоту последним, развевается наше знамя. К обеду уже заканчивают пшеницу. На
верхней площадке молотилки самое людное и весёлое место. здесь блестят
глазами девчата, покрытые золотисто‑серой пшеничной пылью, из ребят
только Лапоть. Он неутомимо не разгибает ни спины, ни языка. На главном,
ответственном пункте лысина Силантия и пропитанный той же пылью его
незадавшийся ус. Лапоть сейчас специализируется на Оксане. — Это вам колонисты назло сказали,
что пшеница. Разве это пшеница? Это горох. Оксана принимает ещё не развязанный сноп
пшеницы и надевает его на голову Лаптя, но это не уменьшает общего
удовольствия от Лаптевых слов. Я люблю молотьбу. Особенно хороша
молотьба к вечеру. В монотонном стуке машин уже начинает слышаться музыка,
ухо уже вошло во вкус своеобразной музыкальной фразы, бесконечно
разнообразной с каждой минутой и всё-таки похожей на предыдущую. И музыка эта
— такой счастливый фон для сложного, уже усталого, но настойчиво неугомонного
движения: целыми рядами, как по сказочному заклинанию, подымаются с
обезглавленного стога снопы, и после короткого нежного прикосновения на
смертном пути к рукам колонистов вдруг обрушиваются в нутро жадной,
ненасытной машины, оставляя за собой вихрь разрушенных частиц, стоны
взлетающих, оторванных от живого тела крупинок. И в вихрях, и в шумах, и в
сутолоке смертей многих и многих снопов, шатаясь от усталости и возбуждения,
смеясь над их усталостью, наклоняются, подбегают, сгибаются под тяжёлыми
ношами, хохочут и шалят колонисты, обсыпанные хлебным прахом и уже осенённые
прохладой тихого летнего вечера. Они прибавляют к общей симфонии к
однообразным темам машинных стуков, к раздирающим диссонансам верхней
площадки победоносную, до самой глубины мажорную музыку радостной
человеческой усталости. Трудно ещё различить детали, трудно оторваться от
захватывающей стихии. Еле‑еле узнаёшь колонистов в похожих на
фотографический негатив золотисто‑серых фигурах. Рыжие, чёрные, русые —
они теперь все похожи друг на друга. Трудно согласиться, что стоящая с утра с
блокнотом в руках под самыми густыми вихрями призрачно склонённая фигура —
это Мария Кондратьевна; трудно признать в её компаньоне, нескладной, смешной,
сморщенной тени, Эдуарда Николаевича, и только по голосу я догадываюсь, когда
он говорит, как всегда, вежливо‑сдержанно: — Товарищ Бокова, сколько у нас
сейчас ячменя? Мария Кондратьевна поворачивает блокнот к
закату. — Четыреста пудов уже, —
говорит она таким срывающимся, усталым дискантом, что мне по‑настоящему
становится её жалко. Хорошо Лаптю, который и в крайней
усталости находит выходы. — Галатенко! — кричит он на
весь ток. — Галатенко! Галатенко несёт на голове на рижнатом
копье двухпудовый набор соломы и из‑под него откликается, шатаясь: — А чего тебе приспичило? — Иди сюда на минуточку, нужно… Галатенко относится к Лаптю с религиозной
преданностью. Он любит его и за остроумие, и за бодрость, и за любовь, потому
что один Лапоть ценит Галатенко и уверяет всех, что Галатенко никогда не был
лентяем. Галатенко сваливает солому к локомобилю и
спешит к молотилке. Опираясь на рижен и в душе довольный, что может минутку
отдохнуть среди всеобщего шума, он начинает с Лаптем беседу. — А чего ты меня звал? — Слушай, друг, — наклоняется
сверху Лапоть, и все окружающие начинают прислушиваться к беседе, уверенные,
что она добром не кончится. — Ну слухаю… — Пойди в нашу спальню… — Ну? — Там у меня под подушкой… — Що? — Под подушкой говорю… — Так що? — Там у меня найдёшь под подушкой… — Та понял, под подушкой… — Там лежат запасные руки. — Ну так що с ними робыть? —
спрашивает Галатенко. — Принеси их скорее сюда, бо эти уже
никуда не годятся, — показывает Лапоть свои руки под общий хохот. — Ага! — говорит Галатенко. Он понимает, что смеются все над словами
Лаптя, а может быть, и над ним. Он изо всех сил старался не сказать ничего
глупого и смешного и как будто ничего такого и не сказал, а говорил только
Лапоть. Но все смеются ещё сильнее, молотилка уже стучит впустую и уже
начинает «париться» Бурун. — Что тут случилось? Ну чего стали?
Это ты всё, Галатенко? — Та я ничего… Все замирают, потому что Лапоть самым
напряжённо‑серьёзным голосом, с замечательной игрой усталости,
озабоченности и товарищеского доверия к Буруну, говорит ему: — Понимаешь, эти руки уже не варят.
Так разреши Галатенко пойти принести запасные руки. Бурун моментально включается в мотив и
говорит Галатенко немного укорительно: — Ну, конечно, принеси, что тебе —
трудно? Какой ты ленивый человек, Галатенко! Уже нет симфонии молотьбы. Теперь
захватила дыхание высокоголосая какфония хохота и стонов, даже Шере смеётся,
даже машинисты бросили машину и хохочут, держась за грязные колени. Галатенко
поворачивается к спальням. Силантий пристально смотрит на его спину: — Смотри ж ты, какая, брат, история… Галатенко останавливается и что‑то
соображает. Карабанов кричит ему с высоты соломенного намета: — Ну чего ж ты стал? Иди же! Но Галатенко растягивает рот до ушей. Он
понял, в чём дело. Не спеша он возвращается к рижну и улыбается. На соломе
хлопцы его спрашивают: — Куда это ты ходил? — Та Лапоть придумал,
понимаешь, — принеси ему запасные руки. — Ну и что же? — Та нэма у него никаких запасных
рук, брешет всё. Бурун командует: — Отставить запасные руки!
Продолжать! — Отставить так отставить, —
говорит Лапоть, — будем и этими как‑нибудь. В девять часов Шере останавливает машину
и подходит к Буруну: — Уже валятся хлопцы. А ещё на
полчаса. — Ничего, — говорит
Бурун. — Кончим. Лапоть орёт сверху: — Товарищи горьковцы! Осталось ещё
на полчаса. Так я боюсь, что за полчаса мы здорово заморимся. Я не согласен. — А чего ж ты хочешь? —
насторожился Бурун. — Я протестую! За полчаса ноги
вытянем. Правда ж, Галатенко? — Та, конечно ж, правда. Полчаса —
это много. Лапоть подымает кулак. — Нельзя полчаса. Надо всё это
кончить, всю эту кучу за четверть часа. Никаких полчаса! — Правильно! — орёт и
Галатенко. — Это он правильно говорит. Под новый взрыв хохота Шере включает
машину. Ещё через двадцать минут — всё кончено. И сразу на всех нападает
желание повалиться на солому и заснуть. Но Бурун командует: — Стройся! К переднему ряду подбегают трубачи и
барабанщики, давно уже ожидающие своего часа. Четвёртый сводный эскортирует
знамя на его место в белом доме. Я задерживаюсь на току, и от белого дома до
меня долетают звуки знамённого салюта. В темноте на меня наступает какая‑то
фигура с длинной палкой в руке. — Кто это? — А это я, Антон Семёнович. Вот
пришёл к вам насчёт молотилки, это, значит, с Воловьего хутора, и я ж буду
Воловик по хвамилии… — Добре. Пойдём в хату. Мы тоже направляемся к белому дому.
Воловик, старый видно, шамкает в темноте. — Хорошо это у вас, как у людей
раньше было… — Чего это? — Да вот, видите, с крестным ходом
молотите, по‑настоящему. — Да где же крестный ход! Это знамя.
И попа у нас нету. Воловик немного забегает вперёд и
жестикулирует палкой в воздухе: — Да не в том справа, что попа нету.
А в том, что вроде как люди празднуют, выходит так, будто праздник. Видишь,
хлеб собрать человеку — торжество из торжеств, а у нас люди забыли про это. У белого дома шумно. Как ни устали
колонисты, всё же полезли в речку, а после купанья — и усталости как будто
нет. За столами в саду радостно и разговорчиво, и Марии Кондратьевне хочется
плакать от разных причин: от усталости, от любви к колонистам, оттого, что
восстановлен и в её жизни правильный человеческий закон, попробовала и она
прелести трудового свободного коллектива. — Лёгкая была у вас работа? —
спрашивает её Бурун. — Не знаю, — говорит Мария
Кондратьевна, — наверное, трудная, только не в том дело. Такая работа
всё равно — счастье. За ужином подсел ко мне Силантий и
засекретничал: — Там это, сказали вам, здесь это,
передать, значит: в воскресенье к вам люди, как говорится, придут, насчёт
Ольки. Видишь, какая история. — Это от Николаенко? — Здесь это, от Павло Павловича,
старика, значит. Так ты, Антон Семёнович, как это говорится, постарайся:
рушники, видишь, здесь это, полагается, и хлеб, и соль, и больше никаких
данных. — Голубчик, Силантий, так ты это и
устрой всё. — Здесь это, устрою, как говорится,
так видишь, такая, брат, история: полагается в таком месте выпить, самогонку
или что, видишь. — Самогонку нельзя, Силантий, а вина
сладкого купи две бутылки. |
|
||||
|
|
10. Свадьба
В воскресенье пришли люди от Павла
Ивановича Николаенко. Пришли знакомые: Кузьма Петрович Магарыч и Осип
Иванович Стомуха. Кузьму Петровича в колонии все хорошо знали, потому что он
жил недалеко от нас, за рекой. Это был разговорчивый, но не солидный человек.
У него было засорённое песчаное поле, на которое он почти никогда не выезжал,
и росла на том поле всякая дрянь, большею частью по собственной инициативе.
Через это поле было протоптано неисчислимое количество дорожек, потому что
оно у всех лежало на пути. Лицо Кузьмы Петровича было похоже на его поле, и
на нём ничего путного не растёт, и тоже кажется, будто каждый куст грязновато‑чёрной
бородёнки растёт по собственной инициативе, не считаясь с интересами хозяина.
И по лицу его были проложены многочисленные тропинки морщин, складок,
канавок. От своего поля только тем отличался Кузьма Петрович, что на поле не
торчало такого тонкого и длинного носа. Осип Иванович Стомуха, напротив,
отличался красотой. Во всей Гончаровке не было такого стройного и красивого
мужчины, как Осип Иванович. У него был большой и рыжий ус и нахально‑скульптурные,
хорошего рисунка глаза; он носил полугородской, полувоенный костюм и умел
всегда казаться подтянутым и тонким. У Осипа было много родственников из
очень заможнего селянства, но сам он почему‑то земли не имел, а
пробавлялся охотой. Он жил на самом берегу реки в одинокой, убежавшей из села
хате. Хоть и ожидали мы гостей, но они застали
нас слабо подготовленными — да и кто его знает, как нужно было готовиться к
такому непривычному делу? Впрочем, когда они вошли в мой кабинет, в нём было
солидно, тихо и внушительно. Застали они только меня и Калину Ивановича.
Гости вошли, пожали нам руки и уселись на диване. Я не знал, как начинать.
Осип Иванович обрадовал меня, когда начал просто: — Раньше в таких делах про охотников
рассказывали: шли мы на охоту та проследили лисицу, красную девицу, а та
лисица — красная девица… та я думаю, что это не надо теперь, хоть я ж и
охотник. — Это правильно, — сказал я. Кузьма Петрович засеменил ногами, сидя на
диване, и помотал бородёнкой: — Дурачество это, я так скажу. — Не то что дурачество, а не ко
времени, — поправил Стомуха. — Время разное бываеть, — начал
поучительно Калина Иванович. — Бываеть народ тёмный, так ему ещё мало,
он ещё и сам всякую потьму на себя напускаеть, а потом и живёть, как остолоп
какой, всего боится: и грома, и месяца, и кошки. А теперь совецькая власть,
хэ‑хэ, теперь разве заградительного отряду надо бояться, а то всё
нестрашно… Стомуха перебил Калину Ивановича,
который, очевидно, забыл, что собрались не для учёных разговоров: — Мы просто скажем: прислал нас
известный вам Павел Иванович и супруга его Евдокия Степановна. Вы — как отец
здесь, в колонии, так чи не отдадите вашу, так сказать, вроде приблизительно
дочку Олю Воронову за ихнего сына Павла Павловича, он же теперь председатель
сельсовета. — Просим нам ответ дать, —
запищал Кузьма Петрович. — Если есть ваше такое согласие, как уже и
батько хотят, дадите нам рушники и хлеб, а если такого согласия вашего не
последует, то просим не обижаться, что побеспокоили. — Хэ‑хэ‑хэ, того будет
малувато, что просим не обижаться, — сказал Калина Иванович, — а
полагается по этому дурацькому вашему закону гарбуза домой нести. — Гарбуза не сподиваемося, —
улыбнулся Осип Иванович, — да и время теперь такое, что гарбуз ещё не
вродился. — Она‑то правда, —
согласился Калина Иванович. — То раньше девка, гордая если сдуру, так
она нарочно полную комору гарбузов держала. А если женихи не приходили, так
она, паразитка, кашу варила. Хорошая гарбузяная каша, особенно если с пшеном… — Так какой ваш родительский ответ
будет? — спросил Осип Иванович. Я ответил: — Спасибо вам, Павлу Ивановичу и
Евдокии Степановне за честь. Только я не отец, и власть у меня не
родительская. Само собой. нужно спросить Олю, а потом для всяких подробностей
надо постановить совету командиров. — А это мы вам не указчики. Как по
новому обычаю полагается, так и делайте, — просто согласился Осип
Иванович. Я вышел из кабинета и в следующей комнате
нашёл дежурного по колонии, попросил его протрубить сбор командиров. В
колонии чувствовались непривычные горячка и волнение. Набежала на меня Настя,
со смехом спросила: — Где эти рушники держать? Туда же
нельзя нести? — кивнула она в кабинет. — Да подожди с рушниками, ещё не
сговорились. Вы здесь где‑нибудь близко побудьте, я позову. — А кто будет завязывать? — Что завязывать? — Да надевать на этих… сватов чи как
их? Возле меня стоял Тоська Соловьёв и держал
под мышкой большой пшеничный хлеб, а в руках — солонку, потряхивал солонкой и
наблюдал, как подскакивают крупинки соли. Прибежал Силантий. — Что ж ты, здесь это, трусишь
хлебом‑солью? Это ж надо на блюде… Он наклонился, скрывая одолевший его
смех: — Это ж с пацанами беда!.. А закуска
как же? Вошла Екатерина Григорьевна, и я
обрадовался: — Помогите с этим делом. — Да я их давно ищу. С самого утра
таскают этот хлеб по колонии. Идём со мной. Наладим, вы не беспокойтесь. Мы
будем у девочек, пришлёте. В кабинет прибежали голоногие командиры. У меня сохранился список командиров той
счастливой эпохи. Это: Командир первого отряда — сапожников —
Гуд. Командир второго отряда — конюхов —
Братченко. Командир третьего отряда — коровников —
Опришко. Командир Четвёртого отряда — столяров —
Таранец. Командир пятого отряда — девочек —
Ночевная. Командир шестого отряда — кузнецов —
Белухин. Командир седьмого отряда — Ветковский. Командир восьмого отряда — Карабанов. Командир девятого отряда — мельничных —
Осадчий. Командир десятого отряда — свинарей —
Ступицын. Командир одиннадцатого отряда — пацанов —
Георгиевский. Секретарь совета командиров — Колька
Вершнев. Заведующей мельницей — Кудлатый. Кладовщик — Алёша Волков. Помагронома — Оля Воронова. На деле в совете командиров собиралось
народу гораздо больше: по полному, неоспоримому праву приходили члены
комсомола — Задоров, Жорка Волков, Волохов, Бурун, убелённые сединами старики
— Приходько, Сорока, Голос, Чобот, Овчаренко, Федоренко, Корыто, на полу
усаживались любители‑пацаны и между ними Митька, Витька, Тоська и
Ванька Шелапутин обязательно. В совете всегда бывали и воспитатели, и Калина
Иванович, и Силантий Семёнович. Поэтому в совете всегда не хватало стульев:
сидели на окнах, стояли под стенками, заглядывали в окна снаружи. Колька Вершнев открыл заседание. Сваты
потеряли свою торжественность, задавленные на диване десятком колонистов,
перемешавшиеся с голыми их руками и ногами. Я рассказал командирам о приходе сватов.
Никакой новости в этом известии для совета командиров не было, давно все
видели дружбу Павла Павловича и Ольги. Вершнев только для формальности
спросил Ольгу: — Ты согласна выйти замуж за Павла? Ольга немного покраснела и сказала: — Ну конечно. Лапоть надул губы: — Никто так не делает. Надо было
пручаться (сопротивляться), а мы тебя уговаривали бы. Так скучно. Калина Иванович сказал: — Скучно чи не скучно, а надо о деле
говорить. Вы вот нам аккуратно скажите: как это будет всё — хозяйство и всё
такое? Осип Иванович потрогал усы: — Значит, так: если ваше согласие,
свадьбу там, венчанье проведём, молодые после того к старикам — жить, значит,
вместе и хозяйство вместе. — А для кого новую хату
строили? — спросил Карабанов. — А то хата будет для Михайла. — Так Павло ж старший? — Старший, конечно, он старший, от
же старый так решил. Бо Павло жинку берёт из колонии. — Ну так что, что из колонии? —
недружелюбно забурчал Коваль. Осип Иванович не сразу нашёл слова.
Тоненьким голосом затарахтел Кузьма Петрович: — Так получается. Павло Иванович
говорят: до хозяина и хозяйку нужно, бо у хозяйки и батько есть, тесть,
выходит так, — Михайло берёт у Сергея Гречаного. А ваша, значит, в
невестки пойдёт при Павле Павловиче. И Павло Павлович же и согласие дали. Карабанов махнул рукой: — С такими разговорами и до гарбуза
можно добалакаться. Какое нам дело, что Павел Павлович дал согласие! Он
просто, выходит, ну, шляпа, тай гощди. Совет командиров Олю так выдать не
может. Если так говорить, так это в батрачки к старому чёрту… — Семён… — нахмурился Колька. — Ну хорошо, беру чёрта обратно. Это
раз. А потом, про какое там венчанье говорили? — А это уже как полагается — не было
такого дела, чтобы без попов женились. Такого у нас на селе не было. — Так будет, — сказал Коваль. Кузьма Петрович зачесал в бородке: — Кто его знает, чи будет, чи не
будет. У нас так считается, будто нехорошо: это же выходит — невенчанным
жить. В совете замолчали. Все думали об одном и
том же: свадьбы не выйдет. Я даже боялся, что в случае неудачи ребята
выпроводят сватов без особенных почестей. — Ольга, ты пойдёшь к попам? —
спросил Колька. — Ты что? Плохо позавтракал? Ты
забыл, что я комсомолка? — С попами дело не пойдёт, —
сказал я сватам, — думайте как‑нибудь иначе. Ведь вы знали, куда
шли. Как вам могло прийти в голову, что мы согласимся на церковь? Силантий поднялся с места и наладил для
речи свой палец. — Силантий, говорить будешь? —
спросил Колька. — Здесь это, спросить хочу. — Ну спрашивай. — Здесь это, Кузьма такой, видишь,
человек, мечтатель, как говорится. А вот пусть Осип Иванович скажет: для
какого хрена водолазы, здесь это, понадобились? Ты лучше бы, здесь это,
кабана выкормил. — Да хай они сказятся! —
засмеялся Стомуха. — А если встречу одного, так и с охоты вертаюсь. — Значит, здесь это, Кузьме нужно
долгогривые, как говорится. Кузьма Петрович заулыбался: — Хи‑хи, не в том дело, что
нужны, и никакой же пользы от них, это само собой. Так видишь что: деды наши
и прадеды так делали, а тут ещё и Павло Иванович говорит: девку берём бедную,
без этого, сказать бы, приданного, ну и всё такое… Калина Иванович стукнул кулаком по столу: — Это что за разговоры? Кто тебе дал
право такое мурлякать? Кто это такой богатый прийшов сюда, задаваться тут
будеть? Ты думаешь, как ты с твоим Павлом Ивановичем из земли хату смазали,
так уже и губы вам надувать? У него, паразита, понимаешь, стоить стол та две
лавки, та кожух заховав в скрыне, так он уже миллионер какой? Кузьма Петрович перепугался и запищал: — Та разве ж кто задавался тут? Мы
только так сказали насчёт как бы приданного. — Ты знаешь, куда ты прийшов, чи не
знаешь? Тут тебе совецькая власть, чи ты, може, не видав совецькой власти?
Совецькая власть может дать такое приданое, что все твои вонючие деды в
гробах тричи (трижды) перевернуться, паразиты. — Та мы ж… — слабо возражал Кузьма
Петрович. Хлопцы хохотали и аплодировали Калине
Ивановичу. Калина Иванович разошёлся не на шутку. — Это пускай совет командиров
обсудить хорошенько. Факт: пришли они свататься к нам, нам же нужно подумать,
чи отдавать нашу дочку Ольгу за такого голодранция, как этот самый
Николаенко, который только и видит, что картошку с цибулей лопает да лободу
разводить, паразит, заместо хлеба. А мы люди богатые, нам нужно осторожно
думать. Общий восторг совета командиров и всех
присутствующих показал, что никаких проблем не существует больше. Сваты на
время были удалены, и совет командиров приступил к обсуждению, что дать Ольге
в приданое. Хлопцы были задеты за живое всеми
предыдущими переговорами и назначили Ольге приданое, по каким угодно меркам
совершенно выдающееся. Позвали Шере, боялись, что он запротестует против
больших выдач, но Шере и минутки не подумал и сказал строго: — Это правильно. Пусть нам будет
тяжело, но Воронову нужно выдать богато, богаче всех в округе. Куркулям нужно
показать место. Поэтому при обсуждении приданого если и
были возражения, то только такого типа: И что ты мелешь: лошонка! Не лошонка, а
коня нужно дать. Через час отдышавшихся на свежем воздухе
сватов вызвали в совет, и Колька Вершнев поднялся за своим столом и произнес,
немного закикаясь, такую внушительную речь: — Совет командиров постановил: Ольгу
выдать за Павла. Павло переходит в отдельную хату, и батько выделяет ему
хозяйство, какое может. Никаких попов, записаться в загсе. Первый день
свадьбы у нас празднуем, а вы там, как хотите. Ольге на хозяйство даём:
корову с теленком симментальной породы, кобылу с лошонком, пятеро овец,
свинью английской породы… Колька успел охрипнуть, пока дочитал
длиннейший список Ольгиного приданого. здесь были и инвентарь, и семена, и
запасы кормов, одежда, бельё, мебель, и даже швейная машинка. Колька кончил
так: — Мы будем помогать Ольге всегда,
если потребуется, и они обязаны, если нужно, помогать колонии без всякого
отказа. А Павлу дать звание колониста. Сваты испуганно хлопали глазами и имели
такой вид, будто они причащаются перед смертью. Уже не беспокоясь о том,
правильно выходит или неправильно, прибежали смеющиеся девчата и перевязали
сватов рушниками, а пацаны во главе с Тоськой поднесли им на блюде, покрытым рушником,
хлеб и соль. Растерявшиеся, неповоротливые сваты взяли хлеб и не знали, куда
его девать. Тоська из‑под мышки Кузьмы Петровича вытащил блюдо и сказал
весело: — Э, это отдайте, а то попадёт мне
от мельника. Это его… иакая тарелка. На моём столе разостлали девчата
скатерть, поставили три бутылки кагора и полтора десятка стаканов. Калина
Иванович налил всем и поднял стакан: — Ну, чтоб росла та слухала. — Кого ей слухать? — спросил
Осип Иванович. — А известно кого: совет командиров
и вообще совецькую власть. Мы все чокнулись, выпили вино и закусили
бутербродами с колбасой. Кузьма Петрович кланялся: — Ну, спасибо вам, что так всё
хорошо, будем, значить, поздравлять Павла Ивановича и Евдокию Степановну. — Поздравляй, поздравляй, —
сказал Калина Иванович. Осип Иванович пожал нам руки: — А вы того… молодец народ, куда нам
с вами тягаться! Сваты, тихие и скромные, как институтки,
вышли из кабинета и направились к деревне. Мы смотрели им вслед. Калина
Иванович вдруг прищурился весело и недовольно дёрнул плечом: — Нет, это не годится так! Что же
они пошли, как адиоты? Нагони их, Петро, скажи, чтобы ко мне шли на квартиру,
а ты, Антон, запряжи через часик да и подьезжай. Через час хлопцы со смехом погрузили
сватов в бричку, ещё перевязанных рушниками, но уже потерявших много других
отличий официальных послов, в том числе и членораздельную речь. Кузьма
Петрович, правда, не забыл хлеб и любовно прижимал его к груди. Молодец, как
пёрышко, понёс тяжёлую бричку по песчаной дороге. Калина Иванович сплюнул: — Это он нарочно таких бедных
прислал, паразит. — Кто? — Да этот самый Николаенко. Это он,
значить, показать хотел: какая невеста, такие и сваты. — Здесь это, не то, — сказал
Силантий. — Тут такая, видишь, история: другой сват не пошёл бы, как
говорится, без попов, а эти люди, здесь это, на попов плевать, такие люди…
уже не такие! А старый хрен, здесь это, им так чёрт с ними, с попами. Видишь,
какая история. В середине августа назначили свадьбу,
работали комиссии, готовили спектакль. Забот было много, а ещё больше расходов,
и Калина Иванович даже грустил: — Если бы всех наших девчат выдавать
замуж таким манером, так бери, Антон Семёнович, хлопцив и меня, старого
дурня, тай веди просить милостыню… А нельзя ж иначе… В день свадьбы с утра колония окружена
часовыми — два отряда пришлось выделить для охраны. Только семидесяти лицам
разослали мы напечатанные в типографии приглашения. На них было написано: "Совет командиров трудовой колонии
имени Максима Горького просит Вас пожаловать на обед, а вечером на спектакль
по случаю выпуска из колонии колонистки Ольги Вороновой и выхода её замуж за
тов. П.П.Николаенко, Совет командиров". К двум часам дня в колонии всё готово. В
саду вокруг фонтана накрыты парадные столы. Украшение этого места — подарок
кружка Зиновия Ивановича: на тонких тростях, установленных над столовой,
везде, куда с трудом проникли руки колонистов и куда так легко проникает
сейчас глаз, повисли тонкие зелёные гирлянды, сделанные из нежных берёзовых
побегов. На столах в кувшинах букеты «снежных королев». Сегодня можно с уверенной радостью
видеть, как выросла и похорошела колония. В парке широкие, посыпанные песком
дорожки подчёркивают зелёное богатство трёх террас, на которых каждое дерево,
каждая группа кустов, каждая линия цветника проверены в ночных раздумьях,
политы трудовым потом сводных отрядов, как драгоценными камнями, украшены
заботами и любовью коллектива. Высоты и низины речного берега сурово и
привольно‑ласково дисциплинированы: то десяток деревянных ступенек, то
берёзовые перильца, то квадратный ковёрчик цветов, то узенькие витые дорожки,
то платформа набережной, усыпанная песком, ещё раз доказывают, насколько
умнее и выше природы человек, даже вот такой босоногий. И на просторных
дверях этого босоного хозяина, на месте глубоких ран, оставленных ему в наследство,
он, пасынок старого человечества, тоже коснулся везде рукой художника. Двести
кустов роз высадили здесь колонисты ещё осенью, а сколько здесь астр,
гвоздики, левкоев, ярко‑красной герани, синеньких колокольчиков и ещё
неизвестных и не названных цветов — колонисты даже никогда и не считали.
Целые шоссе протянулись по краям двора, соединяя и отграничивая площадки
отдельных домов, квадраты и треугольники райграса осмыслили и омолодили
свободные пролёты, кое‑где твёрдо стали зелёные садовые диваны. Хорошо, уютно, красиво и разумно стало в
колонии, и я, видя это, горжусь долей своего участия в украшении земли. Но у
меня свои эстетические капризы: ни цветы, ни дорожки, ни тенистые уголки ни
на одну минуту не заслоняют от меня вот этих мальчиков в синих трусиках и
белых рубашках. Вот они бегают, спокойно прохаживаются между гостями, вот они
хлопочут вокруг столов, стоят на постах, сдерживая сотни ротозеев, пришедших
посмотреть на невиданную свадьбу, — вот они, горьковцы. Они стройны и
собранны, у них хорошие, подвижные талии, мускулистые и здоровые, не знающие,
что такое медицина, тела и свежие красногубые лица. Лица эти делаются в
колонии — с улицы приходят в колонию совсем не такие лица. У каждого из них есть свой путь и есть
путь у колонии имени Горького. Я ощущаю в своих руках многие начала этих
путей, но как трудно рассмотреть в близком тумане будущего их направления,
продолжения, концы. В тумане ходят и клубятся стихии, ещё не побеждённые
человеком, ещё не крещённые в плане и математике. И в нашем марше среди этих
стихий есть своя эстетика, но эстетика цветов и парков уже не волнует меня. Не волнует ещё и потому, что подходит ко
мне Мария Кондратьевна и спрашивает: — Что это вы, папаша, грустите в
одиночестве? — Как же мне не грустить, когда меня
все бросили, даже и вы? — Я рада вас утешить, я даже нарочно
искала вас и выставки приданого не хотела без вас смотреть. Пойдёмте. В двух классах собрано всё хозяйство
Ольги. На выставке толпятся гости, сердитые, завистливые бабы поджимают губы
и злобно‑внимательно присматриваются ко мне. Они высокомерно обошли
нашу невесту и женили своих сыновей на хуторских девчатах, а теперь
оказывается, что самые заможние невесты были у них под боком. Я признаю их
право относиться ко мне с негодованием. Бокова говорит: — Но что вы будете делать, если к
вам сваты станут ходить толпами? — Я застрахован, — отвечаю
я, — наши невесты переборчивы. Прибежал вдруг пацан, перепуганный
насмерть: — Едут! Во дворе уже играют требовательный сигнал
общего сбора. У вьезда вытянулся строй колонистов со знаменем и взводом
барабанщиков, как полагается. Из‑за мельницы показалась наша пара:
лошади убраны красными ленточками, на козлах Братченко, тоже украшенный
бантом. Мы отдаём салют молодым. Антон натягивает вожжи, и Оля радостно
бросается мне на шею. Она волнуется, плачет и смеётся и говорит мне: — Вы же смотрите, не бросайте меня,
а то мне уже страшно. Мы начинаем маленький митинг. Мария
Кондратьевна неожиданно умиляет меня: от имени наробраза она подносит молодым
подарок — сельскохозяйственную библиотеку. Целую кучу книг приносят за нею
два колониста на убранных цветами носилках. После митинга мы ставим молодых под знамя
и всем строем эскортируем их к столам. Им приготовлено почётное место, и
сзади них останавливается знамённая бригада. Дежурный колонист заботливо
меняет караул. Двадцать колонистов в белоснежных халатах начинают подавать
пищу. Особый сводный отряд Таранца внимательно проводит глазами по линии
карманов гостей и бесшумно спускает в Коломак несколько бутылок самогона,
реквизированных с ловкостью фокусников и вежливостью хозяев. Я сижу рядом с молодыми, по другую
сторону от них Павел Иванович и Евдокия Степановна. Павел Иванович, строгий
человек с бородкой Николая‑чудотворца, тяжело вздыхает: то ли ему
досадно отделять сына, то ли скучно смотреть на бутылку пива, ибо у него
Таранец только что отнял самогон. Колонисты сегодня чудесны, я любуюсь ими
не уставая. Оживлены, добродушны, приветливы и как‑то по особому
ироничны. Даже одиннадцатый отряд, заседающий на другом конце стола, завёл
длинные и задорные разговоры с прикомандированной к ним пятёркой гостей. Я
немножко беспокоюсь, не очень ли откровенно там высказываются. Подхожу.
Шелапутин, до сих пор сохранивший свой дискант, наливает пиво Козырю и
говорит: — А вас попы венчали, так, видите, и
плохо. — А давайте мы вас
перевенчаем, — предлагает Тоська. Козырь улыбается: — Поздно мне, сынки перевенчиваться. Козырь крестится и выпивает пиво. Тоська
хохочет. — Теперь у вас живот заболит… — Спаси господи, отчего? — А зачем перекрестились? Рядом сидит селянин с запутанной светло‑соломенной
бородой — гость по списку Павла Ивановича. Он первый раз в колонии, и его всё
удивляет: — Хлопцы, а это правда, что вы тут
хозяева? — Ну а кто ж? — отвечает Шурка. — А для чего ж вам хозяйство? Тоська Соловьёв поворачивается к нему
всем телом: — А разве вы не знаете, для чего? То
мы батраками были, а то нет. — А чем ты теперь будешь, к примеру? — Ого! — говорит Тоська,
подымая пирог высоко за ухом. — Я буду инженером, так и Антон Семёнович
говорит, а Шелапутин будет лётчиком. Он насмешливо посматривал на своего друга
Шелапутина. Это потому, что его линия лётчика ещё никем не признана в
колонии. Шелапутин энергично жуёт: — Угу, буду лётчиком. — А вот, скажем, насчёт
крестьянства, так у вас нету охочих? — Как нету? Есть. Только наши будут
не такими крестьянами, — Тоська быстро взглядывает на собеседника. — Вот оно какое дело! Значится, как
же это понять: не такими? — Ну не такими. Тракторы будут. Вы
видели трактор? — Нет, не довелось. — А мы видели. Там есть такой совхоз,
так мы туда свиней отвозили. Там трактор есть, как жук такой… Длинная линия гостей основательно связана
нашими отрядами. Я ясно различаю границы отрядов и вижу их центры, в которых
сейчас наиболее шумно. Веселее всего в девятом отряде, потому что там Лапоть,
вокруг него хохочут и стонут и колонисты и гости. Сегодня Лапоть,
сговорившись со своим другом Таранцом, устроили большую и сложную каверзу с
компанией мельничной верхушки, сидящей за столом девятого отряда и порученной
по приказу его вниманию. Это плотный и пушистый мельник, худой и острый
бухгалтер и вальцовщик — человек скромный. Когда‑то Таранец был
карманщиком, и для него пустым делом было вынуть из кармана мельника бутылку
с самогоном и заменить её другой, наполненной обыкновенной водой из Коломака. За столом мельник и бухгалтер долго
стеснялись и оглядывались на сводный отряд Таранца. Но Лапоть успокоительно
моргнул: — Вы люди свои, я устрою. Он наклоняет к себе голову проходящего
Таранца и что‑то ему шепчет. Таранец кивает головой. Лапоть конфиденциально советует: — Вы под столом налейте и пивом
закрасьте, и хорошо. После акробатических упражнений под
столом возле жаждущих стоят стаканы, полные подозрительно бледного пива, и
счастливые обладатели их нервно готовят закуску под внимательным взглядом
притаившегося девятого отряда. Наконец всё готово, и мельник хитро моргает
Лаптю, поднося стакан к бороде. Бухгалтер и вальцовщик ещё осторожно
равняются направо и налево, но кругом всё спокойно. Таранец скучает у тополя.
Глаза Лаптя начинают пламенеть, и он прикрывает их веками. Мельник говорит тихонько: — Ну хай буде всё добре. Девятый отряд, наклонив головы,
наблюдает, как три гостя осушают стаканы. Уже в последних бульканьях
замечается некоторая неуверенность. Мельник ставит пустой стакан на стол и
посматривает осторожным глазом на Лаптя, но Лапоть скучно жуёт и о чём-то
далёком думает. Бухгалтер и вальцовщик изо всех сил
стараются показать, что ничего особенного не случилось, — и даже тыкают
вилками в закуску. Бывалый мельник под столом рассматривает
бутылку, но его нежно кто‑то берёт за руку. Он подымает голову: над ним
продувная веснушчатая физиономия Таранца. — Как же вам не стыдно — говорит
Таранец и даже краснеет от искренности. — Было же сказано, нельзя
приносить самогон, а ещё свой человек… И смотри ты, уже и выпили. А кто с
вами? — Та чёрт его знает, —
потерялся мельник, — чи выпили, чи нет, и не разберу. — Как это не разберёте? А ну
дыхните! Ну… смотри ты, не разберёт! От вас же несёт, как из бочки. И как вам
не стыдно: прийти в колонию с такими вещами… — А что такое? — издали
заинтересовывается Калина Иванович. — Самогон, — говорит Таранец,
показывая бутылку. Калина Иванович грозно смотрит на
мельника. Девятый отряд давно уже находится в припадочном состоянии, вероятно
потому, что Лапоть что‑то смешное рассказывает о Галатенко. Ребята
положили головы на столы и больше не могут выносить ничего смешного. Здесь веселья хватит до конца обеда,
потому что Лапоть время от времени спрашивает мельника: — А что — мало? А больше нет? Вот
горе!.. А хорошая была? Так себе?.. Вот только Фёдор, жалко, придирается. Ну
что ты пристал, Федька, — свои же люди! — Нельзя, — говорит серьёзно
Таранец. — Смотри, они насилу сидят. У Лаптя впереди ещё большая программа. Он
ещё будет бережно поднимать мельника из‑за стола и на ухо шептать ему: — Давайте мы вас садом проведём, а
то заметно очень… Восьмой отряд Карабанова сегодня на
охране, но он сам то и дело появляется возле столов, в том месте, где ярким
костром горит философия, возбуждённая необычной свадьбой. Здесь Коваль,
Спиридон, Калина Иванович, Задоров, Вершнев, Волохов и председатель коммуны
имени Луначарского, с козлиной рыжей бородкой умный Нестеренко. Коммуна за рекой живёт неладно, не
управляется с полями, не умеет развесить и разложить нагрузки и права, не
осиливает бабьих вздорных характеров и не в силах организовать терпение в
настоящем и веру в завтрашний день. Нестеренко грустно итожит: — Надо бы новых каких‑то людей
достать… А где их достанешь? Калина Иванович горячо отвечает: — Не так говоришь, товарищ
Нестеренко, не так… Эти новые, паразиты, ничего не способны сделать как
следовает. Надо обратно стариков прибавить… За столами становится шумнее. Принесли
яблоки и груши наших садов, и на горизонте показались бочки с мороженым —
гордость сегодняшнего дежурства. За домом захрипела гармошка, и испортило
день визгливое бабье пение — одна из казней свадебного ритуала. Полдесятка
баб кружились и топали перед пьяненьким кислооким гармонистов, постепенно
подвигаясь к нам. — За приданым приехали, —
сказал Таранец. Румяная костлявая женщина затопала,
видимо, специально для меня, выставляя вперёд локти и шаркая по песку
неловкими большими башмаками. — Папаша ридный, папаша дорогый,
пропивай дочку, выряжай дочку… В руках у неё
откуда‑то взялась бутылка с самогоном и гранёная, почему‑то
коричневого цвета, рюмка. Она с пьяного размаху налила в рямку, поливая землю
и своё платье. Между мною и ею стал Таранец: — Довольно с тебя. Он легко отнял у неё угощение, но она уже
забыла обо мне и жадно набросилась на Ольгу с радостно‑пьяным
причитанием: — Красавица наша, Ольга Петровна! И
косы распустила… Не годится так, не годится. Вот завтра очипок наденем,
ходить в очипке будешь. — И не надену, — неожиданно
строго сказала Ольга. — А как же? Так с косами и будешь? — Ну да, с косами. Бабы что‑то завизжали, заговорили,
наступая на Ольгу. Злой, раздраженный Волохов растолкал их и в упор спросил
главную: — А если не наденет, так что? — Тай не надевай, вам же лучше
знать, всё равно не венчались! Подошли дипломаты‑дядьки и развели
хохочущих, облитых самогоном баб в разные стороны. Мы с Ольгой вышли из
парка. — Я их не боюсь, — сказала
Ольга, — а только трудно будет. Мимо нас колонисты проносили мебель и
узлы с костюмами. Сегодня идёт «Женитьба» Гоголя, а перед спектаклем ещё и
лекция Журбина «Свадебные обычаи у разных народов». Ещё далеко, очень далеко до конца
праздника. |
|
||||
|
|
11. Лирика
Вскоре после свадьбы Ольги нагрянула на
нас давно ожидаемая беда: нужно было провожать рабфаковцев. Хотя о рабфаке
говорили ещё со времён «нашего найкрайщего» и к рабфаку готовились ежедневно,
хотя ни о чём так жадно не мечтали, как о собственных рабфаковцах, и хотя всё
это дело было делом радостным и победным, а пришёл день прощанья, и у всех
засосало под ложечкой, навернулись на глаза слёзы, и стало страшно: была
колония, жила, работала, смеялась, а теперь вот разьезжаются, а этого как
будто никто и не ожидал. И я проснулся в этот день со стеснённым чувством
потери и беспокойства. После завтрака все переоделись в чистые
костюмы, приготовили в саду парадные столы, в моём кабинете знамённая бригада
снимала со знамени чехол и барабанщики приделывали к своим животам барабаны.
И эти признаки праздника не могли потушить огоньков печали; голубые глаза
Лидочки была заплаканы с утра: девчонки откровенно ревели, лежа в постелях, и
Екатерина Григорьевна успокаивала их безуспешно, потому что и сама еле
сдерживала волнение. Хлопцы были серьёзны и молчаливы, Лапоть казался
бесталанно скучным человеком, пацаны располагались в непривычно строгих
линиях, как воробьи на проволоке, и у них никогда не было столько насморков.
Они чинно сидят на скамейках и барьерах, заложив руки между колен, и
рассматривают предметы, помещающиеся гораздо выше их обычного поля зрения:
крыши, верхушки деревьев, небо. Я разделяю их детское недоумение, я
понимаю их грусть — грусть людей, до конца уважающих справедливость. Я
согласен с Тоськой Соловьёвым: с какой стати завтра в колонии не будет Матвея
Белухина? Неужели нельзя устроить жизнь более разумно, чтобы Матвей никуда не
уезжал, чтобы не было у Тоськи большого, непоправимого, несправедливого горя?
А разве у Матвея один корешок Тоська, и разве уезжает один Матвей? Уезжают
Бурун, Карабанов, Задоров, Крайник, Вершнев, Голос, Настя Ночевная, и у
каждого из них корешки насчитываются дюжинами, а Матвей, Семён и Бурун —
настоящие люди, которым так сладко подражать и жизнь без которых нужно
начинать сначала. Угнетали колонию не только эти чувства. И
для меня, и для каждого колониста ясно было, что колонию положили на плаху и
занесли над нею тяжёлый топор, чтобы отяпать ей голову. Сами рабфаковцы имели такой вид, будто их
приготовили для того, чтобы принести в жертву «многим богам необходимости и
судьбы». Карабанов не отходил от меня, улыбался и говорил: — Жизнь так сделана, что как‑то
всё неудобно. На рабфак ехать, так это ж счастье, это, можно сказать, чи
снится, чи якась жар‑птица, чёрт его знает. А на самом деле, може, оно
и не так. А може, и так, что счастье наше сегодня отут и кончается, бо
колонии жалко, так жалко… як бы никто не бачив, задрав бы голову и завыв, ой,
завыв бы… аж тоди, може, и легче б стало… Нэма правды на свете. Из угла кабинета смотрит на нас злым
глазом Вершнев: — Правда одна: люди. — Сказал! — смеётся
Карабанов. — А ты что… ты уже и у кошек правду шукав? — Н‑н‑нет, не в том дело…
а в том, что люди должны быть хорошие, иначе к‑к ч‑чёрту в‑всякая
правда. Если, понимаешь, сволочь, так и в социализме будет мешать. Я это
сегодня понял. Я внимательно посмотрел на Николая: — Почему сегодня? — Сегодня люди, к‑к‑как
в зеркале. А я не знаю: то всё была работа, каждый день такой… рабочий, и всё
такое. А сегодня к‑к‑как‑то видно. Горький правду написал,
я раньше не понимал, то есть и понимал, а значения не придавал: человек. Это
тебе не всякая сволочь. И правильно: есть люди, а есть и человеки. Такими словами прикрывали рабфаковцы
свежие раны, уезжая из колонии. Но они страдали меньше нас, потому что
впереди у них стоял лучезарный рабфак, а у нас не было впереди ничего
лучезарного. Накануне собрались вечером воспитатели на
крыльце моей квартиры, сидели, стояли, думали и застенчиво прижимались друг к
другу. Колония спала тихо, тепло, звёздно. Мир казался мне чудесным сиропом
страшно сложного состава: вкусно, увлекательно, а из чего он сделан — не
разберёшь, какие гадости в нём растворены — неизвестно. В такие минуты
нападают на человека философские жучки, и человеку хочется поскорее понять
непонятные вещи и проблемы. А если завтра от вас уезжают «насовсем» ваши
друзья, которых вы с некоторым трудом извлекли из социального небытия, в
таком случае человек тоже смотрит на тихое небо и молчит, и мгновениями ему
кажется, будто недалёкие осокори, вербы, липы шёпотом подсказывают ему
правильные решения задачи. Так и мы бессильной группой, каждый в
отдельности и все согласно молчали и думали, слушали шёпот деревьев и
смотрели в глаза звёздам. Так ведут себя дикари после неудачной охоты. Я думал вместе со всеми. В ту ночь, ночь
моего первого настоящего выпуска, я много передумал всяких глупостей. Я
никому не сказал о них тогда; моим коллегам даже казалось, что это они только
ослабели, а я стою на прежнем месте, как дуб, несокрушимый и полный силы. Им,
вероятно, было даже стыдно проявлять слабость в моём присутствии. Я думал о том, что жизнь моя каторжная и
несправедливая. О том, что я положил лучший кусок жизни только для того,
чтобы полдюжины «правонарушителей» могли поступить на рабфак, что на рабфаке
в большом городе они подвергнутся новым влияниям, которыми я не могу
управлять, кто его знает, чем всё это кончится? Может быть, мой труд и моя
жертва окажутся просто ненужным никому сгустком бесплодно израсходованной
энергии?.. Думал и о другом: почему такая
несправедливость?.. Ведь я сделал хорошее дело, ведь это в тысячу раз труднее
и достойнее, чем пропеть романс на клубном вечере, даже труднее, чем сыграть
роль в хорошей пьесе, хотя бы даже и в МХАТе… Почему там артистам сотни людей
аплодируют, почему артисты пойдут спать домой с ощущением людского внимания и
благодарности, почему я в тоске сижу тёмной ночью в заброшенной в полях
колонии, почему мне не аплодируют хотя бы гончаровские жители? Даже хуже: я
то и дело тревожно возвращаюсь к мысли о том, что для выдачи рабфаковцам
«приданого» я истратил тысячу рублей, что подобные расходы нигде в смете не
предусмотрены, что инспектор финотдела, когда я к нему обратился с запросом,
сухо и осуждающе посмотрел на меня и сказал: — Если вам угодно, можете истратить,
но имейте в виду, что начёт на ваше жалованье обеспечен. Я улыбнулся, вспомнив этот разговор. В
моём мозгу сразу заработало целое учреждение: в одном кабинете кто‑то
горячий слагал убийственную филиппику против инспектора, в соседней комнате
кто‑то бесшабашный сказал громко: «Наплевать», — а рядом, нависнув
над столами, услужливая мозговая шпана подсчитывала, в течение скольких
месяцев придётся мне выплачивать по начёту тысячу рублей. Это учреждение
работало добросовестно, несмотря на то, что в моём мозгу работали и другие
учреждения. В соседнем здании шло торжественное
заседание: на сцене сидели наши воспитатели и рабфаковцы, стоголосый оркестр
гремел «Интернационал», учёный педагог говорил речь. Я снова мог улыбнуться: что хорошего мог
сказать учёный педагог? Разве он видел Карабанова с наганом в руке,
«стопорщика» на большой дороге, или Буруна на чужом подоконнике, «скокаря»
Буруна, друзья которого по подоконникам были расстреляны? Он не видел. — О чём вы всё думаете? —
спрашивает меня Екатерина Григорьевна. — Думаете и улыбаетесь? — У меня торжественное
заседание, — говорю я. — Это видно. А всё-таки скажите нам,
как мы теперь будем без ядра? — Ага, вот ещё один отдел будущей
педагогической науки, отдел о ядре. — Какой отдел? — Это я о ядре. Если есть коллектив,
то будет и ядро. — Смотря какое ядро. — Такое, какое нам нужно. Нужно быть
более высокого мнения о нашем коллективе, Екатерина Григорьевна. Мы здесь
беспокоимся о ядре, а коллектив уже выделил ядро, вы даже и не заметили.
Хорошее ядро размножается делением, запишите это в блокнот для будущей науки
о воспитании. — Хорошо, запишу, — соглашается
уступчиво Екатерина Григорьевна. На другой день воспитательский коллектив
был невыразителен и торжествовал строго официально. Я не хотел усиливать
настроения и играл, как на сцене, играл радостного человека, празднующего
достижение лучших своих желаний. В полдень пообедали за парадными столами
и много и неожиданно смеялись. Лапоть в лицах показывал, что получится из
наших рабфаковцев через семь‑восемь лет. Он изображал, как умирает от
чахотки инженер Задоров, а у кровати его врачи Бурун и Вершнев делят
полученный гонорар, приходит музыкант Крайник и просит за похоронный марш
уплатить немедленно, иначе он играть не будет. но в нашем смехе и в шутках
Лаптя на первый план выпирала не живая радость, а хорошо взнузданная воля. В три часа построились, вынесли знамя.
Рабфаковцы заняли места на правом фланге. От конюшни подьехал на Молодце
Антон, и пацаны нагрузили на воз корзинки отьезжающих. Дали команду, ударили
барабаны, и колонна тронулась к вокзалу. Через полчаса вылезли из сыпучих
песков Коломака и с облегчением вступили на мелкую крепкую траву просторного
шляха, по которому когда‑то ходили театры и запорожцы. Барабанщики
расправили плечи, и палочки в их руках стали веселее и грациознее. — Подтянись, голову выше! —
потребовал я строго. Карабанов на ходу, не сбиваясь с ноги,
обернулся и обнаружил редкий талант: в простой улыбке он показал мне и свою
гордость, и радость, и любовь, и уверенность в себе, в своей прекрасной
будущей жизни. Идущий рядом с ним Задоров сразу понял его движение, как
всегда застенчиво поспешил спрятать эмоцию, стрельнул только живыми глазами
по горизонту и поднял голову к верхушке знамени. Карабанов вдруг начал высоко
и задорно песню: Стелыся, барвинку, нызенько, Присунься, козаче, блызенько. Обрадованные шеренги подхватили песню. У
меня на душе стало, как Первого мая на площади. Я точно чувствовал, что у
меня и у всех колонистов одно настроение: как‑то вдруг стало важно,
подчёркнуто главное — колония имени Горького провожает своих первых. В честь
их реет шёлковое знамя, и гремят барабаны, и стройно колышется колонна в
марше, и порозовевшее от радости солнце уступает дорогу, приседая к западу,
как будто поёт с нами хорошую песню, хитрую песню, в которой снаружи
влюблённый казак, а на самом деле — отряд рабфаковцев, уезжающий в Харьков по
вчерашнему приказу совета командиров, «седьмой сводный отряд под командой
Александра Задорова». Ребята пели с наслаждением и искоса поглядывали на
меня: они были довольны, что и мне с ними весело. Сзади давно курилась пыль, и скоро мы
узнали и всадника: Оля Воронова. Она спрыгнула и предложила мне: — Садитесь. Хорошее седло —
казацкое. А я чуть‑чуть не опоздала. — Что я за полководец? — сказал
я. — Пускай Лапоть садится, он теперь ССК (секретарь совета командиров). — Правильно, — сказал Лапоть и,
взгромоздившись на коня, поехал впереди колонны, подбоченевшись и покручивая
несуществующий ус. Пришлось дать команду «вольно», потому
что и Ольге нужно было высказаться, и Лапоть чересчур спешил колонистов. На вокзале было торжественно‑грустно
и бестолково‑радостно. Студенты залезли в вагон и гордо посматривали на
наш строй и на взволнованную нашим приходом публику. После второго звонка Лапоть сказал
короткую речь: — Смотри ж, сынки, не подкачай.
Шурка, ты построже их держи. Да не забудьте этот вагон сдать в музей. И
надпись чтобы написали: в этом вагоне ехал на рабфак Семён Карабан. Назад пошли лугами по узким дорожкам,
кладкам, ручейкам и канавкам, через которые нужно было прыгать. Поэтому
разбились на приятельские кучки, и в наступивших сумерках тихонько
выворачивали души и без всякого хвастовства показывали их друг другу. Гуд
сказал: — От я не поеду ни на какой рабфак.
Я буду сапожником и буду шить хорошие сапоги. Это разве хуже? Нет, не хуже. А
жалко, что хлопцы уехали, правда ж, жалко? Корявый, кривоногий, основательный
Кудлатый строго посмотрел на Гуда: — Из тебя и сапожник поганый выйдет.
Ты мне на прошлой неделе пришил латку, так она отвалилась к вечеру. А хороший
сапожник так и лучше доктора может быть. В колонии вечером была утомлённая тишина.
Только перед самым сигналом «спать» пришёл дежурный командир Осадчий и привёл
пьяного Гуда. Он был не столько, впрочем, пьян, сколько нежен и лиричен. Не
обращая внимания на общее неголование, Гуд стоял передо мною и негромко
говорил, глядя на мою чернильницу: — Я выпил, потому что так и нужно. Я
сапожник, но душа у меня есть? Есть. Если столько хлопцев поуехали куда‑то
к чертям и Задоров тоже, могу я это так перенести? Не могу я так перенести. Я
пошёл и выпил на заработанные деньги. Подмётки мельнику прибивал? Прибивал.
На заработанные деньги и выпил. Я зарезал кого‑нибудь? Оскорбил? Может,
девочку какую тронул? Не тронул. А он кричит: идём к Антону! Ну и идём. А кто
такой Антон… это значит вы, Антон Семёнович? Кто такой? Зверь? Нет, не зверь.
Он человек какой, — может, бузовый? Нет, не бузовый. Ну так что ж! Я и
пришёл. Пожалуйста! Вот перед вами — плохой сапожник Гуд. — Ты можешь выслушать, что я скажу? — Могу. Я могу слушать, что вы
скажете. — Так вот, слушай, сапоги шить —
дело нужное, хорошее дело. Ты будешь хорошим сапожником и будешь директором
обувной фабрики только в том случае, если не будешь пить. — Ну а если вот уедут столько
человек? — Всё равно. — Значит, я тогда неправильно выпил,
по‑вашему? — Неправильно. — Поправить уже нельзя? — Гуд
низко склонил голову. — Накажите, значит. — Иди спать, наказывать на этот раз
не буду. — Я ж говорил! — сказал Гуд
окружающим, презрительно всех оглянул и салютнул по‑колонийски: — Есть идти спать. Лапоть взял его под руку и бережно повёл
в спальню, как некоторую концентрированную колонийскую печаль. Через полчаса в моём кабинете Кудлатый
начал раздачу ботинок на осень. Он любовно вынимал из коробки новые ботинки,
пропуская по отрядам колонистов по своему списку. У дверей часто кричали: — А когда менять будешь? Эти на меня
тесные. Кудлатый отвечал, отвечал и рассердился: — Да говорил же двадцать разов:
менять сегодня не буду, завтра менять. Вот остолопы! За моим столом щурится уставший Лапоть и
говорит Кудлатому: — Товарищи, будьте взаимно вежливы с
покупателями. |
|
||||
|
|
12. Осень
Снова надвигалась зима. В октябре закрыли
бесконечные бурты с бураком, и Лапоть в совете командиров предложил: — Постановили: вздохнуть с
облегчением. Бурты — это длинные глубокие ямы, метров
по двадцать каждая. Таких ям на эту зиму Шере наготовил больше десятка да ещё
утверждал, что этого мало, что бурак нужно расходовать очень осторожно. Бурак нужно было складывать в ямах с
такой осторожностью, как будто это оптические приборы. Шере умел с утра до
вечера простоять над душой сводного отряда и вякать: — Пожалуйста, товарищи, не бросайте
так, очень прошу. Имейте в виду: если вы один бурачок сильно ударите, на этом
месте начнётся омертвение, а потом он будет гнить, и гниение пойдёт по всему
бурту. Пожалуйста, товарищи, осторожнее. Уставшие от однообразной и вообще
«бураковой» работы колонисты не пропускали случая воспользоваться намеченной
Шере темой, чтобы немного поразвлечься и отдохнуть. Они выбирают из кучи
самый симпатичный, круглый и розовый корень, окружают его всем сводным
отрядом, и командир сводного, человек вроде Митьки или Витьки, подымает руки
с растопыренными пальцами и громко шепчет: — Отойди дальше, не дыши. У кого
руки чистые? Появляются носилки. Нежные пальцы
комсводотряда берут бурачок из кучи, но уже раздаётся тревожный возглас: — Что ты делаешь? Что ты делаешь? Все в испуге останавливаются и потом кивают
головами, когда тот же голос говорит: — Надо же осторожно. Первая попавшаяся под руку спецовка
свёртывается в уютно‑мягкую подушечку, подушечка помещается на
носилках, а на ней покоится и действительно начинает вызывать умиление
розовенький, кругленький, упитанный бурачок. Чтобы не очень заметно
улыбаться, Шере грызет стебелек какой‑то травки. носилки подымают с
земли, и Митька шепчет: — Потихоньку, потихоньку, товарищи!
Имейте в виду: начнётся омертвение, очень прошу… Митькин голос обнаруживает отдалённое
сходство с голосом Шере, и поэтому Эдуард Николаевич не бросает стебелька. Закончили вспашку на зябь. О тракторе мы
тогда только начинали воображать, а плугом на паре лошадей больше полугектара
в день никак поднять не удавалось. Поэтому Шере сильно волновался, наблюдая
работу первого и второго сводных. В этих сводных работали люди более древней
формации, и командирами их бывали такие массивные колонисты, как Федоренко,
Корыто, Чобот. Обладая силой, мало уступающей силе запряжённой пары, и зная
до тонкости работу вспашки, эти товарищи, к сожалению, ошибочно переносили
методы вспашки и на все другие области жизни. И в коллективной, и в
дружеской, и в личной сфере они любили прямые глубокие борозды и блестящие
могучие отвалы. И работа мысли у них совершалась не в мозговых коробках, а
где‑то в других местах: в мускулах железных рук, в бронированной
коробке груди, в монументально устойчивых бедрах. В колонии они стойко
держались против рабфаковских соблазнов и с молчаливым презрением уклонялись
от всяких бесед на учёные темы. В чём-то они были до конца уверены, и ни у
кого из колонистов не было таких добродушно‑гордых поворотов головы и
уверенно‑экономного слова. Как активные деятели первых и вторых
сводных, эти колонисты пользовались большим уважением всех, но зубоскалы наши
не всегда были в силах удержаться от сарказмов по их адресу. В эту осень запутались первый и второй
сводные на почве соревнования. В то время соревнование ещё не было общим
признаком советской работы, и мне пришлось даже подвергаться мучениям в
застенках наробраза из‑за соревнования. В оправдание могу только
сказать, что соревнование началось у нас неожиданно и не по моей воле. Первый сводный работал от шести утра до
двенадцати дня, а второй — от двенадцати дня до шести вечера. Сводные отряды
составлялись на неделю. На новую неделю комбинация колонийских сил по сводным
отрядам всегда немного изменялась, хотя некоторая специализация и имела
место. Ежедневно перед концом работы сводного
отряда на поле выходил наш помагронома Алёша Волков с двухметровой раскорякой
и вымерял, сколько квадратных метров сделано сводным отрядом. Сводные отряды на вспашке работали
хорошо, но бывали колебания, зависящие от почвы, лошадей, склона местности,
погоды и других причин, на самом деле объективных. Алёшка Волков на фанерной
доске, повешенной для всяких объявлений, писал мелом: 19 октября 1‑й сводный Корыто… 19 октября 1‑й сводный Ветковского…
19 октября 2‑й сводный Федоренко… 19 октября 2‑й сводный Нечитайло… Само собой так случилось, что ребята
увлеклись результатами их работы и каждый сводный отряд старался перещеголять
своих предшественников. Выяснилось, что наилучшими командирами, имеющими
больше шансов остаться победителями, являются Федоренко и Корыто. С давних
пор они были большими друзьями, но это не мешало им ревниво следить за
успехами друг друга и находить всякие грехи в дружеской работе. В этой
области с Федоренко случилась драма, которая доказала всем, что у него тоже
есть нервы. Некоторое время Федоренко оставался впереди других сводных, изо
дня в день повторяя на фанерной доске Алёшки Волкова цифры в пределах 2500‑2600.
Сводные отряды Корыто гнались за этими пределами, но всегда отставали на
сорок‑пятьдесят квадратных метров, и Федоренко шутил над другом: — Брось, кум, уже ж видно, что ты
ещё молодой пахарь… В конце октября заболела Зорька, и Шере
пустил в поле одну пару, а для усиления эффекта выпросил у совета командиров
назначение Федоренко в сводный отряд Корыто. Федоренко не заметил сначала всей
драматичности положения, потому что и болезнь Зорьки, и необходимость спешить
с зябью, имея только одну запряжку, его сильно удручали. Он взялся горячо за
дело и опомнился только тогда, когда Алёшка Волков написал на своей доске: 24 октября 2‑й сводный Корыто… Гордый Корыто торжествовал победу, а
Лапоть ходил по колонии и язвил. — Да куда ж там Федоренко с Корыто
справиться! Корыто ж — это прямо агроном, куда там Федоренко! Хлопцы качали Корыто и кричали «ура», а
Федоренко, заложив руки в карманы штанов, бледнел от зависти и рычал: — Корыто — агроном? Я такого
агронома не бачив! Федоренко не давали покоя невинными
вопросами: — Ты признаёшь, что Корыто победил? Федоренко всё же додумался. В совете
командиров он сказал: — Чего Корыто задаётся? На этой
неделе опять будет одна пара. Дайте мне в первый сводный Корыто, я вам покажу
три тысячи метров. Совет командиров пришёл в восторг от
остроумия Федоренко и исполнил его просьбу. Корыто покрутил головой и сказал: — Ой, и хитрый же, чёртов Федоренко! — Ты смотри! — сказал ему
Федоренко. — Я у тебя работал на совесть, попробуй только симулировать… Корыто ещё до начала работы признал своё
тяжёлое положение: — Ну шо его робыть? От же Федоренко
Федоренком, а тут же тебе поле. А если хлопцы скажут, что я подвёл Федоренко,
плохо робыв, чи як, тоже нехорошо будет? И Федоренко, и Корыто смеялись, выезжая
утром в поле. Федоренко положил на плуг огромную палку и обратил на неё
внимание друга: — Та бачив того дрючка? Я там, в
поли, не дуже с тобою нежничать буду. Корыто краснел сначала от серьёзности
положения, потом от смеха. Когда Алёшка со своей раскорякой
возвращался с поля и уже шарил в карманах, доставая кусок мела, его встречала
вся колония, и ребята нетерпеливо допрашивали: — Ну как? Алёшка медленно, молча выписывал на
доске: 26 октября 1‑й сводный Федоренко… — Ох ты, смотри ж ты, Федоренко —
три тысячи. Подошли с поля и Федоренко с Корыто.
Хлопцы приветствовали Федоренко как триумфатора, и Лапоть сказал: — Я ж всегда говорил: куда там
Корыто до Федоренко! Федоренко — это тебе настоящий агроном! Федоренко недоверчиво посматривал на
Лаптя, но боялся что‑нибудь выразить по поводу его коварной политики,
ибо дело происходило не в поле, а во дворе, и в руках у Федоренко не было ручек
вздрагивающего, напряжённого плуга. — Как же ты сдал, Федоренко? —
спросил Лапоть. — Это потому что не по правилу,
товарищи колонисты. Я так скажу: Федоренко с дрючком выехал в поле, вот какое
дело. — С дрючком, — подтвердил
Федоренко, — плуг надо ж чистить… — И говорил: нежничать не буду. — А зачем мне с тобой нежничать? Я и
теперь скажу: на что ты мне сдался с тобой нежничать, ты ж не дивчина. — А сколько раз он тебя потянул
дрючком? — интересуются хлопцы. — Та я перелякався того дрючка, так
робыв добре, ни разу не потянул. От же ты и плуга тем дрючком не чистил,
Федоренко. — А это у меня был запасной дрючок.
А там нашлась такая удобная… той… палочка. — Если не разу не потянул, ничего не
поделаешь, — пояснил Лапоть. — Ты, Корыто, вёл неправильную политику.
Тебе нужно было так, знаешь, не спешить да ещё заедаться с командиром. Он бы
и потянул тебя дрючком. Тогда другое дело: совет командиров, бюро, общее
собрание, ой‑ой‑ой!.. — Не догадался, — сказал
Корыто. Так и осталась победа за Федоренко
благодаря его настойчивости и остроумию. Осень подходила к концу, обильная, хорошо
упакованная, надёжная. Мы немного скучали по уехавшим в Харьков колонистам,
но рабочие дни и живые люди по‑прежнему приносили к вечеру хорошие
порции смеха и бодрости, и даже Екатерина Григорьевна признавалась: — А вы знаете, наш коллектив
молодец: как будто ничего и не случилось. Я теперь ещё лучше понимал, что,
собственно говоря, ничего и не должно было случиться. Успех наших рабфаковцев
на испытаниях в Харькове и постоянное ощущение того, что они живут в другом
городе и учатся, оставаясь колонистами в седьмом сводном отряде, много
прибавили в колонии какой‑то хорошей надежды. Командир седьмого
сводного Задоров регулярно присылал еженедельные рапорты, и мы их читали на
собраниях под одобрительный, приятный гул. Задоров рапорты составлял
подробные, с указанием, кто по какому предмету кряхтит, и между делом
прибавлял неофициальные замечания: «Семён собирается влюбиться в одну
черниговку. Напишите ему, чтобы не выдумывал. Вершнев только волынит,
говорит, что никакой медицины на рабфаке не проходят, а грамматика ему
надоела. Напишите ему, чтобы не воображал». В другом письме Задоров писал: «Часто к нам приходят Оксана и Рахиль. Мы
им даём сала, а они нам кое в чём помогают, а то у Кольки грамматика, а у
Голоса арифметика не выходят. Так мы просим, чтобы совет командиров зачислил
их в седьмой сводный отряд, дисциплине они подчиняются». И ещё Шурка писал: "У Оксаны и Рахили нет ботинок, а
купить не на что. Мы свои ботинки починили, ходить нужно много и всё по
камню. Тех денег, которые прислал Антон Семёнович, уже нету, потому что
купили книжки и для моего черчения готовальню. Оксане и Рахили нужно купить
ботинки, стоят по семи рублей на благбазе. Кормят нас ничего себе, плохо
только то, что один раз в день, а сало уже поели. Семён много ест сала.
Напишите ему, чтобы ел сала меньше, если ещё пришлёте сала". Ребята с горячей радостью постановляли на
общем собрании: послать денег, послать сала побольше, принять Оксану и Рахиль
в седьмой сводный отряд, послать им значки колонистов, а Семёну не нужно
писать насчёт сала, у них там есть командир, пускай командир сам сало выдаёт,
как полагается командиру. Вершневу написать, чтобы не психовал, а Семёну
насчёт черниговки, пусть будет осторожнее и головы себе не забивает разными
черниговками. А если нужно, так пускай черниговка напишет в совет командиров. Лапоть умел делать общие собрания
деловыми, быстрыми и весёлыми и умел предложить замечательные формулы для
переписки с рабфаковцами. Мысль о том, что черниговка должна обратиться в
совет командиров, очень всем понравилась и в дальнейшем получила даже
некоторое развитие. Жизнь седьмого сводного в Харькове в
корне изменила тон нашей школы. Теперь все убедились, что рабфак — вещь
реальная, что при желании каждый может добиться рабфака. Поэтому мы наблюдали
с этой осени заметное усиление энергии в школьных занятиях. Открыто пошли к
рабфаку Братченко, Георгиевский, Осадчий, Шнайдер, Глейзер, Маруся Левченко. Маруся окончательно бросила свои истерики
и за это время влюбилась в Екатерину Григорьевну, всегда сопутствуя ей и
помогая в дежурстве, всегда провожая её горящим взглядом. Мне понравилось,
что Маруся стала большой аккуратисткой в одежде и научилась носить строгие
высокие воротнички и с большим вкусом перешитые блузки. На наших глазах из
Маруси вырастала красавица. И в младших группах стал распостраняться
запах далёкого ещё рабфака, и ретивые пацаны часто стали расспрашивать о том,
на какой рабфак лучше всего направить им стопы. С особенной жадностью набросилась на
ученье Наташа Петренко. Ей было около шестнадцати лет, но она была
неграмотной. С первых же дней занятий обнаружились у неё замечательные
способности, и я поставил перед ней задачу пройти за зиму первую и вторую
группы. Наташа поблагодарила меня одними ресницами и коротко сказала: — А чого ж? Она уже перестала называть меня
«дядечкой» и заметно освоилась в коллективе. Её полюбили все за
непередаваемую прелесть натуры, за постоянную доверчиво‑светлую улыбку,
за косой зубик и грациозность мимики. Она по‑прежнему дружила с
Чоботом, и по‑прежнему Чобот молчаливо‑угрюмо оберегал это
драгоценное существо от врагов. Но положение Чобота с каждым днём становилось
затруднительнее, ибо никаких врагов вокруг Наташи не было, а зато постепенно
заводились у неё друзья и среди девочек, и среди хлопцев. Даже Лапоть по
отношению к Наташе выступал совсем новым: без зубоскальства и проказ,
внимательным, ласковым и заботливым. Поэтому Чоботу приходилось долго
ожидать, пока Наташа останется одна, чтобы поговорить или, правильнее,
помолчать о каких‑то строго конспиративных делах. Я начал различать в поведении Чобота
начало тревоги и не был удивлён, когда Чобот пришёл вечером ко мне и сказал: — Отпустите меня, Антон Семёнович, к
брату съездить. — А разве у тебя есть брат? — А как же, есть. Хозяйствует возле
Богодухова. Я от него письмо получил. Чобот протянул мне письмо. Там было
написано: «А что ты пишешь насчёт твоего положения,
то приезжай, дорогой брат Мыкола Фёдорович, и прямо оставайся тут, бо у меня
ж и хата большая, и хозяйство не как у другого кого, и моему сердцу будет
хорошо, что брат нашёлся, а колы полюбил девушку, привози смело». — Так я хочу поехать посмотреть. — Ты Наташе говорил? — Говорил. — Ну? — Наташа мало чего понимает. А надо
поехать посмотреть, бо я как ушёл из дому, так и не видал брата. — Ну что же, поезжай к брату,
посмотри. Кулак, наверное, брат твой? — Нет, такого нет, чтобы кулак, бо
коняка у него была одна, а про то теперь не знаю, как оно будет. Чобот уехал в начале декабря и долго не
возвращался. Наташа как будто не заметила его отъезда,
оставалась такой же радостно‑сдержанной и так же настойчиво продолжала
школьную работу. Я видел, что за зиму эта девочка могла бы пройти и три
группы. Новая политика колонистов в школе
изменила лицо колонии. Колония стала более культурной и ближе к нормальному
школьному обществу. Уже не могло быть ни у одного колониста сомнения в
важности и необходимости ученья. А увеличивалось это новое настроение нашей
общей мыслью о Максиме Горьком. В одном из своих писем колонистам Алексей
Максимович писал: "Мне хотелось бы, чтобы осенним
вечером колонисты прочитали моё «Детство». Из него они увидят, что я совсем
такой же человек, каковы они, только с юности умел быть настойчивым в моём
желании учиться и не боялся никакого труда. Верил, что действительно ученье и
труд всё перетрут". Колонисты давно уже переписывались с
Горьким. Наше первое письмо, отправленное с коротким адресом — «Сорренто,
Максиму Горькому», к нашему удивлению, было получено им, и Алексей Максимович
немедленно на него ответил приветливым, внимательным письмом, которое мы в
течение недели зачитали до дырок. С той поры переписка между нами происходила
регулярно. Колонисты писали Горькому по отрядам, письма приносили мне для
редакции, но я считал, что никакой редакции не нужно, что чем они будут
естественнее, тем приятнее Горькому будет их читать. Поэтому моя редакторская
работа ограничивалась такими замечаниями: — Бумагу выбрали какую‑то
неаккуратную. — А почему без подписей? Когда приходило письмо из Италии. раньше
чем оно попадало в мои руки, его должен был подержать в руках каждый
колонист, удивиться тому, что Горький сам пишет адрес на конверте, и
осуждающим взглядом рассмотреть портрет короля на марке: — Как это они могут, эти итальянцы,
терпеть так долго? Король… для чего это? Письмо разрешалось вскрывать только мне,
и я читал его вслух первый и второй раз, а потом оно передавалось секретарю
совета командиров и читалось всласть любителями, от которых Лапоть требовал
соблюдения только одного условия: — Не водите пальцем по письму. Есть
у вас глаза, и водите глазами — для чего тут пальцы? Ребята умели находить в каждой строчке
Горького целую философию, тем более важную, что это были строчки, в которых
сомневаться было нельзя. Другое дело — книга. С книгой можно ещё спорить,
можно отрицать книгу, если она неправильно говорит. А это не книга, а живое
письмо самого Максима Горького. Правда, в первое время ребята относились
к Горькому с некоторым, почти религиозным благоговением, считали его
существом выше всех людей, и подражать ему казалось им почти кощунством. Они
не верили, что в «Детстве» описаны события его жизни: — Так он какой писатель! Он разве
мало всяких жизней видел? Видел и описал, а сам он, наверное, как и пацаном
был, так не такой, как все. Мне стоило большого труда убедить
колонистов, что Горький пишет правду в письме, что и талантливому человеку
нужно много работать и учиться. Живые черты живого человека, вот того самого
Алёши, жизнь которого так похожа на жизнь многих колонистов, постепенно
становились близкими нам и понятными без всяких напряжений. И тогда в
особенности захотелось ребятам повидать Алексея Максимовича, тогда начали
мечтать о его приезде в колонию, никогда до конца не поверив тому, что это
вообще возможно. — Доедет он до колонии, как же! Ты
думаешь, какой ты хороший, лучше всех. У Горького тысячи таких, как
ты, — нет, десятки тысяч… — Так что же? Он всем и письма
пишет? — А ты думаешь, не пишет? Он тебе
напишет двадцать писем в день — считай, сколько это в месяц? Шестьсот писем.
Видишь? Ребята по этому вопросу затеяли настоящее
обследование и специально приходили спрашивать у меня, сколько писем в день
пишет Горький. Я им ответил: — Я думаю: одно‑два письма, да
и то не каждый день. — Не может быть! Больше! Куда!.. — Ничего не больше. Он ведь книги
пишет, для этого нужно время. А людей сколько к нему ходит? А отдохнуть ему
нужно или нет? — Так, по‑вашему, выходит: вот
он нам написал, так это что ж, это значит, какие мы, значит, знакомые такие у
Горького? — Не знакомые, — говорю, —
а горьковцы. Он — наш шеф. А чаще будем писать да ещё повидаемся, станем
друзьями. Таких мало у Горького. Оживление образа Горького в колонийском
коллективе, наконец, достигло нормы, и только тогда я стал замечать не
благоговение перед большим человеком, не почитание великого писателя, а
настоящую живую любовь к Алексею Максимовичу и настоящую благодарность
горьковцев к этому далёкому, немного непонятному, но всё же настоящему,
живому человеку. Проявить эту любовь колонистам было очень
трудно. Писать письма так, чтобы выразить свою любовь, они не умели, даже
стеснялись её выразить, потому что так сурово привыкли никаких чувств не
выражать. Только Гуд со своим отрядом нашёл выход. В своём письме они послали
Алексею Максимовичу просьбу, чтобы он прислал мерку со своей ноги, а они ему
пошьют сапоги. Первый отряд был уверен, что Горький обязательно исполнит их
просьбу, ибо сапоги — это несомненная ценность: сапоги заказывали в нашей
сапожной очень редкие люди, и это было дело довольно хлопотливое: нужно было
долго ходить по толкучке и найти подходящий набор или хорошие вытяжки, надо
было купить и подошвы, и стельку, и подкладку. Нужен был хороший сапожник,
чтобы сапоги не жали, чтобы они были красивы. Горькому сапоги всегда будут на
пользу, а кроме того, ему будет приятно, что сапоги пошиты колонистами, а не
каким‑нибудь итальянским сапожником. Знакомый сапожник из города, считавшийся
большим специалистом своего дела, приехав в колонию смолоть мешок муки,
подтвердил мнение ребят и сказал: — Итальянцы и французы не носят
таких сапог и шить их не умеют. А только какие вы сапоги пошьёте Горькому?
Надо же знать, какие он любит: вытяжки или с головками, какой каблук и
голенище… если мягкое — одно дело, а бывает, человеку нравится твёрдое
голенище. И материал тоже: надо пошить не иначе как шевровые сапоги, а
голенище хромовое. И высота какая — вопрос. Гуд был ошеломлён сложностью вопроса и
приходил ко мне советоваться: — Хорошо это будет, если поганые
сапоги выйдут? Нехорошо. А какие сапоги: шевровые или лакированные, может? А
кто достанет лаковой кожи? Я разве достану? Может, Калина Иванович достанет?
А он говорит, куды вам, паразитам, Горькому сапоги шить! Он, говорит, шьёт
сапоги у королевского сапожника в Италии. Калина Иванович тут подтверждал: — Разве я тебе неправильно сказав?
Такой ещё нет хвирмы: Гуд и компания. Хвирменные сапоги вы не пошьёте. Сапог
нужен такой, чтобы на чулок надеть и мозолей не наделать. А вы привыкли как?
Три портянки намотаешь, так и то давит, паразит. Хорошо это будет, если вы
Горькому мозолей наделаете? Гуд скучал и даже похудел от всех этих
коллизий. Ответ пришёл через месяц. Горький писал: «Сапог мне не нужно. Я ведь живу почти в
деревне, здесь и без сапог ходить можно». Калина Иванович закурил трубку и важно
задрал голову: — Он же умный человек и понимает:
лучше ему без сапог ходить, чем надевать твои сапоги, потому что даже
Силантий в твоих сапогах жизнь проклинает, на что человек привычный… Гуд моргал глазами и говорил: — Конечно, разве можно пошить
хорошие сапоги, если мастер здесь, а заказчик аж в Италии? Ничего, Калина
Иванович, время ещё есть. Он если к нам приедет, так увидите, какие сапоги мы
ему отчубучим… Осень протекала мирно. Событием был приезд инспектора
Наркомпроса Любови Савельевны Джуринской. Она приехала из Харькова нарочно
посмотреть колонию, и я встретил её, как обыкновенно встречал инспекторов, с
настороженностью волка, привыкшего к охоте на него. В колонию её привезла румяная и
счастливая Мария Кондратьевна. — Вот знакомьтесь с
этим дикарем, — сказала Мария Кондратьевна. — Я раньше тоже думала,
что он интересный человек, а он просто подвижник. Мне с ним страшно: совесть
начинает мучить. Джуринская взяла Бокову за плечи и
сказала: — Убирайся отсюда, мы обойдёмся без
твоего легкомыслия. — Пожалуйста, — ласково
согласились ямочки Марии Кондратьевны, — для моего легкомыслия здесь
найдутся ценители. Где сейчас ваши пацаны? На речке? — Мария Кондратьевна! — кричал
уже с речки высокий альт Шелапутина. — Мария Кондратьевна! Идите сюда, у
нас ледянка хиба ж такая! — А мы поместимся вдвоём? — уже
на ходу к речке спрашивает Мария Кондратьевна. — Поместимся, и Колька ещё сядет!
Только у вас юбка, падать будет неудобно. — Ничего, я умею падать, —
стрельнула глазами в Джуринскую Мария Кондратьевна. Она умчалась к ледяному спуску к
Коломаку, а Джуринская, любовно проводив её взглядом, сказала: — Какое это странное существо. Она у
вас, как дома. — Даже хуже, — ответил я. Скоро
я буду давать ей наряды за слишком шумное поведение. — Вы напомнили мне мои прямые
обязанности. Я вот приехала поговорить с вами о системе дисциплины. Вы,
значит, не отрицаете, что накладываете наказания? Наряды эти… потом, говорят,
у вас ещё кое‑что практикуется: арест… а говорят, вы и на хлеб и на
воду сажаете? Джуринская была женщина большая, с чистым
лицом и молодыми свежими глазами. Мне почему‑то захотелось обойтись с
ней без какой бы то ни было дипломатии: — На хлеб и воду не сажаю, но
обедать иногда не даю. И наряды. И аресты могу, конечно, не в карцере — у
себя в кабинете. У вас правильные сведения. — Послушайте, но это же всё запрещено. — В законе это не запрещено, а
писания разных писак я не читаю. — Не читаете педологической
литературы? Вы серьёзно говорите? — Не читаю вот уже три года. — Но как же вам не стыдно! А вообще
читаете? — Вообще читаю. И не стыдно, имейте
в виду. И очень сочувствую тем, которые читают педологическую литературу. — Я, честное слово, должна вас
разубедить. У нас должна быть советская педагогика. Я решил положить предел дискуссии и
сказал Любови Савельевне: — Знаете что? Я спорить не буду. Я
глубоко уверен, что здесь, в колонии, самая настоящая советская педагогика,
больше того: что здесь коммунистическое воспитание. Вас убедить может либо
опыт, либо серьёзное исследование — монография. А в разговоре мимоходом такие
вещи не решаются. Вы долго у нас будете? — Два дня. — Очень рад. В вашем распоряжении
много всяких способов. Смотрите, разговаривайте с колонистами, можете с ними
есть, работать, отдыхать. Делайте какие хотите заключения, можете меня снять
с работы, если найдёте нужным. Можете написать самое длинное заключение и
предписать мне метод, который вам понравится. Это ваше право. Но я буду
делать так, как считаю нужным и как умею. Воспитывать без наказания я не
умею, меня ещё нужно научить этому искусству. Любовь Савельевна прожила у нас не два
дня, а четыре, я её почти не видел. Хлопцы про неё говорили: — О, это грубая баба: всё понимает. Во время пребывания её в колонии пришёл
ко мне Ветковский: — Я ухожу из колонии, Антон
Семёнович… — Куда? — Что‑нибудь найду. здесь
стало неинтересно. На рабфак я не пойду, столяром не хочу быть. Пойду, ещё
посмотрю людей. — А потом что? — А там видно будет. Вы только дайте
мне документ. — Хорошо. Вечером будет совет
командиров. Пускай совет командиров тебя отпустит. В совете командиров Ветковский держался
недружелюбно и старался ограничться формальными ответами: — Мне не нравится здесь. А кто меня
может заставить? Куда хочу, туда и пойду. Это уже моё дело, что я буду
делать… Может, и красть буду. Кудлатый возмутился: — Как это так, не наше дело! Ты
будешь красть, а не наше дело? А если я тебя сейчас за такие разговоры сгребу
да дам по морде, так ты, собственно говоря, поверишь, что это наше дело? Любовь Савельевна побледнела, хотела что‑то
сказать, но не успела. Разгоряченные колонисты закричали на Ветковского.
Волохов стоял против Кости: — Тебя нужно отправить в больницу.
Вот и всё. Документы ему, смотри ты!.. Или говори правду. Может, работу какую
нашёл? Больше всех горячился Гуд: — У нас что, заборы есть? Нету
заборов. Раз ты такая шпана — на все четыре стороны путь. Может, запряжем
Молодца, гнаться за тобою будем? Не будем гнаться. Иди, куда хочешь. Чего ты
сюда пришёл? Лапоть прекратил прения: — Довольно вам высказывать свои
мысли. Дело, Костя, ясное: документа тебе не дадим. Костя наклонил голову и пробурчал: — Не надо документа, я и без
документов пойду. Дайте на дорогу десятку. — Дать ему? — спросил Лапоть. Все замолчали. Джуринская обратилась
вслух и даже глаза закрыла, откинув голову на спинку дивана. Коваль сказал: — Он в комсомол обращался с этим
самым делом. Мы его выкинули из комсомола. А десятку, я думаю, дать ему
можно. — Правильно, — сказал кто‑то. —
Десятки не жалко. Я достал бумажник. — Я ему дам двадцать рублей. Пиши
расписку. При общем молчании Костя написал
расписку, спрятал деньги в карман и надел фуражку на голову: — До свидания, товарищи! Ему никто не ответил. Только Лапоть
сорвался с места и крикнул уже в дверях: — Эй ты, раб божий! Прогуляешь
двадцатку, не стесняйся, приходи в колонию! Отработаешь! Командиры расходились злые. Любовь
Савельевна опомнилась и сказала: — Какой ужас! Поговорить бы с
мальчиком нужно… Потом задумалась и сказала: — Но какая страшная сила этот ваш
совет командиров! Какие люди! На другой день утром она уезжала. Антон
подал сани. В санях были грязная солома и какие‑то бумажки. Любовь
Савельевна уселась в сани, а я спросил Антона: — Почему это такая грязь в санях? — Не успел, — пробурчал Антон,
краснея. — Отправляйся под арест, пока я
вернусь из города. — Есть, — сказал Антон и
отодвинулся от саней. — В кабинете? — Да. Антон поплёлся в кабинет, обиженный моей
строгостью, а мы молча выехали из колонии. Только перед вокзалом Любовь
Савельевна взяла меня под руку и сказала: — Довольно вам лютовать. У вас же
прекрасный коллектив. Это какое‑то чудо. Я прямо ошеломлена… Но
скажите, вы уверены. что этот ваш… Антон сейчас сидит под арестом? Я удивлённо посмотрел на Джуринскую: — Антон — человек с большим
достоинством. Конечно, сидит под арестом. Но в общем… это настоящие
зверёныши. — Да не нужно так. Вы всё из‑за
этого Кости? Я уверена, что он вернётся. Это же замечательно! У вас
замечательные отношения, и Костя этот лучше всех… Я вздохнул и ничего не ответил. |
|
||||
|
|
13. Гримасы любви и поэзии
Наступил 1925 год. Начался он довольно
неприятно. В совете командиров Опришко заявил, что
он хочет жениться, что старый Лукашенко не отдаст Марусю, если колония не
назначит Опришко такого же приданого, как и Оле Вороновой, а с таким
хозяйством Лукашенко принимает Опришко к себе в дом, и будут они вместе
хозяйничать. Опришко держался в совете командиров с
неприятной манерой наследника Лукашенко и человека с положением. Командиры молчали, не зная, как понимать
всю эту историю. Наконец Лапоть, глядя на Опришко, через
острие попавшего в руку карандаша, спросил негромко: — Хорошо, Дмитро, а ты как же думаешь?
Не будешь ты хозяйнувать с Лукашенком, это значит — ты селянином станешь? Опришко посмотрел на Лаптя немного через
плечо и саркастически улыбнулся: — Пусть будет по‑твоему:
селянином. — А по‑твоему как? — А там видно будет. — Так, — сказал Лапоть. —
Ну, кто выскажется? Взял слово Волохов, командир шестого
отряда: — Хлопцам нужно искать себе доли,
это правда. До старости в колонии сидеть не будешь. Ну, и квалификация какая
у нас? Кто в шестом, или в четвёртом, или в девятом отряде, тем ещё ничего —
можно кузнецом выйти, и столяром, и по мельничному делу. А в полевых отрядах
никакой квалификации, — значит, если он идёт в селяне, пускай идёт. Но
только у Опришко как‑то подозрительно выходит. Ты ж комсомолец? — Ну так что ж — комсомолец. — Я думаю так, — продолжал
Волохов, — не мешало бы об этом раньше в комсомоле поговорить. Совету
командиров нужно знать, как на это комсомол смотрит. — Комсомольское бюро об этом деле
уже имеет своё мнение, — сказал Коваль. — Колония Горького не для
того, чтобы кулаков разводить. Лукашенко кулак. — Та чего ж он кулак? —
возразил Опришко. — Что дом под железом, так это ещё ничего не значит. — А лошадей двое? — Двое. — И батрак есть? — Батрака нету. — А Серёга? — Серёгу ему наробраз дал из
детского дома. На патронирование — называется. — Один чёрт, — сказал
Коваль, — из наробраза чи не из наробраза, а всё равно батрак. — Так, если дают… — Дают. А ты не бери, если ты
порядочный человек. Опришко не ожидал такой встречи и
рассеянно сказал: — А почему так? Ольге ж дали? Коваль ответил: — Во‑первых, с Ольгой другое
дело. Ольга вышла за нашего человека, теперь они с Павлом переходят в
коммуну, наше добро на дело пойдёт. А во‑вторых, и колонистка Ольга
была не такая, как ты. А третье и то, что нам разводить кулаков не к лицу. — А как же мне теперь? — А как хочешь. — Нет, так нельзя, — сказал
Ступицын. — Если они там влюблены, пускай себе женятся. Можно дать и
приданое Дмитру, только пускай он переходит не к Лукашенку, а в коммуну.
Теперь там Ольга будет заворачивать делом. — Батько Марусю не отпустит. — А Маруся пускай на батька наплюёт. — Она не сможет этого сделать. — Значит, мало тебя любит… и вообще
куркулька. — А тебе дело, любит или не любит? — А вот видишь, дело. Значит, она за
тебя больше по расчёту выходит. Если бы любила… — Она, может, и любит, да батька
слухается. А перейти в коммуну она не может. — А не может, так нечего совету
командиров голову морочить! — грубо отозвался Кудлатый. — Тебе
хочется к куркулю пристроиться, а Лукашенку зятя богатого в хату нужно. А нам
какое дело? Закрывай совет… Лапоть растянул рот до ушей в довольной
улыбке: — Закрываю совет по причине слабой
влюблённости Маруськи. Опришко был поражён. Он ходил по колонии
мрачнее тучи, задирал пацанов, на другой день напился пьяным и буянил в
спальне. Собрался совет командиров судить Опришко
за пьянство. Все сидели мрачные, и мрачный стоял у
стены Опришко. Лапоть сказал: — Хоть ты и командир, а сейчас ты
отдуваешься по личному делу, поэтому стань на середину. У нас был обычай: виноватый должен стоять
на середине комнаты. Опришко повёл сумрачными глазами по
председательскому лицу и пробурчал: — Я ничего не украл и на середину не
стану. — Поставим, — сказал тихо
Лапоть. Опришко оглядел совет и понял, что
поставят. Он отвалился от стены и вышел на середину. — Ну хорошо. — Стань смирно, — потребовал
Лапоть. Опришко пожал плечами, улыбнулся
язвительно, но опустил руки и выпрямился. — А теперь говори, как ты смел
напиться пьяным и разоряться в спальне, ты — комсомолец, командир и колонист?
Говори. Опришко всегда был человеком двух стилей:
при удобном случае он не скупился на удальство, размах и «на всё наплевать»,
но, в сущности, всегда был осторожным и хитрым дипломатом. Колонисты это
хорошо знали, и поэтому покорность Опришко в совете командиров никого не
удивила. Жорка Волков, командир седьмого отряда, недавно выдвинутый вместо
Ветковского, махнул рукой на Опришко и сказал: — Уже прикинулся. Уже он тихонький.
А завтра опять будет геройство показывать. — Да нет, пускай он скажет, —
проворчал Осадчий. — А что мне говорить: виноват — и
всё. — Нет, ты скажи, как ты смел? Опришко доброжелательно умаслил глаза и
развёл руками по совету. — Да разве тут какая смелость? С
горя выпил, а человек, выпивши если, за себя не отвечает. — Брешешь, — сказал
Антон. — Ты будешь отвечать. Ты это по ошибке воображаешь, что не
отвечаешь. Выгнать его из колонии — и всё. И каждого выгнать, если выпьет…
Беспощадно! — Так ведь он пропадёт, —
расширил глаза Георгиевский. — Он же пропадёт на улице… — И пускай пропадает. — Так он же с горя! Что вы в самом
деле придираетесь? У человека горе, а вы к нему пристали с советом
командиров! — Осадчий с откровенной иронией рассматривал добродетельную
физиономию Опришко. — И Лукашенко его не примет без
барахла, — сказал Таранец. — А наше какое дело! — кричал
Антон. — Не примет, так пускай себе Опришко другого куркуля ищет? — Зачем выгонять? — несмело
начал Георгиевский. — Он старый колонист, ошибся, правда, так он ещё
исправится. А нужно принять во внимание, что они влюблены с Маруськой. Надо
им помочь как‑нибудь. — Что он, беспризорный? — с
удивлением произнёс Лапоть. Чего ему исправляться? Он колонист. Взял слово Шнайдер, новый командир
восьмого, заменивший Карабанова в этом героическом отряде. В восьмом отряде
были богатыри типа Федоренко и Корыто. Возглавляемые Карабановым, они
прекрасно притёрли свои угловатые личности друг к другу, и Карабанов умел
выпаливать ими, как из рогатки, по любому рабочему заданию, а они обладали
талантом самое трудное дело выполнять с запорожским реготом и с высоко
поднятым знаменем колонийской чести. Шнайдер в отряде сначала был
недоразумением. Он пришёл маленький, слабосильный, чёрненький и
мелкокучерявый. После древней истории с Осадчим антисемитизм никогда не
подымал голову в колонии, но отношение к Шнайдеру ещё долго было ироническим.
Шнайдер действительно иногда смешно комбинировал русские слова и формы и
смешно и неповоротливо управлялся с сельскохозяйственной работой. Но время
проходило, и постепенно вылепились в восьмом отряде новые отношения: Шнайдер
сделался любимцем отряда, им гордились карабановские рыцари. Шнайдер был
умница и обладал глубокой, чуткой духовной организацией. Из больших чёрных
глаз он умел спокойным светом облить самое трудное отрядное недоразумение,
умел сказать нужное слово. И хотя он почти не прибавил роста за время
пребывания в колонии, но сильно окреп и нарастил мускулы, так что не стыдно
было ему летом надеть безрукавку, и никто не оглядывался на Шнайдера, когда
ему поручались напряжённые ручки плуга. Восьмой отряд единодушно выдвинул его
в командиры, и мы с Ковалем понимали это так: — Держать отряд мы и сами можем, а
украшать нас будет Шнайдер. Но Шнайдер на другой же день после
назначения командиром показал, что карабановская школа для него даром не
прошла: он обнаружил намерения не только украшать, но и держать; и Федоренко,
привыкший к громам и молниям Карабанова, так же легко стал привыкать и к
спокойно‑дружеской выволочке, которую иногда задавал ему новый
командир. Шнайдер сказал: — Если бы Опришко был новеньким,
можно было бы и простить. А теперь нельзя простить ни в коем случае. Опришко
показал, что ему на коллектив наплевать. Вы думаете, это он показал в
последний раз? Все знают, что нет. Я не хочу, чтобы Опришко мучился. Зачем
это нам? А пускай он поживёт без нашего коллектива, и тогда он поймёт. И
другим нужно показать, что мы таких куркульских выходок не допустим. Восьмой
отряд требует увольнения. Требование восьмого отряда было
обстоятельством решающим: в восьмом отряде почти не было новеньких. Командиры
посматривали на меня, и Лапоть предложил мне слово: — Дело ясное. Антон Семёнович, вы
скажите, как вы думаете? — Выгнать, — сказал я коротко. Опришко понял, что спасения нет никакого,
и отбросил налаженную дипломатическую сдержанность: — Как выгнать? А куда я пойду?
Воровать? Вы думаете, на вас управы нету? Я и в Харьков поеду… В совете рассмеялись. — Вот и хорошо! Поедешь в Харьков,
тебе дадут там записочку, и ты вернёшься в колонию и будешь у нас жить с
полным правом. Тебе будет хорошо, хорошо. Опришко понял, что он сморозил вопиющую
глупость, и замолчал. — Значит, один Георгиевский
против, — оглядел совет Лапоть. — Дежурный командир! — Есть, — строго вытянулся
Георгиевский. — Выставить Опришко из колонии. — Есть выставить! — ответил
обычным салютом Георгиевский и движением головы пригласил Опришко к двери. Через день мы узнали, что Опришко живёт у
Лукашенко. На каких условиях состоялось между нами соглашение — не знали, но
ребята утверждали, что всё дело решала Маруська. Проходила зима. В марте пацаны откатались
на льдинах Коломака, приняли полагающиеся по календарю неожиданные всё-таки
весенние ванны, потому что древние стихийные силы сталкивали их в штанах и
«куфайках» с самоделковых душегубок, льдин и надречных веток деревьев.
Сколько полагается, отболели гриппом. Но проходили гриппы, поднимались туманы,
и скоро Кудлатый стал находить «куфайки» брошенными посреди двора и устраивал
обычный весенний скандал, угрожая трусиками и голошейками на две недели
раньше, чем полагалось бы по календарю. |
|
||||
|
|
14. Не пищать!
В середине апреля приехали на весенний
перерыв первые рабфаковцы. Они приехали похудевшие и почерневшие, и
Лапоть рекомендовал передать их десятому отряду в откормочное отделение. Было
хорошо, что они не гордились перед колонистами своими студенческими
особенностями. Карабанов не успел даже со всеми поздороваться, а побежал по
хозяйству и мастерским. Белухин, обвешанный пацанами, рассказывал о Харькове
и о студенческой жизни. Вечером мы все уселись под весенним небом
и по старой памяти занялись вопросами колонии. Карабанову очень не нравились
наши последние события. Он говорил: — Что оно правильно сделано, так
ничего не скажешь. Раз Костя сказал, что ему тут не нравится, так поступили
правильно: иди к чертям, шукай себе кращего. И Опришко — куркуль, это
понятно, и пошёл в куркули, так ему и полагается. А всё-таки, если подумать,
так оно как‑то не так. Надо что‑то думать. Мы вот в Харькове уже
повидали другую жизнь. Там другая жизнь, и люди многие. — У нас плохие люди в колонии? — В колонии хорошие люди, —
сказал Карабанов, — очень хорошие, так смотрите ж кругом — куркульни с
каждым днём больше. Разве здесь колонии можно жить? Тут або зубами грызть,
або тикать. — Не в том дело, — задумчиво
протянул Бурун, — с куркулями все бороться должны. Это особое дело. Не в
том суть. А в том, что в колонии делать нечего. Колонистов сто двадцать
человек, силы много, а работа здесь какая: посеял — снял, посеял — снял. И
поту много выходит, и толку не видно. Это хозяйство маленькое. Ещё год
прожить, хлопцам скучно станет, захочется лучшей доли… — Это правильно он говорит,
Гришка, — Белухин пересел ближе ко мне, — наш народ, беспризорный,
как это называется, так он пролетарский народ, ему дай производство. На поле,
конечно, приятно работать и весело, а только что ж ему с поля? На село пойти,
в мелкую буржуазию, значит, — стыдно как‑то, так и пойти ж не с
чем, для чего этого нужно владеть орудиями производства: и хату нужно, и
коня, и плуг, и всё. А идти в приймы, вот как Опришко, не годится. А куда
пойдёшь? Только один завод паровозоремонтный, так рабочим своих детей некуда
девать. Все рабфаковцы с радостью набросились на
полевые работы, и совет командиров с изысканною вежливостью назначал их
командирами сводных. Карабанов возвращался с поля возбуждённым: — Ой, до чего ж люблю работу у поли!
И такая жалость, что нема ниякого толку с этой работы, хай вона сказыться. От
було б хорошо б так: поробыв в поли, пишов косыты, а тут тоби — манафактура
растёть, чоботы растуть, машины колыхаются на ныви, тракторы, гармошки, очки,
часы, папиросы… ой‑ой‑ой! Чего э мэнэ нэ спыталы, колы свит
строили, подлюки? Рабфаковцы должны были провести с нами и
Первое мая. Это очень украшало и без того радостный для нас праздник. Колония по‑прежнему просыпалась
утром по сигналу и стройными сводными бросалась на поля, не оглядываясь назад
и не тратя энергии на анализ жизни. Даже старые наши хвосты, такие, как
Евгеньев, Назаренко, Переплятченко, перестали нас мучить. К лету 1925 года колония подходила
совершенно компактным коллективом и при этом очень бодрым — так, по крайней
мере, казалось снаружи. Только Чобот торчком стал в нашем движении, и с
Чоботом я не справился. Вернувшись от брата в марте, Чобот
рассказал, что брат живёт хорошо, но батраков не имеет — середняк. Никакой
помощи Чобот не просил у колонии, но заговорил о Наташе. Я ему сказал: — Что ж тут со мной говорить, это
пусть сама Наташа решает… Через неделю он опять ко мне пришёл уже в
полном тревожном волнении. — Без Наташи мне не жизнь.
Поговорите с нею, чтобы поехала со мной. — Слушай, Чобот, какой же ты
странный человек! Ведь тебе с нею надо говорить, а не мне. — Если вы скажете ехать, так она
поедет, а я говорю, так как‑то плохо выходит. — Что она говорит? — Она ничего не говорит. — Как это «ничего»? — Ничего не говорит, плачет. Чобот смотрел на меня напряжённо‑настороженно.
Для него важно было видеть, какое впечатление произвело на меня его
сообщение. Я не скрыл от Чобота, что впечатление было у меня тяжёлое: — Это очень плохо… Я поговорю. Чобот глянул на меня налитыми кровью
глазами, глянул в самую глубину моего существа и сказал хрипло: — Поговорите. Только знайте: не
поедет Наташа, я с собой покончу. — Это что за дурацкие
разговоры! — закричал я на Чобота. — Ты человек или слякоть? Как
тебе не стыдно? Но Чобот не дал мне кончить. Он повалился
на лавку и заплакал невыразимо горестно и безнадёжно. Я молча смотрел на
него, положив руку на его воспалённую голову. Он вдруг вскочил, взял меня за
локти и залепетал мне в лицо захлёбывающиеся, нагоняющие друг друга слова: — Простите… Я ж знаю, что мучаю вас…
так я не можу ничего уже сделать… Я видите, какой человек, вы же всё видите и
всё знаете… Я на колени стану… без Наташи я не могу жить. Я проговорил с ним всю ночь и в течение
всей ночи ощущал свою немощность и бессилие. Я ему рассказывал о большой
жизни, о светлых дорогах, о многообразии человеческого счастья, об
осторожности и плане, о том, что Наташе надо учиться, что у неё замечательные
способности, что она и ему потом поможет, что нельзя её загнать в далёкую
богодуховскую деревню, что она умрёт там от тоски, — всё это не доходило
до Чобота. Он угрюмо слушал мои слова и шептал: — Я разобьюсь на части, а всё
сделаю, абы она со мной поехала… Отпустил я его в прежнем смятении,
человеком, потерявшем управление и тормоза. На другой же вечер я пригласил к
себе Наташу. Она выслушала мой короткий вопрос одними вздрагивающими
ресницами, потом подняла на меня глаза и сказала чистым до блеска,
нестыдящимся голосом: — Чобот меня спас… а теперь я хочу
учиться. — Значит, ты не хочешь выходить за
него замуж и ехать к нему? — Я хочу учиться… А если вы скажете
ехать, так я поеду. Я ещё раз взглянул в эти открытые, ясные
очи, хотел спросить, знает ли она о настроении Чобота, но почему‑то не
спросил, а сказал только: — Ну иди спать спокойно. — Так мне не ехать? — спросила
она меня по‑детски, мотая головой немного вкось. — Нет, не ехать, будешь
учиться, — ответил я хмуро и задумался, не заметив даже, как тихонько
вышла Наташа из кабинета. Чобота увидел я на другой день утром. Он
стоял у главного входа в белый дом и явно поджидал меня. Я движением головы
пригласил его в кабинет. Пока я разбирался с ключами и ящиками своего стола,
он молча следил за мной и вдруг сказал, как будто про себя: — Значит, не поедет Наташа? Я взглянул на него и увидел, что он не
ощущает ничего, кроме своей потери. Прислонившись одним плечом к двери, Чобот
смотрел в верхний угол окна и что‑то шептал. Я крикнул ему: — Чобот!.. Чобот кажется, меня не слышал. Как‑то
незаметно он отвалился от двери и, не взглянув на меня, вышел неслышно и
легко, как призрак. Я за ним следил. После обеда он занял
своё место в сводном отряде. Вечером я вызвал его командира, Шнайдера: — Как Чобот? — Молчит. — Работал как? — Комсвод Нечитайло говорит —
хорошо. — Не спускай с него глаз несколько
дней. Если что‑нибудь заметите, то сейчас же скажите. — Знаем, как же, — сказал
Шнайдер. Несколько дней Чобот молчал, но на работу
выходил, являлся в столовую. Встречаться со мной, видно, не хотел
сознательно. Накануне праздника я приказом поручил персонально ему прибить
лозунги на всех зданиях. Он аккуратно приготовил лестницу и пришёл ко мне с
просьбой: — Выпишите гвоздей. — Сколько? Он поднял глаза к потолку, пошептал и
ответил: — Я так считаю, килограмм хватит… Я проверил. Он добросовестно и заботливо
выравнивал лозунги и спокойно говорил своему компаньону на другой лестнице: — Нет, выше… Ещё выше… Годи.
Прибивай. Колонисты любили готовиться к праздникам
и больше всего любили праздник Первого мая, потому что это весенний праздник.
Но в этом году Первомай проходил в плохом настроении. Накануне с самого утра
перепадал дождик. На полчаса затихнет и снова моросит, как осенью, мелкий,
глуповатый, назойливый. К вечеру зато заблестели на небе звёзды, и только на
западе мрачнел тёмно-синий кровоподтёк, бросая на колонию недружелюбную,
грязноватую тень. Колонисты бегали по колонии, чтобы покончить до собрания с
разными делами: костюмы, парикмахер, баня, бельё. На просыхающем крылечке
белого дома барабанщики чистили мелом медь своих инструментов. Это были герои
завтрашнего дня. Барабанщики наши были особенные. Это
вовсе не были жалкие неучи, производящие беспорядочную толпу звуков.
Горьковские барабанщики недаром ходили полгода на выучку к полковым мастерам,
и только один Иван Иванович протестовал тогда: — Вы знаете, у них ужасный метод,
ужасный! Иван Иванович с остановившимися от ужаса
глазами рассказал мне об этом методе, заключающемся в прекрасной аллитерации,
где речь идёт о бабе, табаке, сыре, дёгте, и только одно слово не может быть
приведено здесь, но и это слово служило честно барабанному делу. Этот ужасный
метод, однако, хорошо делал своё воспитательное дело, и марши наших
барабанщиков отличались красотой, выразительностью. Их было несколько:
походный, зоревой, знамённый, парадный, боевой, в каждом из них были
своеобразные переливы трелей, сухое, аккуратное стаккато, приглушённое нежное
рокотанье, неожиданно взрывные фразы и кокетливо‑танцевальные шалости.
Наши барабанщики настолько хорошо исполняли своё дело, что даже многие
инспектора наробраза, услышав их, принуждены были, наконец, признать, что они
не вносят в дело социального воспитания никакой особенно чуждой идеологии. Вечером на собрании колонистов мы
проверили свою готовность к празднику, и только одна деталь оказалась до
конца не выясненной: будет ли завтра дождь. Шутя предлагали отдать в приказе:
предлагается дежурству обеспечить хорошую погоду. Я утверждал, что дождь
будет обязательно, такого же мнения был и Калина Иванович, и Силантий, и
другие товарищи, понимающие в дождях. Но колонисты протестовали против наших
страхов и кричали: — А если дождь, так что? — Измокнете. — А мы разве сахарные? Я принуждён был решить вопрос
голосованием: идти ли в город, если с утра будет дождь? Против поднялось три
руки, и в том числе моя. Собрание победоносно смеялось, и кто‑то орал: — Наша берёт! После этого я сказал: — Ну смотрите, постановили — Пойдём,
пусть и камни с неба падают. — Пускай падают! — кричал
Лапоть. — Только смотрите, не пищать! А то
сейчас храбрые, а завтра хвостики подожмёте и будете попискивать: ой, мокро,
ой, холодно… — А мы когда пищали? — Значит, договорились — не пищать? — Есть не пищать! Утро нас встретило сплошным серым небом и
тихоньким коварным дождиком, который иногда усиливался и поливал землю, как
из лейки, потом снова начинал бесшумно брызгать. Никакой надежды на солнце не
было. В белом доме меня встретили уже готовые к
походу колонисты и внимательно присматривались к выражению моего лица, но я
нарочно надел каменную маску, и скоро начало раздаваться в разных углах
ироническое воспоминание: — Не пищать! Видимо, на разведку прислали ко мне
знаменщика, который спросил: — И знамя брать? — А как же без знамени? — А вот… дождик… — Да разве это дождик? Наденьте
чехол до города. — Есть надеть чехол, — сказал
знаменщик кротко. В семь часов проиграли общий сбор.
Колонна вышла в город точно по приказу. До городского центра было километров
десять, и с каждым километром дождь усиливался. На городском плацу мы никого
не застали, — ясно было, что демонстрация отменена. В обратный путь
тронулись уже под проливным дождём, но для нас было теперь всё равно: ни у кого
не осталось сухой нитки, а из моих сапог вода выливалась, как из
переполненного ведра. Я остановил колонну и сказал ребятам: — Барабаны намолкли, давайте песню.
Обращаю ваше внимание, некоторые ряды плохо равняются, идут не в ногу, кроме
того, голову нужно держать выше. Колонисты захохотали. По их лицам стекали
целые реки воды. — Шагом марш! Карабанов начал песню: Гей, чумаче, чумаче! Життя твоё собаче… Но слова песни показались всем настолько
подходящими к случаю, что и песню встретили хохотом. При втором запеве песню
подхватили и понесли по безлюдным улицам, затопленным дождевыми потоками. Рядом со мной в первом ряду шагал Чобот.
Песни он не пел и не замечал дождя, механически упорно вглядываясь куда‑то
дальше барабанщиков и не замечая моего пристального внимания. За вокзалом я разрешил идти вольно. Плохо
было то, что ни у кого не осталось ни одной сухой папиросы или щепотки
махорки, поэтому все накинулись на мой кожаный портсигар. Меня окружили и
гордо напоминали: — А всё ж таки никто не запищал. — Постойте, вон за тем поворотом
камни будут падать, тогда что скажете? — Камни — это, конечно, хуже, —
сказал Лапоть, — но бывает ещё и хуже камней, например пулемёт. Перед входом в колонию снова построились,
выровнялись и снова запели песню, хотя она уже с большим трудом могла осилить
нараставший шум ливня и неожиданно приятные, как салют нашему возвращению,
первые в этом году раскаты грома. В колонию вошли с гордо поднятой головой,
на очень быстром марше. Как всегда, отдали салют знамени, и только после
этого все приготовились разбежаться по спальням. Я крикнул: — Да здравствует Первое мая! Ура! Ребята подбросили вверх мокрые фуражки,
заорали и, уже не ожидая команды, бросились ко мне. Они подбросили меня вверх
и из моих сапог вылились на меня новые струи воды. Через час в клубе был прибит ещё один
лозунг. На огромном длинном полотнище было написано только два слова: Н е п и щ а т ь! |
|
||||
|
|
15. Трудные люди
Чобот повесился ночью на третье мая. Меня разбудил сторожевой отряд, и,
услышав стук в окно, я догадался, в чём дело. Возле конюшни, при фонарях,
Чобота, только что снятого с петли, приводили в сознание. После многих усилий
Екатерины Григорьевны и хлопцев удалось возвратить ему дыхание, но в сознание
он так и не пришёл и к вечеру умер. Приглашённые из города врачи объяснили
нам, что спасти Чобота было невозможно: он повесился на балконе конюшни; стоя
на этом балконе, он, очевидно, надел на себя и затянул петлю, а потом
бросился с нею вниз — у него повреждены были шейные позвонки. Хлопцы встретили самоубийство Чобота
сдержанно. Никто не выражал особенной печали, и только Федоренко сказал: — Жалко казака — хороший был бы
будёновец! Но Федоренко ответил Лапоть: — Далеко Чоботу до Будённого: граком
жил, граком и помер, от жадности помер. Коваль с гневным презрением посматривал в
сторону клуба, где стоял гроб Чобота, отказался стать в почётный караул и на
похороны не пришёл: — Я таких, как Чобот, сам вешал бы:
лезет под ноги с драмами своими дурацкими! Плакали только девчонки, да и то Маруся
Левченко иногда вытирала глаза и злилась: — Дурак такой, дубина какая, ну что
ты скажешь, иди с ним «хозяйнуваты»! Вот счастье какое для Наташи! И хорошо
сделала, что не поехала! Много их, таких, Чоботов, найдётся, да всем
ублажать? Пускай вешаются побольше. Наташа не плакала. Она с испуганным
удивлением глянула на меня, когда я пришёл к девочкам в спальню, и негромко
спросила: — Що мени теперь робыты? Маруся ответила за меня: — Может, и ты вешаться захочешь?
Скажи спасибо, что этот дурень догадался смыться. А то он тебя всю жизнь мучил
бы. Что ей «робыть», задумалась, смотри! На рабфаке будешь, тогда и
задумывайся. Наташа подняла глаза на сердитую Маруську
и прислонилась к её поясу: — Ну добре. — Я принимаю шефство над
Наталкой, — сказала Маруся, вызывающе сверкнув на меня глазами. Я шутя расшаркался перед нею: — Пожалуйста, пожалуйста, товарищ
Левченко. А мне можно с вами «на пару»? — Только с уловием: не вешаться! А
то видите, какие шефы бывают, ну их к собакам. Не столько того шефства,
сколько неприятностей. — Есть не вешаться! Наташа оторвалась от Марусиного пояса и
улыбалась своим новым шефам, даже порозовела немного. — Идём завтракать, бедная
девочка, — сказала весело Маруся. У меня на этом участке сердца стало…
ничего себе. К вечеру приехали следователь и Мария Кондратьевна. Следователя
я упросил не допрашивать Наташу, да он и сам был человек сообразительный.
Написав короткий акт, он пообедал и уехал. Мария Кондратьевна осталась
погрустить. Поздно ночью, когда уже все спали, она зашла в мой кабинет с
Калиной Ивановичем и устало опустилась на диван: — Безобразные ваши колонисты!
Товарищ умер, а они хохочут, а этот самый ваш Лапоть так же валяет дурака,
как и раньше. На другой день я проводил рабфаковцев. По
дороге на вокзал Вершнев говорил: — Хлопцы н‑не понимают, в чём
дело. Ч‑ч‑человек решил умереть, значит, жизнь плохая. Им к‑кажется,
ч‑что из‑з‑за Наталки, а на самом деле не из‑за
Наталки, а таакая жизнь. Белухин завертел головой: — Ничего подобного! У Чобота всё
равно никакой жизни не было. Чобот был не человек, а раб. Барина у него
отняли, так он Наташку выдумал. — Выкпучуете (хитрите)
хлопцы, — сказал Семён. — Этого я не люблю. Повесился человек, ну и
вычеркни его из списков. Надо думать про завтрашний день. А я вам скажу:
тикайте отсюда с колонией, а то у вас все перевешаются. На обратном пути я задумался над путями
нашей колонии. В полный рост встал перед моими глазами какой‑то грозный
кризис, и угрожали полететь куда‑то и пропасть несомненные для меня
ценности, ценности живые, живущие, созданные, как чудо, пятилетней работой
коллектива, исключительные достоинства которого я даже из скромности скрывать
от себя не хотел. В таком коллективе неясность личных путей
не могла определять кризиса. Ведь личные пути всегда неясны. И что такое
ясный личный путь? Это отрешение от коллектива, это концентрированное
мещанство: такая ранняя, такая скучная забота о будущем куске хлеба, об этой
самой хвалёной квалификации. И какой квалификации? Столяра, сапожника,
мельника. Нет, я крепко верю, что для мальчика в шестнадцать лет нашей
советской жизни самой дорогой квалификацией является квалификация борца и
человека. Я представил себе силу коллектива
колонистов и вдруг понял, в чём дело: ну конечно, как я мог так долго думать!
Всё дело в остановке. Не может быть допущена остановка в жизни коллектива. Я обрадовался по‑детски: какая
прелесть! Какая чудесная, захватывающая диалектика! Свободный рабочий
коллектив не способен стоять на месте. Всемирный закон всеобщего развития
только теперь начинает показывать свои настоящие силы. Формы бытия свободного
человеческого коллектива — движение вперёд, форма смерти — остановка. Да, мы почти два года стоим на месте: те
же поля, те же цветники, та же столярная и тот же ежегодный круг. Я поспешил в колонию, чтобы взглянуть в
глаза колонистам и проверить моё великое открытие. У крыльца белого дома стояли два
извозчичьих экипажа, и Лапоть меня встретил сообщением: — Приехала комиссия из Харькова. «Вот и хорошо, — подумал я, —
сейчас мы это дело решим». В кабинете ожидали меня: Любовь
Савельевна Джуринская, полная дама, в тёмно-малиновом, не первой чистоты
платье, уже немолодая, но с живыми и пристальными глазами, и невзрачный
человек, полурыжий, полурусый, не то с бородкой, не то без бородки; очки на
нём очень перекосились, и он всё поправлял их свободной от портфеля рукой. Любовь Савельевна заставила себя
приветливо улыбнуться, когда знакомила меня с остальными: — А вот и товарищ Макаренко.
Знакомьтесь: Варвара Викторовна Брегель, Сергей Васильевич Чайкин. Почему не принять в колонии Варвару
Викторовну Брегель — моё высшее начальство, но с какой стати этот самый
Чайкин? О нём я слышал — профессор педагогики. Не заведовал ли он каким‑нибудь
детским домом? Брегель сказала: — Мы к вам специально — проверить
ваш метод. — Решительно протестую, —
сказал я. — Нет никакого моего метода. — А какой же у вас метод? — Обыкновенный, советский. Брегель зло улыбнулась. — Может быть, и советский, но во
всяком случае не обыкновенный. Надо всё-таки проверить. Начиналась самая неприятная беседа, когда
люди играют терминами в полной уверенности, что термины определяют
реальность. Я поэтому сказал: — В такой форме я беседовать не
буду. Если угодно, я вам сделаю доклад, но предупреждаю, что он займёт не
меньше трёх часов. Брегель согласилась. Мы немедленно
уселись в кабинете, заперлись, и я занялся мучительным делом: переводом на
слова накопившихся у меня за пять лет впечатлений, соображений, сомнений и
проб. Мне казалось, что я говорил красноречиво, находил точные выражения для
очень тонких понятий, аналитическим ножом осторожно и смело вскрывал тайные
до сих пор области, набрасывал перспективы будущего и затруднения завтрашнего
дня. Во всяком случае, я был искренним до конца, не щадил никаких
предрассудков и не боялся показать, что в некоторых местах «теория» казалась
мне уже жалкой и чуждой. Джуринская слушала меня с радостным,
горящим лицом, Брегель была в маске, а о Чайкине мало я заботился. Когда я окончил, Брегель постучала
полными пальцами по столу и сказала таким тоном, в котором трудно было
разобрать, говорит ли она искренно или издевается: — Так… Скажу прямо: очень интересно,
очень интересно. Правда, Сергей Васильевич? Чайкин попытался поправить очки, впился в
свой блокнот и очень вежливо, как и полагается учёному, со всякими галантными
ужимочками и с псевдопочтительной мимикой произнёс такую речь: — Хорошо, это, конечно, нужно всё
осветить, да… но я бы усомнился и сейчас в некоторых, если можно так
выразиться, ваших теоремах, которые вы любезно нам изложили с таким даже
воодушевлением, что, разумеется, говорит о вашей убеждённости. Хорошо. Ну
вот, например, мы и раньше знали, а вы как будто умолчали. У вас здесь
организована, так сказать, некоторая конкуренция между воспитанниками: кто
больше сделает — того хвалят, кто меньше — того порицают. Поле у вас пахали,
и была такая конкуренция, не правда ли? Вы об этом умолчали, вероятно,
случайно. Мне желательно было бы услышать от вас: известно ли вам, что мы
считаем конкуренцию методом сугубо буржуазным, поскольку она заменяет прямое
отношение к вещи отношением косвенным? Это — раз. Другой: вы выдаёте
воспитанникам карманные деньги, правда к праздникам, и выдаёте не всем
поровну, а, так сказать, пропорционально заслугам. не кажется ли вам, что вы
заменяете внутреннюю стимулировку внешней и при этом сугубо материальной?
Дальше: наказания, как вы выражаетесь. Вам должно быть известно, что
наказание воспитывает раба, а нам нужна свободная личность, определяющая свои
поступки не боязнью палки или другой меры воздействия, а внутренними
стимулами и политическим самосознанием… Он ещё много говорил, этот самый Чайкин.
Я слушал и вспоминал рассказ Чехова, в котором описывается убийство при
помощи пресс‑папье; потом мне казалось, что убивать Чайкина не нужно, а
следует выпороть, только не розгой и не какой‑либо царскорежимной
нагайкой, а обыкновенным пояском, которым рабочий класс подвязывает штаны.
Это было бы идеологически выдержано. Брегель меня спросила, перебивая Чайкина: — Вы чему‑то улыбаетесь? Разве
смешно то, что говорит товарищ Чайкин? — О нет, — сказал я, — это
не смешно… — А грустно, да? — улыбнулась,
наконец, и Брегель. — Нет, почему же, и не грустно. Это
обыкновенно. Брегель внимательно глянула на меня и,
вздохнув, пошутила: — Трудно вам с нами, правда? — Ничего, я привык к трудным. У меня
бывают гораздо труднее. Брегель вдруг раскатилась смехом. — Вы всё шутите, товарищ
Макаренко, — успокоилась она наконец. — Вы всё-таки что‑нибудь
ответите Сергею Васильевичу? Я умильно посмотрел на Брегель и
взмолился: — Я думаю, пускай и по этим вопросам
тоже научпедком займётся. Ведь там всё сделают как следует? Лучше давайте
обедать. — Ну хорошо, — немного надулась
Брегель. — Да скажите, а что это за история: выгнали воспитанника
Опришко? — За пьянство. — Где же он теперь? Конечно, на
улице. — Нет, живёт рядом, у одного
куркуля. — Значит, что же, отдали на
патронирование? — В этом роде, — улыбнулся я. — Он там живёт? Это вы хорошо
знаете? — Да, хорошо знаю: живёт у куркуля
местного, Лукашенко. У этого доброго человека уж два беспризорных «на
патронировании». — Ну это мы проверим. — Пожалуйста. Мы отправились обедать. После обеда
Брегель и Чайкин захотели убедиться в чём-то собственными глазами, а я снял
шапку перед Любовью Савельевной. — Милый, дорогой, родненький
Наркомпрос! Нам здесь тесно и всё сделано. Мы запсихуем здесь через полгода.
Дайте нам что‑нибудь большое, чтобы голова закружилась от работы. У вас
же много всего! У вас же не только принципы! Любовь Савельевна засмеялась и сказала: — Я вас хорошо понимаю. Это можно
будет сделать. Пойдём, поговорим подробнее… Но постойте, вы всё о будущем.
Вас очень обижает эта ревизия? — О нет, пожалуйста! А как же иначе? — Ну а выводы, все эти вопросы
Чайкина вас не беспокоят? — А почему? Ведь ими будет
заниматься научпедком? Это ему беспокойство, а мне ничего… Вечером Брегель, уходя спать, поделилась
впечатлениями: — Коллектив у вас чудесный. Но это
ничего не значит, методы ваши ужасны. Я в глубине души обрадовался: хорошо ещё,
что она ничего не знает об обучении наших барабанщиков. — Спокойной ночи, — сказала
Брегель. — Да, имейте в виду, вас никто и не думает обвинять в смерти
Чобота… Я поклонился с глубокой благодарностью… |
|
||||
|
|
16. Запорожье
Снова наступило лето. Снова, не отставая
от солнца, заходили по полям сводные отряды, снова время от времени
заработали знамённые Четвёртые сводные, и командовал ими всё тот же Бурун. Рабфаковцы приехали в колонию в середине
июня и привезли с собою, кроме торжества по случаю перехода их на второй
курс, ещё и двух новых членов — Оксану и Рахиль, которым как колнисткам уже и
выбора никакого не оставалось: обязаны были ехать в колонию. А также приехала
и черниговка, существо, донельзя чернобровое и черноглазое. Звали черниговку
Галей Подгорной. Семён ввёл её в общее собрание колонистов, показал всем и
сказал: — Шурка написал в колонию, нибы я
заглядывался на вот эту самую черниговку. Ничего не было, честное
комсомольское слово. А важное что: Галя Подгорная не имеет, можно сказать,
никакой территории, чтобы поехать на каникулы. Судите нас, товарищи
колонисты: кто прав, а кто, может, и виноват. Семён уселся на землю, — собрание
происходило в парке. Черниговка с удивлением рассматривала
наше общество, голоногое, голорукое, а в некоторых частях и голопузое. Лапоть
поджал губы, прищурился, похлопал лысыми огромными веками и захрипел: — А скажите, пожалуйста, товарищ
черниговка… это… как его… Черниговка и собрание насторожились. — …а вы знаете «Отче наш»? Черниговка улыбнулась, смутилась,
покраснела и несмело ответила: — Не знаю… — Ага, не знаете? — Лапоть ещё
больше поджал губы и опять захлопал веками. — А «Верую» знаете? — Нет, не знаю… — Угу. А Днепр переплывёте? Черниговка растерянно посмотрела по
сторонам: — Да как вам сказать? Плаваю я
хорошо, наверное, переплыву… Лапоть повернулся к собранию с таким
выражением лица, какое бывает у напряжённо думающих дураков: надувался,
хлопал глазами, поднимал палец, задирал нос, и всё это без какого бы то ни
было намёка на улыбку. — Значиться, так будэмо говорыты:
«Отче наша» вона нэ тямыть, «Верую» ни в зуб ногой, Днипро пэрэплывэ. А може,
нэ пэрэплывэ? — Пэрэплывэ! — кричит собрание. — Ну добре, а колы не Днипро, так
Коломак пэрэплывэ? — Пэрэплывэ Коломак! — кричат
хлопцы в хохоте. — Выходыть так, що для нашои
лыцарьской запорожськой колонии годыться? — Годыться. — До якого курения? — До пятого. — В таким рази посыпьте ий голову
писочком и вэдить до куреня. — Та куды ж ты загнув? — кричит
Карабанов. — То ж тилько кошевым писочком посыпалы… — А скажи мени, козачэ, —
задаёт вопрос Семёну Лапоть, — а чи життя розвываеться, чи нэ
розвываеться? — Розвываеться. Ну? — Ну так раньше посыпали голову кошевому,
а теперь всем. — Ага, — говорит
Карабанов, — правильно! Мысль о переезде на Запорожье возникла у
нас после одного из писем Джуринской, в котором она сообщала тёмные слухи,
что есть проект организовать на острове Хортице большую детскую колонию, причём
в Наркомпросе будут рады, если центральным организатором этой колонии явится
колония имени Горького. Детальная разработка этого проекта ещё и
не начиналась. На мои вопросы Джуринская отвечала, что окончательного решения
вопроса нельзя ожидать скоро, что всё это связано с проектом Днепростроя. Что там делалось в Харькове, мы хорошо не
знали, но в колонии делалось много. Трудно было сказать, о чём мечтали
колонисты: о Днепре, об острове, о больших полях, о какой‑нибудь
фабрике. Многих увлекала мысль о том, что у нас будет собственный пароход.
Лапоть дразнил девочек, утверждая, что на остров Хортицу по старым правилам
девочки не допускаются, поэтому придётся для них выстроить что‑нибудь
на берегу Днепра. — Но это ничего, — утешал
Лапоть. — Мы будем приезжать к вам в гости, а вешаться будем на острове
— вам же спокойнее. Рабфаковцы приняли участие в шутливых
мечтах получить в наследство запорожский остров и охотно отдали дань ещё не
потухшему стремлению к игре. Целыми вечерами колония хохотала до слез, наблюдая
на дворе широкую имитацию запорожской жизни, — для этого большинство как
следует штудировало «Тараса Бульбу». В такой имитации хлопцы были
неисчерпаемы. То появится на дворе Карабанов в штанах, сделанных из
театрального занавеса, и читает лекцию о том, как пошить такие штаны, на
которые, по его словам, нужно сто двадцать аршин материи. То разыгрывается на
дворе страшная казнь запорожца, обвинённого всей громадой в краже. При этом в
особенности стараются сохранить в неприкосновенности такую легендарную деталь:
казнь совершается при помощи киёв, но право на удар кием имеет только тот,
кто перед этим выпьет «кухоль горилки». За неимением горилки для колонистов,
приводящих казнь в исполнение, ставится огромный горшок воды, выпить который
даже самые большие питухи, водохлебы не в состоянии. То четвёртый сводный,
отправляясь на работу, подносит Буруну булаву и бунчук. Булава сделана из
тыквы, а бунчук из мочалы, но Бурун обязан принять все эти «клейноды» с
почтением и кланяться на четыре стороны. Так проходило лето, а запорожский проект
оставался проектом, ребятам уж и играть надоело. В августе уехали рабфаковцы
и увезли с собою новую партию. Целых пять командиров выбыли из строя, и самая
кровавая рана была на месте командира второго — уехал‑таки на рабфак
Антон Братченко, мой самый близкий друг и один из основателей колонии имени
Максима Горького. Уехал и Осадчий, за которого я заплатил хорошим куском
жизни. Был это бандит из бандитов, а уехал в Харьков в технологический
институт стройный красавец, высокий, сильный, сдержанный, полный какого‑то
особенного мужества и силы. Про него Коваль говорил: — Комсомолец какой Осадчий, жалко
провожать такого комсомольца! Это верно: Осадчий вынес на своих плечах
в течение двух лет сложнейшую нагрузку командира мельничного отряда, полную
бесконечных забот, расчётов с сёлами и комнезами. Уехал и Георгиевский, сын иркутского
губернатора, так и не смывший с себя позорного пятна, хотя в официальной
анкете Георгиевского и было написано: «Родителей не помнит». Уехал и Шнайдер — командир славного
восьмого отряда, и командир пятого, Маруся Левченко, уехала. Проводили рабфаковцев и вдруг заметили,
как помолодело общество горьковцев. Даже в совете командиров засели недавние
пацаны: во втором отряде Витька Богоявленский, в третьем отряде заменил
Опришко Шаровский Костя, в пятом Наташа Петренко, в девятом Митька Жевелий, и
только в восьмом добился, наконец, командирского поста огромный Федоренко.
Отряд пацанов передал Георгиевский после трёхлетнего командования Тоське
Соловьёву. Снова закопали бураки и картошку,
обложили конюшни соломой, очистили и спрятали семена на весну, и снова на
зябь, уже без конкуренции, заработали первые и вторые сводные. И только тогда
получили мы из Харькова официальное предложение Наркомпроса осмотреть в
Запорожском округе имение Попова. Общее собрание колонистов, выслушав моё
сообщение и пропустив через все руки бумажку Наркомпроса, сразу
почувствовало, что дело серьёзное. Ведь у нас на руках была и другая бумажка,
в которой Наркомпрос просил Запорожский окрисполком передать имение Попова в
распоряжение колонии. В тот момент эти бумажки казались нам
окончательным решением вопроса: оставалось вздохнуть свободно, забыть
бесконечные разговоры о монастырях, ещё не оживших помещичьих гнездах,
потушить сказку о Хортицком острове, собираться и ехать. Осмотреть и принять имение Попова поехали
я и Митька Жевелий, избранный общим собранием. Митьке было уже пятнадцать
лет. Он давно стоял в строю пацанов на голову выше других, давно прошёл
сложные искусы комсводотряда, больше года уже комсомолец, а в последнее время
заслуженно был выдвинут на ответственный пост командира девятого. Митька был
представителем новейшей формации горьковцев: к пятнадцати годам он приобрёл
большой хозяйственный опыт, и пружинный стан, и удачу организатора,
заразившись в тоже время многими ухватками старшего боевого поколения. Митька
с первого дня был корешком Карабанова и от Карабанова получил как будто в
наследство чёрный огневой глаз и энергничное красочное движение; но и
отличался Митька от Семёна заметно хотя бы уже потому, что к пятнадцати годам
Митька был в пятой группе. Мы с Митькой выехали в ясный морозный
бесснежный день в конце ноября и через сутки были в Запорожье. По молодости
нашей воображали, что новая счастливая эра трудовой колонии имени Горького
начнётся приблизительно так: председатель окрисполкома, человек с
революционным приятным лицом, встретит нас ласково, обрадуется и скажет: — Имение Попова? Для колонии имени
Горького? Как же, как же, знаю. Пожалуйста, пожалуйста! Вот вам ордер на имение,
идите и владейте. Останется нам только узнать, где дорога в
имение, и лететь в колонию с приглашением: — Скорее, скорее собирайтесь!.. В том, что имение Попова нам понравится,
мы не сомневались. На что уже Брегель в Наркомпросе женщина строгая, а та и
сказала нам с Митькой, когда мы заехали к ней в Харьков: — Попова имение? Как раз для
Макаренко! Этот самый Попов был немножко чудак, он там такого настроил… да
вот увидите. Хорошее имение, и вам понравится. Джуринская говорила то же: — Там хорошо, и богато, и красиво.
Это место нарочно сделано для детской колонии. И Мария Кондратьевна сказала: — Прелесть, что за такое имение! Уже одно то, что всем это имение
известно, много значило, и поэтому и я и Митька были в фаталистическом
настроении: это для нас, горьковцев, специально судьба приготовила. Но из всех наших ожиданий правильным
оказалось только одно: лицо предисполкома было действительно симпатичное и
революционное. Всё остальное вышло не так, и прежде всего не таковы были его
речи. Прочитав бумажку Наркомпроса,
председатель сказал: — Да, но там ведь крестьянская
коммуна! А что это за колония Горького? Он откровенно разглядывал нас с Митькой,
и, кажется, Митька понравился ему больше, чем я, ибо он улыбнулся черноглазой
Митькиной настороженности и спросил: — Так это такие мальчики будут там
хозяйничать? Митька решительно покраснел и начал
грубиянить: — А чем у нас бузовые пацаны?
Наверное, не хуже ваших граков будем хозяйничать. После этих слов Митька ещё больше
покраснел, а председатель ещё больше улыбнулся и доверчиво признал: — Это крестьян вы так называете —
«граки»? Действительно, хозяйничают плохо. Но ведь там полторы тысячи
гектаров. Дело это выше компетенции окрисполкома, придётся вам воевать в
Наркомземе. Митька недоверчиво прищурился на председателя: — Вы сказали: дело выше… как это…
компенции? Это значит как? — А я ваш язык лучше понимаю, чем вы
мой… Ну хорошо, вам заведующий объяснит, что такое компетенция. А что я могу
сделать? Я дам вам машину, езжайте, посмотрите. Кстати, на месте поговорите с
коммуной, — может быть, договоритесь. Но решать дело придётся в
Харькове, в Наркомземе. Улыбаясь, председатель пожал руку Митьке: — Если у вас все такие «пацаны», я
буду вас поддерживать. Мы с Митькой видели имение Попова и были
отравлены его красотой. На краю знамеитого Великого луга,
кажется, на том самом месте, где стояла хата Тараса Бульбы, в углу между
Днепром и Кара‑Чекраком неожиданно в степи вытянулись длинные холмы.
Между ними Кара‑Чекрак прямой стрелкой стремится к Днепру, даже на
речку не похоже — канал, а на высоком берегу его — чудо. Высокие зубчатые
стены, за стенами дворцы, остроконечные и круглые кровли, перепутанные в
сказочном своеволии. На некоторых башнях ещё и флюгера мотались, но окна
смотрели чёрными пустыми провалами, и в этом было тяжёлое противоречие с
живой вычурностью мавританской или арабской фантазии. Через ворота в двухэтажной башне вьехали
мы на огромный двор, выложенный квадратными плитами, между которыми торчали с
угрюмым нахальством сухие, дрожащие от мороза стебли украинского бурьяна и на
которых коровы, свиньи, козы понабрасывали чёрт знает чего. Вошли в первый
дворец. Ничего в нём уже не было, кроме сквозняков, пахнувших известкой, да в
вестибюле на куче мусора валялась гипсовая Венера Милосская не только без
рук, но и без ног. В других дворцах, таких же высоких и изящных, тоже сильно
ещё пахло революцией. Опытным глазом восстановителя я прикидывал, во что
обойдётся ремонт. Собственно говоря, ничего страшного и не было: окна, двери,
поправить паркет, штукатурка, Милосскую можно было и не восстанавливать;
лестницы, потолки, печи были целы. Митька был менее прозаичен, чем я. Никакие
разрушения не могли потушить в нём эстетического восторга. Он бродил по
залам, башням, переходам, дворам и дворикам и ахал: — Ох ты ж, чёрт! От смотри ж ты! Ну
и здорово, честное слово! Ой, и грубое ж место, Антон Семёнович! От хлопцы
будут довольны! Хорошо, честное слово, хорошо! А сколько же тут можно пацанов
поместить? Мабудь, тысячу? По моим расчётам выходило: пацанов можно
поместить восемьсот. — А чи справимся? Восемьсот — это ж,
наверное, с улицы. А наши все командиры на рабфаке… О том, справимся или не справимся,
некогда было думать — смотрели дальше. На чёрном дворе хозяйничала коммуна и
хозяйничала отвратительно. Бесконечная конюшня была забита навозом, и в
навозных кучах, давно без подстилки и уборки, стояли кое‑где
классические клячи с выпирающими остряками костей и с испачканными задами,
многие плешивые. Огромная свинарня вся сквозила дырками, свиней было мало, и
свиньи были плохие. На замёрзших кочках двора торчали и валялись беспризорные
возы, сеялки, колёса, отдельные части, и всё это покрывалось, как лаком,
диким, одуряющим бездельем. Только в свинарне вытянул к нам грязную бороду
корявый дедушка и сказал: — Колы в контору, так он в ту
хатынку зайдить. — А где же ваши свиньи? —
спросил Митька. — Как вы говорите?.. Ага ж… свиньи
дэ?.. Дед затоптался на месте, потрогал
прозрачными пальцами усы и оглянулся на станки. Видно, Митькин вопрос был для
деда дипломатически непосилен. Но он храбро махнул рукой: — Та… поилы, сволочи, свиней, поилы… — Кто это? — Та хто ж? Свои поилы… коммуна оця
самая… — Так и вы ж, дедушка в коммуне? — Хе‑хе, голубе, я в коммуни,
як теля в отари. Теперь хто галасуваты глотку мае, той и старший. А диду не
дали свинячины, не далы. А вы ж чого? — Да по делу. — Ага ж, по делу значить… Ну
конечно, раз по делу, так идить, от там заседають… Заседають, как же… Они всё
заседають, а тут… Дед разгонялся, видимо, на большие
откровенности, но нам было некогда. В тесной конторе на издыхающих барских
стульях в самом деле заседали. Сквозь махорочный дым трудно было разглядеть,
сколько сидело человек, но галдёж был порядка двух десятков. К сожалению, мы
так и не узнали повестки дня, потому что, как только мы вошли, тёмнобородый
кучерявый мужчина, с глазами нежными и круглыми, как у девочки, спросил нас: — А что за люди? Начался разговор, сначала недружелюбно‑официальный,
потом враждебно‑страстный и только часа через два просто деловой. Я, оказывается, ошибался. Коммуна была
тяжело больна, но умирать не собиралась и, распознав в нас непрошенных
могильщиков, возмутилась и из последних сил проявила жажду жить. Ясно было одно: для коммуны полторы
тысячи га было много. В этом чрезмерном богатстве и заключалась одна из
причин её бедности. Мы легко договорились, что землю можно будет поделить.
Ещё легче коммуна согласилась отдать нам дворцы, зубцы и башни вместе с
Венерой Милосской. Но когда очередь дошла до хозяйственного двора, и у
коммунаров и у нас разгорелись страсти, Митька даже не удержался на линии
спора и перешёл на личности: — А почему у вас до сих пор бурак в
поле лежит? И председатель ответил: — А молодой ты ещё меня про бурак
спрашивать! Только поздно вечером мы и по этому
пункту договорились. Митька сказал: — Ну чего мы споримся, как ишаки?
Можно ж хозяйственный двор поделить стенкой. На том и помирились. На чём мы добрались до колонии Горького,
не помню, но кажется — это было что‑то вроде крыльев. Наш рассказ на
общем собрании встречен был ещё невиданной овацией. Меня и Митьку качали,
чуть не разбили мои очки, а у Митьки что‑то таки разбили — нос или лоб. В колонии началась действительно
счастливая эра. Месяца три колонисты жили планами. Брегель упрекала меня,
заехавши в колонию: — Макаренко, кого вы воспитываете?
Мечтателей? Пусть даже и мечтателей. Я не в восторге
от самого слова «мечта». От него действительно несёт чем‑то
барышенским, а может быть, и хуже. Но ведь и мечта разная бывает: одно дело
мечтать о рыцаре на белом коне, а другое — о восьми сотнях ребят в детской
колонии. Когда мы жили в тесных казармочках, разве мы не мечтали о высоких,
светлых комнатах? Обвязывая ноги тряпками, мечтали о человеческой обуви.
Мечтали о рабфаке, о комсомоле, мечтали о Молодце и о симментальском стаде.
Когда я привёз в мешке двух английских поросят, один такой мечтатель,
нестриженный пацан Ванька Шелапутин, сидел на высокой скамье, положив под
себя руки, болтая ногами, и глядел в потолок: — Это ж только два поросёнка. А
потом они приведут ещё сколько. А те ещё сколько. И через… пять лет у нас
будет сто свиней. Го‑го! Ха‑ха! Слышишь, Тоська, сто свиней! И мечтатель и Тоська непривычно хохотали,
заглушая деловые разговоры в моём кабинете. А теперь у нас больше трёхсот
свиней, и никто не вспоминает, как мечтал Шелапутин. Может быть, главное отличие нашей
воспитательной системы от буржуазной в том и дежит, что у нас детский
коллектив обязательно должен расти и богатеть, впереди должен видеть лучший
завтрашний день и стремиться к нему в радостном общем напряжении, в
настойчивой весёлой мечте. Может быть, в этом и заключается истинная
педагогическая диалектика. Поэтому я не надевал на мечту колонистов
никакой узды и вместе с ними залетел, можеть быть, и слишком далеко. Но это
было очень счастливое время в колонии, и теперь о нём все мои друзья вспоминают
радостно. С нами мечтал и Алексей Максимович, которому мы подробно писали о
наших делах. Не радовались и не мечтали в колонии
только несколько человек, и между ними Калина Иванович. У него была молодая
душа, но, оказывается, для мечты одной души мало. И сам Калина Иванович
говорил: — Ты видав, как хороший конь
автомобиля боится? Это потому, что он, паразит, жить хочет. А шкапа если
какая, так она не только что автомобиля, а и чёрта не боится, потому что ей
всё равно: чи хлеб, чи толокно, как пацаны говорят… Я уговаривал Калину Ивановича ехать с
нами, и хлопцы просили, но Калина Иванович был твёрд: — Я вже теперь ничего не боюся, и
вам такие паразиты ни к чему. Погуляв с вами, и довольно! А теперь на пенсию:
при совецькой власти хорошо дармоедам — старым перхунам. И Осиповы заявили, что они никуда с
колонией не поедут, что с них довольно сильных переживаний. — Мы люди скромные, — говорила
Наталья Марковна. — Мы даже не понимаем, для чего это вам нужно
восемьсот душ. Честное слово, Антон Семёнович, вы сорвётесь на этой затее. В ответ на эту декларацию я декламировал:
«Безумству храбрых поём мы песню». Ребята аплодировали и смеялись, но
Осиповых таким способом смутить было нельзя. Впрочем, Силантий меня утешал: — Здесь это, пускай остаются. Ты
это, Антон Семёнович, любишь, как говорится, всех в беговые дрожки запрягать.
Корова, здесь это, для такого дела не годится, а ты её всё цепляешь. Видишь,
какая история. — А тебя можно, Силантий Семёнович? — Куда это? — Да вот — в беговые дрожки. — Меня, здесь это, куда хочешь, хоть
Будённому под седло. Это, понимаешь, сволочи меня прилаживали, как говорится,
воду возить. А не разглядели, гады, конь какой боевой! Силантий задирал голову и топал ногой, с
некоторым опозданием прибавляя: — Видишь, какая история. То обстоятельство, что почти все
воспитатели, и Силантий, и Козырь, и Елисов, и кузнец Годанович, и все
прачки, кухарки и даже мельничные решили ехать с нами, делало этот переезд
как‑то по особенному уютным и надёжным. А между тем дела в Харькове были плохие.
Я часто туда ездил. Наркомпрос нас дружно поддерживал. Даже Брегель
заразилась нашей мечтой, хотя в этот период меня иначе не называла, как Дон‑Кихот
Запорожский. На что уже Наркомзем, хотя и выпячивал
губы и ошибался презрительно: то колония Горького, то колония Короленко, то
колония Шевченко, — и тот уступил: берите, мол, и восемьсот десятин и
поповское имение, только отвяжитесь. Враги наши оказались не на боевом фронте,
а в засаде. Наткнулся я на них в горячей атаке, воображая, что это последний
победный удар, после которого только в трубы трубить. А против моей атаки
вышел из‑за кустов маленький такой, в кучем пиджачке человечек, сказал
несколько слов, и я оказался разбитым наголову и покатился назад, бросая
орудия и знамёна, комкая ряды разогнавшихся в марше колонистов. — Наркомфин не может согласиться на
эту афёру — дать вам тридцать тысяч, чтобы ремонтировать никому не нужный
дворец. А ваши детские дома стоят в развалинах. — Да ведь это не только на ремонт. В
эту смету входят и инвентарь и дорога. — Знаем, знаем: восемьсот десятин,
восемьсот беспризорных и восемьсот коров. Времена таких афёр кончились.
Сколько мы Наркомпросу миллионов давали, всё равно ничего не выходит:
раскрадут всё, поломают и разбегутся. И человечек наступил на грудь повергнутой
так неожиданно нашей живой, нашей прекрасной мечты. И сколько она ни плакала
под этой ногой, сколько ни доказывала, что она мечта горьковская, ничего не
помогло — она умерла. И вот я, печальный, возвращаюсь домой,
судорожно вспоминая: ведь в нашей школе комплексом проходит тема «Наше
хозяйство в Запорожье». Шере два раза ездил в имение Попова. Он составил и
рассказал колонистам переливающий алмазами, изумрудами, рубинами
хозяйственный план, в котором лучились, играли, ослепляли тракторы, сотни
коров, тысячи овец, сотни тысяч птиц, экспорт масла и яиц в Англию,
инкубаторы, сепораторы, сады. Ведь ещё на прошлой неделе вот так же я
возвращался из Харькова, и меня встречали возбуждённые пацаны, стаскивали с
экипажа и вопили: — Антон Семёнович, Антон Семёнович!
У Зорьки жеребёнок! Вот посмотрите, посмотрите! Нет, вы сейчас посмотрите!.. Они потащили меня в конюшню и окружили
там ещё сырого, дрожащего золотого лошонка. Улыбались молча, и только один
сказал задушевно: — Запорожцем назвали… Милые мои пацаны! Не ходить вам за плугом
по Великому лугу, не жить в сказочном дворце, не трубить вашим трубачам с
высоты мавританских башен, и золотого конька напрасно вы назвали Запорожцем. |
|
||||
|
|
17. Как нужно считать
Удар, нанесённый человеком из Наркомфина,
оказался ударом тяжёлым. Защемило под сердцем у колонистов, заухмылялись и
заржали недруги, и я растерялся не на шутку. Но никому уже не приходило в
голову, что мы можем остаться на Коломаке. И в Наркомпросе покорно ощущали
нашу неподатливость, и у них вопрос стоят только в одной форме: куда ехать? Февраль и март 1926 года были поэтому
очень сложно построены. Неудача с Запорожьем потушила последние вспышки
торжественной и праздничной надежды, но взамен её осталась у коллектива
упрямая уверенность. Не было недели, чтобы на общем собрании колонистов не
обсуждалось какое‑нибудь предложение. На просторных степях Украины
много ещё было таких мест, где либо никто не хозяйничал, либо хозяйничал
плохо. Их по очереди подкладывали нам друзья из Наркомпроса, комсомольские
организации, соседи‑старожилы и далёкие знакомцы‑хозяйственники.
И я, и Шере, и хлопцы много исколесили в то время дорог и шляхов и в поездах,
и в машинах, и на Молодце, и на разных конях местного транспорта. Но разведчики привозили домой почти одну
усталость; на общих собраниях колонисты выслушивали их с холодными деловыми
лицами и расходились по своим делам, метнув в докладчика первым попавшимся
тяжёлым вопросом: — Сколько там можно поместить? Сто
двадцать человек? Чепуха! — А город какой? Пирятин? Ерунда! Да и сами докладчики были рады такому
концу, ибо в глубине души больше всего боялись, как бы собрание чем‑нибудь
не соблазнилось. Так прошли перед нашими глазами имение
Старицкого в Валках, монастырь в Пирятине, монастырь в Лубнах, хоромы князей
Кочубеев в Диканьке и ещё кое‑какая дрянь. Ещё больше пунктов называлось и сразу
отбрасывалось, не удостаиваясь разведки. И между ними был и Куряж — детская
колония под самым Харьковым, в которой было четыреста ребят, по слухам,
разложившихся вконец. Представление о разложившемся детском учреждении было
для нас таким отвратительным, что мысль о Куряже вздувалась только мелкими
чахоточнымии пузырьками, которые лопались в момент появления. Однажды во время моей очередной поездки в
Харьков попал я на заседание помдета. Обсуждался вопрос о положении Куряжской
колонии, состоявшей в его ведомстве. Инспектор наробраза Юрьев озлоблённо‑сухо
докладывал о положении в колонии, сжимал и укорачивал выражения, и тем и
глупее и возмутительнее представлялись тамошние дела. Сорок воспитателей и
четыреста воспитанников казались слушателю сотнями издевательских анекдотов о
человеке, измышлением какого‑то извращённого негодяя, мизантропа и
пакостника. Я готов был стукнуть кулаком по столу и кричать: — Не может быть! Сплетни! Но Юрьев казался очень основательным
человеком, а сквозь вежливую серьёзность докладчика хорошо просвечивала давно
насиженная наробразовская грусть, в которой сомневаться я меньше всего имел
оснований. Юрьев меня стыдился и поглядывал иногда с таким выражением, как
будто у него случился беспорядок в костюме. После заседания он подошёл ко мне
и прямо сказал: — Честное слово, при вас стыдно было
рассказывать обо всех этих гадостях. Ведь у вас, рассказывают, если колонист
опоздает на пять минут к обеду, вы его сажаете под арест на хлеб и на воду на
сутки, а он улыбается и говорит «есть». — Ну, не совсем так. Если бы я
практиковал такой удачный метод, вам пришлось бы и о колонии Горького
докладывать приблизительно в стиле сегодняшнего вашего доклада. Мы с Юрьевым разговорились, заспорили. Он
пригласил меня обедать и за обедом сказал: — Знаете что? А почему вам не взять
Куряж? — Да что ж там хорошего? И ведь там
полно? — Да зачем полно? Мы очистим для
ваших сто двадцать мест. — Не хочется. Грязная работа. Да и
не дадите работать… — Дадим! Чего вы нас так боитесь?
Дадим вам открытый лист — делайте, что хотите. Этот Куряж — это ужас какой‑то!
Подумайте, под самой столицей такое бандитское гнездо. Вы же слышали. На
дороге грабят! На восемнадцать тысяч рублей раскрали только в самой колонии —
за четыре месяца. — Значит, там нужно весь персонал
выгнать. — Нет, зачем же… там есть отличные
работники. — Я в таких случаях сторонник полной
асептики. — Ну хорошо, выгоняйте, выгоняйте!.. — Да нет, в Куряж мы не поедем? — Но вы же ещё и не видели? — Не видел. — Знаете что? Оставайтесь на завтра,
возьмём Халабуду и поедем, посмотрим. Я согласился. На другой день мы втроём
поехали в Куряж. Я ехал сюда, не предчувствуя, что еду выбирать могилу для
моей колонии. С нами был Халабуда Сидор Карпович,
председатель помдета. Он честно председательствовал в этом учреждении,
состоявшем тогда из плохих, развалившихся детских домов и колоний, бакалейных
магазинов, кинотеатров, магазинов плетёной мебели, увеселительных садов,
рулеток и бухгалтерий. Сидор Карпович был покрыт паразитами: коммерсантами,
комиссионерами, крупье, шарлатанами, жуликами, шулерами и растратчиками, и
мне от души хотелось подарить ему большую бутылку сабадилловой настойки. Он
давно уже был оглушён различными соображениями, которые ему со всех сторон
подсказывали: экономическими, педагогическими, психологическими и прочими, и
прочимии, и поэтому давно потерял надежду понять, отчего в его колониях
нищета, повальное бегство, воровство и хулиганство, покорился
действительности, глубоко верил, что беспризорный — это соединение всех семи
смертных грехов, и от всего своего былого прекраснодушия оставил себе только
веру в лучшее будущее и веру в жито. Последнюю черту его характера я выяснил
уже в дальнейшем, а сейчас, сидя в автомобиле, я без какого бы то ни было подозрения
выслушивал его речи: — Надо, чтобы у людей жито было.
Если у людей есть жито, так ничего не страшно. Что с того, понимаешь, что ты
его Гоголю научишь, а если у него хлеба нету? Ты дай ему жита, а потом и
книжку подсунь… Вот и эти бандиты жита посеять не умеют, а красть умеют. — Плохой народ? — Они? Ох, и народ же, понимаешь!
Они ко мне, это: дай, Сидор Карпович, пятёрку, курить хочется. Дал я,
конечно, а он через неделю опять: Сидор Карпович, дай пять рублей. Я ж тебе,
говорю, дал. Так, говорит, ты на папиросы дал, а теперь на водку дай… Пролетев километров шесть от города по
песчаной скучной дороге, взобрались мы на пригорок и вьехали в облезшие
ворота монастыря. Посреди круглого двора бесформенная громада древнего, тем
не менее безобразного храма, за ним что‑то трёхэтажное, а по окружности
длинные приземистые флигели, подпёртые полусгнившими крылечками. Немного в
стороне по краю обрыва деревянная двухэтажная гостиница в период перестройки.
По углам и закоулкам попрятались чёрт его знает из чего слепленные домики,
сарайчики, кухоньки, всякая дрянь, скопившаяся за триста молитвенных лет.
Меня прежде всего поразил царящий в колонии запах. Это была сложная смесь из
уборных, борща, навоза и… ладана. В церкви пели, на ступенях у входа сидели
сухие несимпатичные старухи и, наверное, вспоминали о тех счастливых
временах, когда было у кого просить милостыню. Но колонистов не было видно. Серенький, поношенный заведующий с тоской
посмотрел на наш фиат, хлопнул рукой по крылу машины и повёл нас показывать
колонию. Видно было, что он уже привык показывать её не для славы, а для
осуждения, и тропы его мучений были ему хорошо известны. — Вот здесь спальни первого
коллектива, — сказал он, проходя в то место, где раньше были двери, а
теперь только дверная рама, даже и наличников не было. Так же беспрятственно
мы переступили и через второй порог и повернули в коридор влево. Я только
тогда понял, что коридор этот ничем не отделяется от воздуха, бывшего когда‑то
свежим. Это, между прочим, доказывалось и наметами снега под стенами,
успевшими уже покрыться пылью. — А как же это… без дверей? —
спросил я. Заведующий с трудом показал нам, что
когда‑то он умел улыбаться, и пошёл дальше. Юрьев сказал громко: — Двери давно сгорели. Если бы
только двери! Уже полы срывают и жгут, сожгли и навесы над погребами и даже
часть возов. — А дрова? — А чёрт их знает, почему у них дров
нет! Деньги были отпущены на дрова. Халабуда высморкался и сказал: — Дрова, наверное, и теперь есть. Не
хотят распилить и поколоть, а нанять не на что. Есть дрова у сволочей… Знаете
же, какой народ — бандиты! Наконец, мы подошли к настоящей закрытой
двери в спальню. Халабада стукнул по ней ногой, и она немедленно повисла на
одной нижней петле, угрожая свалиться нам на головы. Халабуда поддержал её
рукой и засмеялся: — Э, нет, чёртова ведьма! Я тебя уже
хорошо знаю… Мы вошли в спальню. На изломанных грязных
кроватях, на кучах бесформенного мусорного тряпья сидели беспризорные,
настоящие беспризорные, во всём их великолепии, и старались согреться,
кутаясь в такое же тряпье. У облезшей печки двое разбивали колуном доску,
окрашенную видно, недавно в жёлтый цвет. По углам и даже в проходах было
нагажено. здесь были те же запахи, что и на дворе, минус ладан. Нас провожали взглядами, но головы никто
не повернул. Я обратил внимание, что все беспризорные были в возрасте старше
шестнадцати лет. — Это у вас самые старшие? —
спросил я. — Да, это первый коллектив — старший
возраст, — любезно пояснил заведующий. Из дальнего угла кто‑то крикнул
басом: — Вы не верьте им, что они говорят!
Врут всё! В другом конце сказали свободно, отнюдь
ничего не подчёркивая: — Показывают… Чего тут показывать?
Показали бы лучше, что накрали. Мы не обратили никакого внимания на эти
возгласы, только Юрьев покраснел и украдкой посмотрел на меня. Мы вышли в коридор. — В этом здании шесть спальных
комнат, — сказал заведующий. — Показать? — Покажите мастерские, —
попросил я. Халабуда оживился и начал длинную повесть
о том, с каким успехом он покупал станки. Мы снова вошли во двор. Навстречу нам,
завернувшись в клифт, прыгал по кочкам пацан, стараясь не попадать босыми
чёрными ногами на полосы снега. Я его остановил, отставая от других: Ты откуда бежишь, пацан? Он остановился и поднял лицо: — А я ходил узнавать, чи не будут
нас отправлять? — Куда? — Говорили, что будут отправлять
куда‑то. — А здесь плохо? — Здесь уже нельзя жить, — тихо
и грустно сказал пацан, почёсывая ухо о край клифта. — здесь можно и
замёрзнуть… И бьют… — Кто бьёт? — Все. Пацан был из смышлёных и, кажется, без
уличного стажа; у него большие голубые глаза, ещё не обезображенные уличными
гримасами; если его умыть, получится милый ребёнок. — За что бьют? — А так. Если не дашь чего. Или обед
отнимут когда. У нас пацаны так давно не обедают. Бывает, и хлеб отнимают…
Или, если не украдешь… тебе скажут украсть, а ты не украдешь… А вы не знаете,
будут отправлять? — Не знаю, голубчик. — А говорят, скоро будет лето… — А тебе для чего лето? — Пойду. Меня звали к мастерским. Мне казалось
невозможным уйти от пацана, не оказав ему никакой помощи, но он уже прыгал по
кочкам, приближаясь к спальням, — вероятно, в спальнях всё-таки теплее,
чем на кочках. Мастерские нам не удалось посмотреть: кто‑то
таинственный владел ключами, и никакие поиски заведующего не привели к
выяснению тайны. Мы ограничились тем, что заглянули в окна. Здесь были
штамповальные станки, деревообделочные и два токарных, всего двенадцать
станков. В отдельных флигелях помещались сапожная и швейная — столп и
утверждение педагогики. — У вас сегодня праздник, что ли? Заведующий не ответил. Юрьев взял снова
на себя этот каторжный труд: — Я вам удивляюсь, Антон Семёнович.
Вы должны уже всё понять. Никто здесь не работает, это общее положение. А
кроме того, инструменты раскрадены, материала нет, энергии нет, заказов нет,
ничего нет. Да ведь и работать никто не умеет. Собственная электростанция, о которой
Халабуда тоже рассказал целую историю, само собой, не работала: что‑то
было поломано… — Ну а школа? — Школа имеется, — сказал лично
заведующий, — только… нам не до школы… Халабуда настойчиво тянул на поле. Мы
вышли из круга, ограниченного стенами саженной толщины, и увидели большую
впадину бывшего когда‑то пруда, а за ним до леса поля, покрытые тонким
разветренным снегом. Халабуда, как Наполеон, вытянул руку и торжественно
произнес: — Сто двадцать десятин! Богатство! — Озимые посеяны? — спросил я
неосторожно. — Озимые! — вскричал в восторге
Халабуда. — Тридцать десятин жита, считайте по сто пудов, три тысячи
пудов одного жита! Без хлеба не будут. А жито какое! Если люди будут сеять
жито, можно одно жито. Пшеница — это что? Житный хлеб, ты знаешь, немцы его
не могут есть, да и французы не могут… А наш брат, ест житный хлеб… Мы успели возвратиться к машине, а
Халабуда всё говорил о жите. Сначала нас это раздражало, а потом стало даже
интересно: что ещё можно сказать о жите? Мы сели в машину и уехали, провожаемые
одиноким, скучным заведующим. Молчали до самой Холодной горы. Когда проезжали
через базар, Юрьев кивнул на группу беспризорных и сказал: — Это воспитанники из Куряжа… Ну
что, берёте? — Нет. — Чего вы боитесь! Ведь колония
имени Горького правонарушительская? Всё равно к вам Всеукраинская комиссия
присылает всякую дрянь. А здесь мы вам даём нормальных детей. Даже Халабуда захохотал в машине: — Нормальные, тоже сказал!.. Юрьев продолжал своё: — Заедем сейчас к Джуринской,
поговорим. Помдет уступит колонию Наркомпросу. Харькову неудобно посылать к
вам правонарушителей, а своей колонии нет. А здесь будет своя, да ещё какая:
на четыреста человек! Это шикарно. Мастерские здесь неплохие. Сидор Карпович,
отдадите колонию? Халабуда подумал: — Тридцать десятин жита — это двести
сорок пудов семян. А работа? Заплатите? А колонию почему не отдать? Отдадим. — Заедем к Джуринской, —
твердил Юрьев. — Сто двадцать ребят помоложе куда‑нибудь
переведём, а двести восемьдесят оставим вам. Они хоть и не правонарушители
формально, так после куряжского воспитания ещё хуже. — Зачем я полезу в эту яму? —
сказал я Юрьеву. — И, кроме того, здесь нужно как‑то прибрать. Это
будет стоить не меньше двадцати тысяч рублей. — Сидор Карпович даст. Халабуда проснулся. — За что двадцать тысяч? — Цена крови, — сказал
Юрьев, — цена преступления. — Зачем двадцать тысяч? — ещё
раз удивился Халабуда. — Ремонт, двери, инструменты,
постели, одежда, всё! Халабуда надулся: — Двадцать тысяч! За двадцать тысяч
мы и сами всё сделаем. У Джуринской Юрьев продолжал агитацию.
Любовь Савельевна слушала его, улыбаясь, и с любопытством посматривала на
меня. — Это был бы слишком дорогой
эксперимент. Рисковать колонией имени Горького мы не можем. Надо просто: Куряж
закрыть, а детей распределить между другими колониями. Да и товарищ Макаренко
не пойдёт в Куряж. — Нет, — сказал я. — Это окончательный ответ? —
спросил Юрьев. — Я поговорю с колонистами, но,
вероятно, они откажутся. Халабуда хлопнул глазами. — Кто откажется? — Колонисты. — Эти… ваши воспитанники? — Да. — А что они понимают? Джуринская положила руку на рукав
Халабуды: — Голубчик Сидор! Они там больше нас
с тобой понимают. Хотела бы я посмотреть на их лица, когда они увидят твой
Куряж. Халабуда рассердился: — Да что вы ко мне пристали: «твой
Куряж»! Почему он мой? Я дал вам пятьдесят тысяч рублей. И двигатель. И
двенадцать станков. А педагоги ваши… Какое мне дело, что они плохо
работают?.. Я оставил этих деятелей соцвоса сводить
семейные счёты, а сам поспешил на поезд. Меня провожали на вокзале Карабанов
и Задоров. Выслушав мой рассказ о Куряже, они уставились глазами в колёса
вагона и думали. Наконец, Карабанов сказал: — Нужники чистить — не большая честь
для горьковцев, однако, чёрт его знает, подумать нужно… — Зато мы будем близко,
поможем, — показал зубы Задоров. — Знаешь что, Семён… поедем,
посмотрим завтра. Общее собрание колонистов, как и все
собрания в последнее время, сдержанно‑раздумчиво выслушало мой доклад.
Делая его, я любопытно прислушивался не только к собранию, но и к себе
самому. Мне вдруг захотелось грустно улыбнуться. Что это происходит: был ли я
ребёнком четыре месяца назад, когда вместе с колонистами бурлил и
торжествовал в созданных нами запорожских дворцах? Вырос ли я за четыре месяца
или оскудел только? В своих словах, в тоне, в движении лица я ясно ощущал
неприятную неуверенность. В течение целого года мы рвались к
широким, светлым просторам, неужели наше стремление может быть увенчано каким‑то
смешным, загаженным Куряжем? Как могло случиться, что я сам, по собственной
воле, говорю с ребятами о таком невыносимом будущем? Что могло привлекать нас
в Куряже? Во имя каких ценностей нужно покинуть нашу украшенную цветами и
Коломаком жизнь, наши паркетные полы, нами восстановленное имение? Но в то же время в своих скупых и
правдивых контекстах, в которых невозможно было поместить буквально ни одного
радужного слова, я ощущал неожиданный для меня самого большой суровый призыв,
за которым где‑то далеко прятались ещё несмелая, застенчивая радость. Ребята иногда прерывали мой доклад
смехом, как раз в тех местах, где я рассчитывал повергнуть их в смятение.
Затормаживая смех, они задавали мне вопросы, а после моих ответов хохотали
ещё больше. Это не был смех надежды или счастья — это была насмешка. — А что же делают сорок
воспитателей? — Не знаю. Хохот. — Антон Семёнович, вы там никому
морды не набили? Я бы не удержался, честное слово. Хохот. — А столовая есть? — Столовая есть, но ребята все же
босые, так кастрюли носят в спальни и в спальнях едят… Хохот. — А кто же носит? — Не видал. Наверное, ребята… — По очереди, что ли? — Наверное, по очереди. — Организованно, значит. Хохот. — А комсомол есть? Здесь хохот разливается, не ожидая моего
ответа. Однако когда я окончил доклад, все
смотрели на меня озабоченно и серьёзно. — А какое ваше мнение? —
крикнул кто‑то. — А я так, как вы… Лапоть присмотрелся ко мне и, видно,
ничего не разобрал. — Ну высказывайтесь… Ну? Чего же вы
молчите?.. Интересно, до чего вы домолчитесь? Поднял руку Денис Кудлатый. — Ага, Денис? Интересно, что ты
скажешь. Денис привычным национальным жестом полез
«в потылыцю», но, вспомнив, что эта слабость всегда отмечается колонистами,
сбросил ненужную руку вниз. Ребята всё-таки заметили его манёвр и
засмеялись. — Да я, собственно говоря, ничего не
скажу. Конечно, Харьков, там близко, это верно… всё ж таки браться за такое
дело… кто ж у нас есть? Все на рабфаки позабирались… Он покрутил головой, как будто муху
проглотил. — Собственно говоря, про этот Куряж
и говорить бы не стоило. Чего мы туда попрёмся? А потом считайте: их двести
восемьдесят, а нас сто двадцать, да у нас новеньких сколько, а старые какие?
Тоська тебе командир, и Наташка командир, а Перепелятченко, а Густоиван, а
Галатенко? — А чего — Галатенко? —
раздался сонный, недовольный голос. — Как что, так и Галатенко. — Молчи! — остановил его
Лапоть. — А чего я буду молчать? Вот Антон
Семёнович рассказывал, какие там люди. А я что, не работаю или что? — Ну добре, — сказал
Денис, — я извиняюсь, а всё ж таки нам там морды понабивают, только и
дела будет. — Потише с мордами, — поднял
голову Митька Жевелий. — А что ты сделаешь? — Будь покоен! Кудлатый сел. Взял слово Иван Иванович: — Товарищи колонисты, я всё равно
никуда не поеду, так я со стороны, так сказать, смотрю, и мне виднее. Зачем
ехать в Куряж? Нам оставят триста ребят самых испорченных, да ещё
харьковских… — А сюда харьковских не присылают
разве? — спросил Лапоть. — Присылают. Так посудите — триста!
И Антон Семёнович говорит — ребята там взрослые. И считайте ещё и так: вы к
ним приедете, а они у себя дома. Если они одной одежи раскрали на
восемнадцать тысяч рублей, то вы представляете себе, что они с вами сделают? — Жаркое! — крикнул кто‑то. — Ну, жаркое ещё жарить нужно —
живьём сьедят! — А многих из наших они и красть
научат, — продолжал Иван Иванович. — Есть у нас такие? — Есть, сколько хотите, —
ответил Кудлатый, — у нас шпаны человек сорок, только боятся красть. — Вот‑вот! — обрадовался
Иван Иванович. — Считайте: вас будет восемьдесят, а их триста двадцать,
да ещё откиньте наших девочек и малышей… А зачем всё? Зачем губить колонию
Горького? Вы на погибель идёте, Антон Семёнович! Иван Иванович сел на место, победоносно
оглядываясь. Колонисты полуодобрительно зашумели, но я не услышал в этом шуме
никакого решения. При общем одобрении вышел говорить Калина
Иванович в своём стареньком плаще, но выбритый и чистенький, как всегда.
Калина Иванович тяжело переживал необходимость расстаться с колонией, и
сейчас в его голубых глазах, мерцающих старческим неверным светом, я вижу
большую человеческую печаль. — Значит, такое дело, — начал
Калина Иванович не спеша, — я тоже с вами не поеду, выходит, и моё дело
сторона, а только не чужая сторона. Куда вы поедете, и куды вас жизнь поведёт
— разница. Говорили на прошлом месяце: масло будем грузить английцям. Так
скажите на милость мне, старому, как это можно такое допустить — работать на
этих паразитов, английцев самых? А я ж видав, как наши стрыбали (прыгали):
поедем, поедем! Ну й поехав бы ты, а потом что? Теорехтически, оно, конечно,
Запорожье, а прахтически — ты просто коров бы пас, тай и всё. Пока твоё масло
до английця дойдеть, сколько ты поту прольёшь, ты считав? И тоби пасты, и
тоби навоз возить, и коровам задницы мыть, а то ж англиець твоего масла исты
не захотит, паразит. Так ты ж того не думав, дурень, а — поеду тай поеду. И
хорошо так вышло, что ты не поехав, хай соби англиець сухой хлеб кушаеть. А
теперь перед тобой Куряж. А ты сидишь и думаешь. А чего ж тут думать? Ты ж
человек передовой, смотри ж ты, триста ж твоих братив пропадаеть, таких же
Максимов Горьких, как и ты. Рассказывал тут Антон Семёнович, а вы реготали, а
что ж тут смешного? Как это может совецькая власть допустить, чтобы в самой
харьковской столице, под боком у самого Григория Ивановича четыреста бандитов
росло? А совецькая власть и говорить вам: а ну, поезжайте зробить, чтобы из
них люди правильные вышли, — триста ж людей, вы ж подумайте! А на вас же
будет смотреть не какая‑нибудь шпана, Лука Семёнович, чи што, а весь
харьковский пролетарий! Так вы — нет! Нам лучше английцев годуваты, чтоб тем
маслом подавились. А тут нам жалко. Жалко з розами разлучиться и страшно: нас
сколько, а их, паразитов, сколько. А как мы с Антоном Семёновичем вдвох
начинали эту колонию, так что? Може, мы собирали общее собрание та говорили
речи? От Волохов, и Таранець, и Гуд пускай скажут, чи мы их злякались,
паразитов? А это ж работа будет государственная, совецькой власти нужная. От
я вам и говорю: поезжайте, и всё. И Горький Максим скажеть: вот какие мои
горьковцы, поехали, паразиты, не злякались! По мере того, как говорил Калина
Иванович, румянее становились его щеки, и теплее горели глаза колонистов.
Многие из сидящих на полу ближе подвинулись к ним, а некоторые положили
подбородки на плечи соседей и неотступно вглядывались не в лицо Калины Ивановича,
а куда‑то дальше, в какой‑то свой будущий подвиг. А когда сказал
Калина Иванович о Максиме Горьком, ахнули напряжённые зрачки колонистов
человеческим горячим взрывом, загалдели, закричали, задвигались пацаны,
бросились аплодировать, но и аплодировать было некогда. Митька Жевелий стоял
посреди сидящих на полу и кричал задним рядам, очевидно, оттуда ожидая
сопротивления: — Едем, паразиты, честное слово,
едем! Но и задние ряды стреляли в Митьку
разными огнями и решительными гримасами — и тогда Митька бросился к Калине
Ивановичу, окружённому копошащейся кашей пацанов, способных сейчас только
визжать. — Калина Иванович, раз так, и вы с
нами едете? Калина Иванович горько улыбнулся, набивая
трубку. Лапоть говорил речь: — У нас что написано, читайте! Все закричали хором: — Не пищать! — А ну, ещё раз прочитайте! Лапоть низвергнул вниз сжатый кулак, и
все звонко, требовательно повторили: — Не пищать! — А мы пищим! Какие все математики:
считают восемьдесят и триста двадцать. Кто так считает? Мы приняли сорок харьковских,
мы считали? Где они? — Здесь мы, здесь! — крикнули
пацаны. — Ну и что? Пацаны крикнули: — Груба! — Так какого чёрта считать? Я на
месте Иван Ивановича так считал бы: у нас нет вшей, а у них десять тысяч —
сидите на месте. Хохочующее собрание оглянулось на Ивана
Ивановича, покрасневшого от стыда. — Мы должны считать просто, —
продолжал Лапоть, — с нашей стороны колония Горького, а с ихней стороны
кто? Никого нет! Лапоть кончил. Колонисты закричали: — Правильно! Едем, и всё! Пусть
Антон Семёнович пишет в Наркомпрос! Кудлатый сказал: — Добре! Ехать так ехать.
Только и ехать нужно с головой. Завтра уже март, ни одного дня нельзя терять.
Надо не писать, а телеграмму, а то без огорода останемся. И другое дело: без
денег ехать всё равно нельзя. Двадцать тысяч чи сколько, а всё равно нужны
деньги. — Голосовать? — спросил Лапоть
моего совета. — Пусть Антон Семёнович скажет своё
мнение! — крикнули из толпы. — А ты не видишь, что ли? —
сказал Лапоть. — А для порядка всё равно нужно. Слово Антону Семёновичу. Я поднялся перед собранием и сказал
коротко: — Да здравствует колония имени
Горького!.. Через полчаса новый старший конюх и
командир второго отряда Витька Богоявленский выехал верхом в город. Зачем он шапкой дорожит? А в шапке у него депеша: "Харьков Наркомпрос Джуринской. Настойчиво просим передать Куряж нам
возможно скоро обеспечить посевную смета дополнительно. Общее собрание колонистов. Макаренко". |
|
||||
|
|
18. Боевая разведка
Джуринская вызвала меня телеграммой на
следующий день. Колонисты доверчиво придали этой телеграмме большое значение: — Видите как: бах‑бах‑бах,
телеграмма, телеграмма… На самом деле история развивалась без
особого баханья. Несмотря на то, что Куряж по общему признанию был нетерпим
хотя бы потому, что все окрестные дачи, поселки и сёла настойчиво просили
ликвидировать эту «малину», у Куряжа нашлись защитники. Собственно говоря,
только Джуринская и Юрьев требовали перевода колонии без всяких оговорок. При
этом Юрьев действительно не сомневался в правильности задуманной операции, Джуринская
же шла на неё, только доверяя мне, и в минуту откровенности признавалась: — Боюсь всё-таки, Антон Семёнович.
Ничего не могу поделать с собой, боюсь… Брегель поддерживала перевод, но
предлагала такие формы его, на которые я согласиться не мог: особая тройка
должна была организовать всю операцию, горьковские формы постепенно
внедряются в новый коллектив, и на один месяц должны быть мобилизованы для
помощи мне пятьдесят комсомольцев в Харькове. Халабуда кем‑то накачивался из
своего продувного окружения и слушать не хотел о двадцати тысячах
единовременной дотации, повторяя одно и то же: — За двадцать тысяч мы и сами
сделаем. Неожиданные враги напали из профсоюза.
Особенно бесчинствовал Клямер, страстный брюнет и друг народа. Я и теперь не
понимаю, почему раздражала его колония Горького, но говорил он о ней
исключительно с искажённым от злобы лицом, сердито плевался, стучал кулаками: — На кажом шагу реформаторы! Кто
такой Макаренко? Почему из‑за какого‑то Макаренко мы должны
нарушать законы и интересы трудящихся? А кто знает колонию Горького? Кто
видел? Джуринская видела, так что? Джуринская всё понимает? Раздражали Клямера мои такие требования: 1. Уволить весь персонал Куряжа без
какого бы то ни было обсуждения. 2. Иметь в колонии Горького пятнадцать
воспитателей (по нормам полагалось сорок). 3. Платить воспитателям не сорок, а
восемьдесят рублей в месяц. 4. Педагогический персонал должен
приглашаться мною, за профсоюзом остаётся право отвода. Эти скромные требования раздражали
Клямера до слез: — Я хотел бы посмотреть, кто посмеет
обсуждать этот наглый ультиматум? Здесь в каждом слове насмешка над советским
правом. Ему нужно пятнадцать воспитателей, а двадцать пять пускай остаются за
бортом. Он хочет навалить на педагогов каторжный труд, так сорока воспитателей
он боится… Я не вступал в спор с Клямером, так как
не догадывался, каковы его настоящие мотивы. Я вообще старался не участвовать в
прениях и спорах, так как, по совести, не мог ручаться за успех и никого не
хотел заставить принять на себя не оправданную его логикой ответственность. У
меня ведь, собственно говоря, был только один аргумент — колония имени
Горького, но её видели немногие, а рассказывать о ней было мне неуместно. Вокруг вопроса о переводе колонии
завертелось столько лиц, страстей и отношений, что скоро я и вовсе потерял
ориентировку, тем более что в Харьков не приезжал больше как на один день и
не попадал ни на какие заседания. Почему‑то я не верил в искренность
моих врагов и подозревал, что за высказанными доводами прячутся какие‑то
другие основания. Только в одном месте, в Наркомпросе,
наткнулся я на настоящую убеждённую страстность в человеке и залюбовался ею
открыто. Это была женщина, судя по костюму, но, вероятно, существо бесполое
по существу: низкорослая, с лошадиным лицом, небольшая дощечка груди и
огромные неловкие ноги. Она всегда размахивала ярко‑красными руками, то
жестикулируя, то поправляя космы прямых светло‑соломенных волос. Звали
её товарищ Зоя. Она в кабинете Брегель имела какое‑то влияние. Товарищ Зоя возненавидела меня с первого
взгляда и не скрывала этого, не отказываясь от самых резких выражений. — Вы, Макаренко, солдат, а не
педагог. Говорят, что вы бывший полковник, и это похоже на правду. Вообще не
понимаю, почему здесь с вами носятся. Я бы не пустила вас к детям. Мне нравились кристально‑чистая
искренность и прозрачная страсть товарища Зои, и я этого тоже не скрывал в
своём обычном ответе: — Я от вас всегда в восторге,
товарищ Зоя, но только я никогда не был полковником. К переводу колонии товарищ Зоя относилась
как к неизбежной катастрофе, стучала ладонью по столу Брегель и вопила: — Вы чем‑то ослеплены! Чем вас
одурманил всех этот… — она оглядывалась на меня. — …полковник, — серьёзно
подсказывал я. — Да, полковник… Я вам скажу, чем
это кончится: резнёй! Он привезёт своих сто двадцать, и будет резня! Что вы
об этом думаете, товарищ Макаренко? — Я в восторге от ваших соображений,
но любопытно было бы знать: кто кого будет резать? Брегель тушила наши пререкания: — Зоя! Как тебе не стыдно! Какая там
резня!.. А вы, Антон Семёнович, всё шутите. Клубок споров и разногласий катился по
направлению к высоким партийным сферам, и это меня успокаивало. Успокаивало и
другое: Куряж всё сильнее и сильнее смердел, всё больше и больше разлагался и
требовал решительных, срочных мер. Куряж подталкивал решение вопроса,
несмотря даже на то, что куряжские педагоги протестовали тоже: — Колонию окончательно разлагают
разговоры о переводе горьковской. Те же воспитатали сообщали конспиративно,
что в Куряже готовятся ножевые расправы с горьковцами. Товарищ Зоя кричала
мне в лицо: — Видите, видите? — Да, — отвечал я, —
значит, выяснилось: резать будут они нас, а не — Да, выясняется… Варвара, ты за всё
будешь отвечать, смотри! Где это видано? Науськивать друг на друга две партии
беспризорных! Наконец, меня вызвали в кабинет высокой
организации. Бритый человек поднял голову от бумаг и сказал: — Садитесь, товарищ Макаренко. В кабинете были Джуринская и Клямер. Я уселся. Бритый негромко спросил: — Вы уверены, что с вашими
воспитанниками вы одолеете разложение в Куряже? Я, вероятно, побледнел, потому что мне
пришлось прямо в глаза, в ответ на честно поставленный вопрос солгать: — Уверен. Бритый пристально на меня посмотрел и
продолжал: — Теперь ещё один технический вопрос
— имейте в виду, товарищ Клямер, технический, а не принципиальный, —
скажите, коротко только, почему вам нужно не сорок воспитателей, а
пятнадцать, и почему вы против оклада в сорок рублей? Я подумал и ответил: — Видите ли, если коротко говорить:
сорок сорокарублёвых педагогов могут привести к полному разложению не только
коллектив беспризорных, но и какой угодно коллектив. Бритый вдруг откинулся на спинку кресла в
открытом закатистом смехе и, показывая пальцем, спросил сквозь слёзы: — И даже коллектив, состоящий из
Клямеров? — Неизбежно, — ответил я
серьёзно. С бритого как ветром сдуло его осторожную
официальность. Он протянул руку к Любови Савельевне: — Не говорил ли я вам: «числом
поболее, ценою подешевле»? Он вдруг устало покачал головой и, снова
возвращаясь к официальному деловому тону, сказал Джуринской: — Пусть переезжает! И скорее! — Двадцать тысяч, — сказал я,
вставая. — Получите. Не много? — Мало. — Хорошо. До свиданья. Переезжайте и
смотрите: должен быть полный успех. В колонии имени Горького в это время
первое горячее решение постепенно переходило в формы спокойно‑точной
военной подготовки. Колонией фактически правил Лапоть, да Коваль помогал ему
в трудных случаях, но править было нетрудно. Никогда не было в колонии такого
дружного тона, такой глубоко ощущаемой обязанности друг перед другом. Даже
мелкие проступки встречались великим изумлением и коротким выразительным
протестом: — А ты ещё собираешься ехать в
Куряж! Уже ни для кого в колонии не оставалось
никаких сомнений в сущности задачи. Колонисты даже не знали, а ощущали
особенным тончайшим осязанием висевшую в воздухе необходимость всё уступить
коллективу, и это вовсе не было жертвой. Было наслаждением, может быть, самым
сладким наслаждением в мире, чувствовать эту взаимную связанность, крепость и
эластичность отношений, вибрирующую в насыщенном силой покое великую мощь
коллектива. И это всё читалось в глазах, в движении, в мимике, в походке, в
работе. Глаза всех смотрели туда, на север, где в саженных стенах сидела и
урчала в нашу сторону тёмная орда, объединённая нищетой, своеволием и
самодурством, глупостью и упрямством. Я отметил, что никакого бахвальства у
колонистов не было. Где‑то тайно каждый носил страх и неуверенность,
тем более естественные, что никто противника в глаза ещё не видел. Каждого моего возвращения ожидали нетерпеливо
и жадно, дежурили на дорогах и деревьях, выглядывали с крыш. Как только мой
экипаж вьезжал во двор, сигналист хватал трубу и играл общий сбор, не
спрашивая моего согласия. Я покорно шёл на собрание. В это время сделалось
обыкновением встречать меня, как народного артиста, аплодисментами. Это,
конечно, относилось не столько ко мне, сколько к нашей общей задаче. Наконец, в первых числах мая, на такое
собрание пришёл я с готовым договором. По договору и по приказу Наркомпроса
колония имени Максима Горького переводилась в полном составе воспитанников и
персонала, со всем движимым имуществом и инвентарём, живым и мёртвым, в
Куряж. Куряжская колония объявлялась ликвидированной, с передачей двухсот
восьмидесяти воспитанников и всего имущества в распоряжение и управление
колонии имени Горького. Весь персонал Куряжской колонии объявляется уволенным
с момента вступления в заведование завколонией Горького, за исключением
некоторых технических работников. Принять колонию мне предлагалось пятого
мая. Закончить перевод колонии Горького — к пятнадцатому мая. Выслушав договор и приказ, горьковцы не
кричали «ура» и никого не качали. Только Лапоть сказал в общем молчании: — Напишем об этом Горькому. И самое
главное, хлопцы: не пищать! — Есть не пищать! — пропищал
какой‑то пацан. А Калина Иванович махнул рукой и
прибавил: — Рушайте, хлопцы, не бойтесь! |
|
||||
|
|
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1. Гвозди
Через день я должен приступить к приёму
Куряжской колонии, а сегодня в совете командиров необходимо что‑то
сделать, что‑то сказать с таким расчётом, чтобы колонисты без меня
могли организовать труднейшую операцию свёртывания всего нашего хозяйства и
перевозки его в Куряж. В колонии и страхи, и надежды, и сияющие
глаза, и лошади, и возы, и бурные волны мелочей, забытых «нотабене» и
затерявшихся верёвок — всё сплелось в такой сложнейший узел, что я не верил в
способности хлопцев развязать его успешно. После получения договора на передачу
Куряжа прошла только одна ночь, а в колонии всё успело перестроиться на
походный лад: и настроения, и страсти, и темпы. Ребята не боялись Куряжа,
может быть, потому, что не видели его во всём великолепии. Зато перед моим
духовным взором Куряж неотрывно стоял как ужасный сказочный мертвец,
способный крепко ухватить меня за горло, несмотря на то что смерть его была
давно официально констатирована. В совете командиров постановили: вместе
со мной ехать в Куряж только девяти колонистам и одному воспитателю. Я просил
большего. Я доказывал, что с такими малыми силами мы ничего не сделаем,
только подорвём горьковский авторитет, что в Куряже снят с работы весь
персонал, что в Куряже многие озлоблены против нас. Мне отвечал Кудлатый, иронически‑ласково
улыбаясь: — Собственно говоря, чи вас поедет
десять человек, чи двадцать — один чёрт: ничего не сделаете. Вот когда все приедут,
тогда другое дело — навалом возьмём. Вы ж примите в расчёт, что их триста
человек. Надо здесь хорошо собраться. Попробуйте, собственно говоря, одних
свиней погрузить триста двадцать душ. А кроме того, обратите внимание: чи
сказились там в Харькове, чи, может, нарочно, что это такое делается — каждый
день к нам новенькие. Новенькие и меня удручали. Разбавляя наш
коллектив, они мешали сохранить горьковскую колонию в полной чистоте и силе.
А нашим небольшим отрядом нужно было ударить по толпе в триста человек. Подготовляясь к борьбе с Куряжем, я
рассчитывал на один молниеносный удар, — куряжан надо было взять сразу.
Всякая оттяжка, надежды на эволюцию, всякая ставка на «постепенное
проникновение» обращали всю нашу операцию в сомнительное дело. Я хорошо знал,
что «постепенно проникать» будут не только наши формы, традиции, тон, но и
традиции куряжской анархии. Харьковские мудрецы, настаивая на «постепенном
проникновении», собственно говоря, сидели на старых, кустарной работы,
стульях: хорошие мальчики будут полезно влиять на плохих мальчиков. А мне уже
было известно, что самые первосортные мальчики в рыхлых организационных
формах коллектива очень легко превращаются в диких зверёнышей. С «мудрецами»
я не вступал в открытый спор, арифметически точно подсчитывая, что
решительный удар окончится раньше, чем начнётся разная постепенная возня. Но
новенькие мне мешали. Умный Кудлатый понимал, что их нужно подготовить к
перевозке в Куряж с такой же заботой, как и всё наше хозяйство. Поэтому, выезжая в Куряж во главе передового
сводного отряда, я не мог не оглядываться назад с большим беспокойством.
Калина Иванович, хоть и обещал руководить хозяйство до самого последнего
момента, был так подавлен и ошеломлён предстоящей разлукой, что был способен
только топтаться среди колонистов, с трудом вспоминая отдельные детали
хозяйства и немедленно забывая о них в приливе горькой старческой обиды.
Колонисты бережно и любовно выслушивали распоряжения Калины Ивановича,
отвечали подчёркнутым салютом и бодрой готовностью «есть», но на рабочих
местах быстро вытряхивали из себя неудобное чувство жалости к старику и
начинали собственную самоделковую заботу. Во главе колонии я оставлял Коваля,
который больше всего боялся, что его «обдурит» коммуна имени Луначарского,
принимающая от нас усадьбу, засеянные поля и мельницу. Представители коммуны
уже мелькали между частями колонийской машины, и рыжая борода председателя
Нестеренко уже давно недоверчиво посматривала на Коваля. Оля Воронова не
любила дипломатических дуэлей этих двух людей и уговаривала Нестеренко: — Нестеренко, иди домой. Чего ты
боишься? Никаких мошенников здесь нет. Иди домой, тебе говорю! Нестеренко хитро улыбается одними глазами
и кивает на краснеющего сердитого Коваля: — Ты знаешь, Олечка, этого человека?
Он же куркуль. Он от природы куркуль… Коваль ещё больше смущается и пламенеет и
с трудом, но упрямо выговаривает: — А ты думал, как? Сколько здесь
хлопцы труда положили, а я тебе даром отдам? За что? Потому что ты
Луначарский? Животы вот понаедали, а всё незаможниками прикидываетесь!..
Заплатите!.. — Да ты подумай: чем я тебе заплачу? — Чего я буду про это думать? Ты чем
думал, когда я тебя спрашивал: сеять? Ты тогда таким барином задавался:
сейте! Ну, вот плати! И за пшеницу, и за жито, и за буряк… Наклонив вбок голову, Нестеренко
развязывает кисет с махоркой, чутко разыскивает что‑то на дне кисета и
улыбается виновато: — Это верно, справедливо, конешно ж…
Семёна… А зачем же за работу требовать? Могли ж б и хлопцы, так сказать,
поробыть для общества… Коваль свирепо срывается со стула и, уже
на выходе, оборачивается, горячий, как в лихорадке: — С какой стати, дармоеды чёртовы?
Что вы — больные? Коммунары называетесь, а на детский труд рты раззявили… Не
заплатите — гончаровцам отдам! Оля Воронова прогоняет Нестеренко домой,
а через четверть часа уже шепчется в саду с Ковалем, с чисто женским талантом
примиряя в себе противоречивые симпатии к колонии и коммуне. Колония для Оли
— родная мать, а в коммуне она открыто верховодит, побеждая мужчин широкой
агрономической ухваткой, унаследованной от Шере, привлекая женщин настойчиво‑язвительной
проповедью бабьей эмансипации, а для тяжёлых конъюнктур и случаев пользуясь
тараном, составленным из двух десятков парубков и девчат, идущих за нею, как
за Орлеанской девой. Она забирала за живое культурой, энергией, бодрой верой,
и Коваль, глядя на неё, гордился коротко: — Нашей работы! Оля гордилась щедрым подарком, который
колония имени Горького оставляла луначарцам в виде упорядоченного имения на
полном полевом шестиполье, а для нас этот подарок был хозяйственной
катастрофой. Нигде так не ощущается великое значение заложенного в прошлом
труда, как в сельском хозяйстве. Мы очень хорошо знали, чего это стоит
вывести сорняки, организовать севооборот, приладить, оборудовать каждую
деталь, сберечь, сохранить в чистоте каждый элементик медленного, невидного,
многодневного процесса. Настоящее наше богатство располагалось где‑то
глубоко, в переплетении корней растений, в обжитых и философски обработанных
стойлах, в сердцевине вот этих, таких простых, колёс, оглобель, штурвалов,
крыльев. И теперь, когда многое нужно было бросить, а многое вырвать из общей
гармонии и втиснуть в тесноту жарких товарных вагонов, становилось понятным,
почему таким зеленовато‑грустным сделался Шере, почему в его движениях
появилось что‑то напоминавшее погорельца. Впрочем, печальное настроение не мешало
Эдуарду Николаевичу методически спокойно приготовлять свои драгоценности к
путешествию и, уезжая в Харьков с передовым сводным, я без душевной муки
обходил его поникшую фигуру. Вокруг нас слишком радостно и хлопотливо, как
эльфы, кружились колонисты. Отбивали счастливейшие часы моей жизни. Я
теперь иногда грустно сожалею, почему в то время я не остановился с особенным
благоговейным вниманием, почему я не заставил себя крепко‑пристально
глянуть в глаза прекрасной жизни, почему не запомнил на веки вечные и огни, и
линии, и краски каждого мгновения, каждого движения, каждого слова. Мне тогда казалось, что сто двадцать
колонистов — это не просто сто двадцать беспризорных, нашедших для себя дом и
работу. Нет, это сотня этических напряжений, сотня музыкально настроенных
энергий, сотня благодатных дождей, которых сама природа, эта напыщенная
самодурная баба, и та ожидает с нетерпением и радостью. В те дни трудно было увидеть колониста,
проходящего спокойным шагом. Все они приобрели привычку перебегать с места на
место, перепархивать, как ласточки, с таким же деловым щебетаньем, с такой же
ясной, счастливой дисциплиной и красотой движения. Был момент, когда я даже
согрешил и подумал: для счастливых людей не нужно никакой власти, её заменит
вот такой радостный, такой новый, такой человеческий инстинкт, когда каждый
человек точно будет знать, что ему нужно делать и как делать, для чего
делать. Были такие моменты. Но меня быстро
низвергали с анархических высот реплики какого‑нибудь Алёшки Волкова,
недовольно обращающего пятнистое лицо к месту тревоги: — Что же ты, балда, делаешь? Какими
гвоздями ты этот ящик сбиваешь? Может, ты думаешь, трёхдюймовые гвозди на
дороге валяются? Энергичный, покрасневший пацан бессильно
опускает молоток и растерянно почёсывает молотком голую пятку: — А? А сколькадюймовые? — Для этого есть старые гвозди,
понимаешь, бывшие в употреблении. Стой! А где ты этих набрал… трёхдюймовых? Итак… началось! Волков уже стоит над
душой пацана и гневно анализирует его существо, неожиданно оказавшееся в
противоречии с идеей новых трёхдюймовых гвоздей. — Да. Есть ещё трагедии в мире! Немногие знают, что такое гвозди, бывшие
в употреблении! Их нужно при помощи разных хитрых
приспособлений выдергивать из старых досок, из разломанных, умерших вещей, и
выходят оттуда гвозди ревматически кривые, ржавые, с исковерканными шляпками,
с испорченными остриями, часто согнувшиеся вдвое, втрое, часто завёрнутые в
штопоры и узлы, которые, кажется, и нарочно не сделает самый талантливый
слесарь. Их нужно выправлять молотками на куске рельса, сидя на корточках и
часто попадая молотком не по гвоздю, а по пальцам. А когда потом заколачивают
старые гвозди в новое дело, они гнутся, ломаются и лезут не туда, куда нужно. Может быть, поэтому горьковские пацаны с
отвращением относятся к старым гвоздям и совершают подозрительные афёры с
новыми, кладя начало следственным процессам и опорочивая большое, радостное
дело похода на Куряж. Да разве одни гвозди? Все эти некрашеные
столы, скамьи самого мелкобуржуазного фасона — «ослоны», мириады разных
табуреток, старых колёс, сапожных колодок, изношенных шерхебелей, истрёпанных
книг — вся эта накипь скопидомной осёдлости и хозяйственного глаза оскорбляла
наш героический поход… А бросить жалко. И новенькие! У меня начинали болеть
глаза, когда я встречал их плохо сшитые, чужие фигуры. Не оставить ли их
здесь, не подкинуть ли их какому‑нибудь бедному детскому дому, всучив
ему взятку в виде пары поросят или десятка кило картошки? Я то и дело
пересматривал их состав и раскладывал его на кучки, классифицируя с точки
зрения социально‑человеческой ценности. Мой глаз в то время был уже
достаточно набит, и я умел с первого взгляда, по внешним признакам, по
неуловимым гримасам физиономии, по голосу, по походке, ещё по каким‑то
мельчайшим завиткам личности, может быть, даже по запаху, сравнительно точно
предсказывать, какая продукция может получиться в каждом отдельном случае из
этого сырья. Вот, например, Олег Огнев. Взять его с
собой в Куряж или не стоит? Нет, этого бросить нельзя. Это редкая и
интересная марка. Олег Огнев — авантюрист, путешественник и нахал, по всей
вероятности, потомок древних норманов, такой же, как они, высокий,
долговязый, белобрысый. Может быть, между ним и его варяжскими предками
стояло несколько поколений хороших российских интеллигентов, потому что у
Олега высокий чистый лоб и от уха до уха растянувшийся умный рот, живущий в
крепком согласии с ловкими, бодрыми серыми глазами. Олег попался на какой‑то
афёре с почтовыми переводами, и поэтому его ввергли в колонию в сопровождении
двух милиционеров. Олег Огнев весело и добродушно шагал между ними, любопытно
присматриваясь к собственному ненадёжному будущему. Освобождённый наконец от
стражи, Олег с вежливым, серьёзным вниманием выслушал мои первые заповеди,
приветливо познакомился со старшими колонистами, удивлённо‑радостно
воззрился на пацанов и, остановившись посреди двора, расставил тонкие ноги и
засмеялся: — Так вот это какая колония? Максима
Горького? Ну, смотри ты! Надо, значит, попробовать… Его поместили в восьмой отряд, и
Федоренко недоверчиво прищурил на него один глаз: — Та, мабудь же, ты до работы… не
то… не дуже горячий! Ага ж? И пиджачок у тебя мало подходящий… знаешь… Олег с улыбкой рассмотрел свой франтовской
пиджак, попеременно подымая его полы, и весело глянул в лицо командиру: — Это, знаешь, ничего, товарищ
командир. Пиджачок не помешает. А хочешь, я тебе его подарю? Федоренко закатился смехом, закатились и
другие богатыри восьмого отряда. — А ну, давай посмотрим, как оно
будет? До вечера походил Федоренко в куцем
пиджаке Олега, потешая колонистов ещё не виданным у нас шиком, но вечером
возвратил пиджачок владельцу и сказал строго: — Эту штуку спрячь подальше, а
надевай вот голошейку, завтра за сеялкой погуляешь. Олег удивлённо посмотрел на командира,
ехидно посмотрел на пиджачок: — Не ко двору значит, эта хламида? Наутро он был в голошейке и иронически
бубнил про себя: — Пролетарий! Надо будет погулять за
сеялкой… Новое, выходит, дело!.. В новом деле у Олега всё не ладилось.
Сеялка почему‑то мало ему соответствовала, и гулял за ней он печально,
спотыкаясь на кочках, то и дело прыгая на одной ноге в неловком усилии
вытащить занозу. С сошниками сеялки он не справлялся на ходу и через каждые
три минуты кричал передовому: — Сеньор, придержите ваших скотов, у
нас здесь маленький карамболь!.. Федоренко переменил Олегу трудовую
нагрузку, поручив вести ему вторую пару, с бороной, но через полчаса он
догнал Федоренко и обратился к нему с вежливой просьбой: — Товарищ командир, знаете что? Моя
сидит! — Кто сидит? — Моя лошадь сидит! Обратите
внимание: села, знаете, и сидит. Поговорите с нею, пожалуйста! Федоренко спешит к рассевшейся Мэри и
возмущается: — От чёрт!.. Как тебя угораздило?!
Запутал всё на свете! Чего эта барка (палка, к которой прикрепляются
постромки) сюда попала? Олег честно старается наладить
хозяйственную эмоцию: — Понимаешь, мухи какие‑то
летают, что ли!.. Села и сидит, когда нужно работать, правда? Мэри из‑за налезающего на уши
хомута злобно поглядывает на Олега, сердится и Федоренко: — Сидит… Разве кобыла может сидеть?
Погоняй!.. Олег берётся за повод и орёт на Мэри: — Но! Федоренко хохочет: — Чего ты кричишь «но»? Хиба ты
извозчик? — Видишь ли, товарищ командир… — Да чего ты заладил: товарищ
командир… — А как же? — Как же… Есть у меня имя? — Ага!.. Видишь ли, товарищ
Федоренко, я, конечно, не извозчик, но, поверьте, в моей жизни первый случай
близкого общения с Мэри. У меня были знакомые, тоже Мэри… ну, так с теми,
конечно, иначе, потому, знаете… здесь же эти самые «барки», «хомуты»… Федоренко дико смотрит спокойными
сильными глазами на изысканно‑поношенную фигуру варяга и плюёт: — Не болтай языком, смотри за
упряжкой! Вечером Федоренко разводит руками и не
спеша набрасывает приговор: — Куды ж он к чёрту годится?
Пирожное лопать, за барышнями ходить… Он к нам, я так полагаю, неподходящий.
И я так скажу: не нужно везти его в Куряж. Командир восьмого серьёзно‑озабоченно
смотрит на меня, ожидая санкции своему приговору. Я понимаю, что проект
принадлежит всему восьмому отряду, который отличается, как известно,
массивностью убеждений и требований к человеку. Но я отвечаю Федоренко: — Огнева мы в Куряж возьмём. Ты там
растолкуй в отряде, что из Огнева нужно сделать трудящегося человека. Если вы
не сделаете, так никто и не сделает, и выйдет из Огнева враг советской
власти, босяк выйдет. Ты же понимаешь? — Та я понимаю, — говорит
Федоренко. — Так ты там растолкуй, в отряде… — Ну, что ж, придётся
растолковать, — с готовностью соглашается Федоренко, но с такой же готовностью
его рука подымается к тому заветному месту, где у нашего брата, славянина,
помещаются проклятые вопросы. Итак, Олег Огнев едет. А Ужиков? Отвечаю
категорически и со злостью: Аркадий Ужиков не должен ехать, и вообще — ну его
к чёрту! На всяком другом производстве, если человеку подсунут такое негодное
сырьё, он составит десятки комиссий, напишет десятки актов, привлечёт к этому
делу и НКВД, и всякий контроль, в крайнем случае обратится в «Правду», а
всё-таки найдёт виновника. Никто не заставляет делать паровозы из старых
вёдер или консервы из картофельной шелухи. А я должен сделать не паровоз и не
консервы, а настоящего советского человека. Из чего? Из Аркадия Ужикова? С малых лет Аркадий Ужиков валяется на
большой дороге, и все колесницы истории и географии прошлись по нём коваными
колёсами. Его семью рано бросил отец. Пенаты Аркадия украсились новым отцом,
что‑то изображавшим в балагане деникинского правительства. Вместе с
этим правительством новый папаша Ужикова и всё его семейство решили покинуть
пределы страны и поселиться за границей. Взбалмошная судьба почему‑то
предоставила для них такое неподходящее место, как Иерусалим. В этом городе
Аркадий Ужиков потерял все виды родителей, умерших не столько от болезней,
сколько от человеческой неблагодарности, и остался в непривычном окружении
арабов и других национальных меньшинств. По истечении времени настоящий
папаша Ужикова, к этому времени удовлетворительно постигший тайны новой
экономической политики и поэтому сделавшийся членом какого‑то комбината,
вдруг решил изменить своё отношение к потомству. Он разыскал своего
несчастного сына и ухитрился так удачно использовать международное положение,
что Аркадия погрузили на пароход, снабдили даже проводником и доставили в
одесский порт, где он упал в объятия родителя. Но уже через два месяца
родитель пришёл в ужас от некоторых ярких последствий заграничного воспитания
сына. В Аркадии удачно соединились российских размах и арабская
фантазия, — во всяком случае, старый Ужиков был ограблен начисто. Аркадий
спустил на толкучке не только фамильные драгоценности: часы, серебряные ложки
и подстаканники, не только костюмы и бельё, но и некоторую мебель, а сверх
того, умело использовал служебную чековую книжку отца, обнаружив в своём
молодом автографе глубокое родственное сходство с замысловатой отцовской
подписью. Те же самые могучие руки, которые так
недавно извлекли Аркадия из окрестностей гроба господня, теперь вторично были
пущены в ход. В самый разгар наших боевых сборов европейски вылощенный,
синдикатно‑солидный Ужиков‑старший, не очень ещё и поношенный,
уселся против меня на стуле и обстоятельно изложил биографию Аркадия,
закончив чуть‑чуть дрогнувшим голосом: — Только вы можете возвратить мне
сына! Я посмотрел на сына, сидящего на диване,
и он мне так сильно не понравился, что мне захотелось возвратить его
расстроенному отцу немедленно. Но отец вместе с сыном привёз и бумажки, а
спорить с бумажками мне было не под силу. Аркадий остался в колонии. Он был высокого роста, худ и нескладен.
По бокам его ярко‑рыжей головы торчат огромные прозрачно‑розовые
уши, безбровое, усыпанное крупными веснушками лицо всё стремится куда‑то
вниз — тяжёлый, отёкший нос слишком перевешивает все другие части лица.
Аркадий всегда смотрит исподлобья. Его тусклые глаза, вечно испачканные
слизью желтого цвета, вызывают крепкое отвращение. Прибавьте к этому
слюнявый, никогда не закрывающийся рот и вечно угрюмую, неподвижную мину. Я знал, что колонисты будут бить его в
тёмных углах, толкать при встречах, что они не захотят спать с ним в одной
спальне, есть за одним столом, что они возненавидят его той здоровой
человеческой ненавистью, которую я в себе самом подавлял только при помощи
педагогического усилия. Ужиков с первого дня стал красть у
товарищей и мочиться в постель. Ко мне пришёл Митька Жевелий и серьёзно
спросил, сдвигая чёрные брови: Антон Семёнович, нет, вы по‑хорошему
скажите: для чего такого возить? Смотрите: из Иерусалима в Одессу, из Одессы
в Харьков, а потом в Куряж? Для чего его возить? Разве нет других грузов?
Нет, вы скажите… Я молчу. Митька ожидает терпеливо моего
ответа и хмурит брови в сторону улыбающегося Лаптя; потом он начинает снова: — Я таких ни разу не видел. Его
нужно… так… стрихнина дать или шарик из хлеба сделать и той… булавками
напихать и бросить ему. — Так он не возьмёт! — хохочет
Лапоть. — Кто? Ужиков не возьмёт? Вот
нарочно давай сделаем, слопает… Ты знаешь, какой он жадный! А ест как! Ой, не
могу вспомнить!.. Митька брезгливо вздрагивает. Лапоть
смотрит на него, страдальчески подымая щеки к глазам. Я тайно стою на их
стороне и думаю: «Ну, что делать?.. Ужиков приехал с такими бумажками…» Хлопцы задумались на деревянном диване. В
двери кабинета заглядывает чистая, улыбающаяся мордочка Васьки Алексеева, и
Митька моментально разгорается радостью: — Вот таких давайте хоть сотню!..
Васька, иди сюда! Васька покрывается румянцем и осторожно
подносит к Митьке стыдливую улыбку и неотрывно‑влюблённые глазёнки,
склоняется на Митькины колени и вдруг выдыхает своё чувство одним
непередаваемым полувздохом, полустоном, полусмехом: — Гхм… Васька Алексеев пришёл в колонию по
собственному желанию, пришёл заплаканный и ошеломлённый хулиганством жизни.
Он попал прямо на заседание совета командиров в бурный дождливый вечер.
Метеорологическая обстановка, казалась бы совершенно неблагоприятная,
послужила всё-таки причиной Васькиной удачи, ибо в хорошую погоду Ваську,
пожалуй, и в дом не пустили бы. А теперь командир сторожевого сводного ввёл
его в кабинет и спросил: — Куда этого девать? Стоит под
дверями и плачет, а там дождь. Командиры прекратили текущие прения и
воззрились на пришёльца. Всеми имеющимися в его распоряжении способами —
рукавами, пальцами, кулаками, полами и шапкой — он быстро уничтожил выражение
горя и замигал влажными глазами на Ваньку Лаптя, сразу признав в нём председателя.
У него хорошее краснощёкое лицо, а на ногах аккуратные деревенские вытяжки,
только старая куцая суконная курточка не соответствует его общей добротности.
Леть ему тринадцать… — Ты чего? — спросил строго
Лапоть. — В колонию, — ответил серьёзно
пацан. — Почему? — Нас отец бросил, а мать говорит:
иди куда хочешь… — Как это так? Мать такого не может
сказать. — Так мать не родная… Лаптя только на мгновение затрудняет это
новое обстоятельство. — Стой… Как же это? Ну да, не
родная. Так отец должен тебя взять. Обязан, понимаешь?.. У пацана снова заблестели горькие слёзы,
и он снова хлопотливо занялся их уничтожением, приготовляясь говорить. Острые
глаза командиров заулыбались, отмечая оригинальную манеру просителя. Наконец
проситель сказал с невольным вздохом: — Так отец… отец тоже не родной. На мгновение в совете притихли и вдруг
разразились высоким громким хохотом. Лапоть даже прослезился от смеха: — В трудный переплёт попал, брат…
Как же так вышло? Проситель просто и без кокетства, не
отрываясь взглядом от весёлой морды Лаптя, рассказал, что зовут его Васькой,
а фамилия Алексеев. Отец, извозчик, бросил их семью и «кудысь подався», а
мать вышла за портного. Потом мать начала кашлять и в прошлом году умерла, а
портной «взял и женился на другой». А теперь, «саме на пасху», он поехал в
Конград и написал, что больше не приедет. И пишет: «Живите как хотите». — Придётся взять, — сказал
Кудлатый. — Только, собственно говоря, может, ты брешешь? А? Кто тебя
научил? — Научил? Та там… один человек…
живёт там… так он научил: говорит, там хлопцы живут и хлеб сеют. Так и приняли Ваську Алексеева в колонию.
Он скоро сделался общим любимцем, и вопрос о возможности обойтись в Куряже
без Васьки даже не поднимался в наших кулуарах. Не поднимался он ещё и
потому, что Васька был принят советом командиров, следовательно, с полным
правом мог считаться «принцем крови». В числе новеньких был и Марк Шейнгауз,
и Вера Березовская. Марка Шейнгауза прислала одесская
комиссия по делам о несовершеннолетних за воровство, как значилось в препроводительной
бумажке. Прибыл он с милиционером, но, только бросив на него первый взгляд, я
понял, что комиссия ошиблась: человек с такими глазами украсть не может.
Описать глаза Марка я не берусь. В жизни они почти не встречаются, их можно
найти только у таких художников, как Нестеров, Каульбах, Рафаэль, вообще же
они приделываются только к святым лицам, предпочтительно к лицам мадонн. Как
они попали на физиономию бедного еврея из Одессы, почти невозможно понять. А
Марк Шейнгауз был по всем признакам беден: его худое шестнадцатилетнее тело
было едва прикрыто, на ногах дырявились неприличные остатки обуви, но лицо
Марка было чистое, умытое, и кудрявая голова причёсана. У Марка были такие
густые, такие пушистые ресницы, что при взмахе их казалось, будто они делают
ветер. Я спросил: — Здесь написано, что ты украл.
Неужели это правда? Святая чёрная печаль огромных глаз Марка
заструилась почти ощутимой струей. Марк тяжело взметнул ресницами и склонил
грустное худенькое бледное лицо: — Это правда, конечно… Я… да, украл… — С голоду? — Нет, нельзя сказать, чтобы с
голоду. Я украл не с голоду. Марк по‑прежнему смотрел на меня
серьёзно, печально и спокойно‑пристально. Мне стало стыдно: зачем я допытываю
уставшего, грустного мальчика. Я постарался ласковее ему улыбнуться и сказал: — Мне не следует напоминать тебе об
этом. Украл и украл. У человека бывают разные несчастья, нужно о них
забывать… Ты учился где‑нибудь? — Да, я учился. Я окончил пять
групп, я хочу дальше учиться. — Вот прекрасно! Хорошо!.. Ты
назначаешься в четвёртый отряд Таранца. Вот тебе записка, найдёшь командира
четвёртого Таранца, он всё сделает, что следует. Марк взял листок бумаги, но не пошёл к
дверям, а замялся у стола. — Товарищ заведующий, я хочу вам
сказать одну вещь, я должен вам сказать, потому что я ехал сюда и всё думал,
как я вам скажу, а сейчас я уже не могу терпеть… Марк грустно улыбнулся и смотрел прямо
мне в глаза умоляющим взглядом. — Что такое? Пожалуйста, говори… — Я был уже в одной колонии, и
нельзя сказать, чтобы там было плохо. Но я почувствовал, какой у меня
делается характер. Моего папашу убили деникинцы, и я комсомолец, а характер у
меня делается очень нежный. Это очень нехорошо, я же понимаю. У меня должен
быть большевистский характер. Меня это стало очень мучить. Скажите, вы не отправите
меня в Одессу, если я скажу настоящую правду? Марк подозрительно осветил моё лицо
своими замечательными глазищами. — Какую бы правду ты мне ни сказал,
я тебя никуда не отправлю. — За это вам спасибо, товарищ
заведующий, большое спасибо! Я так и подумал, что вы так скажете, и решился.
Я подумал потому, что прочитал статью в газете «Висти» под заглавием:
«Кузница нового человека», — это про вашу колонию. Я тогда увидел, куда
мне нужно идти, и я стал просить. И сколько я ни просил, всё равно ничего не
помогло. Мне сказали: эта колония вовсе для правонарушителей, чего ты туда
поедешь? Так я убежал из той колонии и пошёл прямо в трамвай. И всё так
быстро сделалось, вы себе представить не можете: я только в карман залез к
одному, и меня сейчас же схватили и хотели бить. А потом повели в комиссию. — И комиссия поверила твоей краже? — А как же она могла не поверить?
Они же люди справедливые, и были даже свидетели, и протокол, и всё в порядке.
Я сказал, что и раньше лазил по карманам. Я открыто засмеялся. Мне было приятно,
что моё недоверие к приговору комиссии оказалось основательным. Успокоенный
Марк отправился устраиваться в четвёртом отряде. Совершенно иной характер был у Веры
Березовской. Дело было зимой. Я выехал на вокзал
проводить Марию Кондратьевну Бокову и передать через неё в Харьков какой‑то
срочный пакет. Марию Кондратьевну я нашёл на перроне в состоянии горячего
спора со стрелком железнодорожной охраны. Стрелок держал за руку девушку лет
шестнадцати в калошах на босу ногу. На её плечи была наброшена старомодная
короткая тальма, вероятно, подарок какого‑нибудь доброго древнего
существа. Непокрытая голова девицы имела ужасный вид: всклокоченные белокурые
волосы уже перестали быть белокурыми, с одной стороны за ухом они торчали
плотной, хорошо свалянной подушкой, на лоб и щеки выходили тёмными, липкими
клочьями. Стараясь вырваться из рук стрелка, девушка просторно улыбалась —
она была очень хороша собой. Но в смеющихся, живых глазах я успел поймать
тусклые искорки беспомощного отчаяния слабого зверька. Её улыбка была
единственной формой её защиты, её маленькой дипломатией. Стрелок говорил Марии Кондратьевне: — Вам хорошо рассуждать, товарищ, а
мы с ними сколько страдаем. Ты на прошлой неделе была в поезде? Пьяная… была? — Когда я была пьяная? Он всё выдумывает, —
девушка совсем уже очаровательно улыбнулась стрелку и вдруг вырвала у него
руку и быстро приложила её к губам, как будто ей было очень больно. Потом с
тихоньким кокетством сказала: — Вот и вырвалась. Стрелок сделал движение к ней, но она
отскочила шага на три и расхохоталась на весь перрон, не обращая внимания на
собравшуюся вокруг нас толпу. Мария Кондратьевна растерянно оглянулась
и увидела меня: — Голубчик, Антон Семёнович! Она утащила меня в сторону и страстно
зашептала: — Послушайте, какой ужас! Подумайте,
как же так можно? Ведь это жнщина, прекрасная женщина… Ну да не потому, что
прекрасная… но так же нельзя!.. — Мария Кондратьевна, чего вы
хотите? — Как чего? Не прикидывайтесь,
пожалуйста, хищник! — Ну, смотри ты!.. — Да, хищник! Все свои выгоды, все
расчёты, да? Это для вас невыгодно, да? С этой пускай стрелки возятся, да? — Послушайте, но ведь она
проститутка… В коллективе мальчиков? — Оставьте ваши рассуждения,
несчастный… педагог! Я побледнел от оскорбления и сказал
свирепо: — Хорошо, она сейчас поедет со мной
в колонию! Мария Кондратьевна ухватила меня за
плечи: — Миленький Макаренко, родненький,
спасибо, спасибо!.. Она бросилась к девушке, взяла её за
плечи и зашептала что‑то секретное. Стрелок сердито крикнул на публику: — Вы чего рты пораззявили? Что вам
тут, кинотеатр? Расходитесь по своим делам!.. Потом стрелок плюнул, передёрнул плечами
и ушёл. Мария Кондратьевна подвела ко мне
девушку, до сих пор ещё улыбающуюся. — Рекомендую: Вера Березовская. Она
согласна ехать в колонию… Вера, это ваш заведующий, — смотрите, он очень
добрый человек, и вам будет хорошо. Вера и мне улыбнулась: — Поеду… что ж… Мы распростились с Марией Кондратьевной и
уселись в сани. — Ты замёрзнешь, — сказал я и
достал из‑под сиденья попону. Вера закуталась в попону и спросила
весело: — А что я буду там делать, в
колонии? — Будешь учиться и работать. Вера долго молчала, а потом сказала
капризным «бабским» голосом: — Ой, господи!.. Не буду я учиться,
и ничего вы не выдумывайте… Надвинулась облачная, тёмная, тревожная
ночь. Мы ехали уже полевой дорогой, широко размахиваясь на раскатах. Я тихо
сказал Вере, чтобы не слышал Сорока на облучке: — У нас все ребята и девчата учатся,
и ты будешь. Ты будешь хорошо учиться. И настанет для тебя хорошая жизнь. Она тесно прислонилась ко мне и сказала
громко: — Хорошая жизнь… Ой, темно как!.. И
страшно… Куда вы меня везёте? — Молчи. Она замолчала. Мы вьехали в рощу. Сорока
кого‑то ругал вполголоса, — наверное, того, кто выдумал ночь и
тесную лесную дорогу. Вера зашептала: — Я вам что‑то скажу… Знаете
что? — Говори. — Знаете что?.. Я беременна… Через несколько минут я спросил: — Это ты всё выдумала? — Да нет… Зачем я буду выдумывать?..
Честное слово, правда. Вдали заблестели огни колонии. Мы опять
заговорили шёпотом. Я сказал Вере: — Аборт сделаем. Сколько месяцев? — Два. — Сделаем. — Засмеют. — Кто? — Ваши… ребята… — Никто не узнает. — Узнают… — Нет. Я буду знать и ты. И больше
никто. Вера развязно засмеялась: — Да… Рассказывайте! Я замолчал. Взбираясь на колонийскую
гору, поехали шагом. Сорока слез с саней, шёл рядом с лошадиной мордой и
насвистывал «Кирпичики». Вера вдруг склонилась на мои колени и горько
заплакала. — Чего это она? — спросил
Сорока. — Горе у неё, — ответил я. — Наверное, родственники
есть, — догадался Сорока. — Это нет хуже, когда есть родственники! Он взобрался на облучок, замахнулся
кнутом: — Рысью, товарищ Мэри, рысью! Так! Мы вьехали во двор колонии. Через три дня возвратилась из Харькова
Мария Кондратьевна. Я ничего не сказал ей о трагедии Веры. А ещё через неделю
мы объявили в колонии, что Веру нужно отправить в больницу, у неё плохо с
почками. Из больницы она вернулась печально‑покорная и спросила у меня
тихонько: — Что мне теперь делать? Я подумал и ответил скромно: — Теперь будем понемножку жить. По её растерянно‑лёгкому взгляду я
понял, что жить для неё самая трудная и непонятная штука. Разумеется, Вера Березовская едет с нами
в Куряж. Выходит так, что едут все, едут и те двадцать новеньких, которых мне
подкинул Наркомпрос в последние дни, подкинул в полном безразличии к моим
стратегическим планам. Как было бы хорошо, если бы со мной шли на Куряж
только испытанные старые одиннадцать горьковских отрядов. Отряды эти с боем
прошли нашу шестилетнюю историю. У них было много общих мыслей, традиций,
опыта, идеалов, обычаев. С ними как будто можно не бояться. Как было бы
хорошо, если бы не было этих новичков, которые хотя и растворились как будто
в отрядах, но я встречаю их на каждом шагу и всегда смущаюсь: они и ходят, и
говорят, и смотрят не так, у них ещё «третьесортные», плохие лица. Ничего, мои одиннадцать отрядов имеют вид
металлический. Но какая будет катастрофа, если эти одиннадцать маленьких
отрядов погибнут в куряже! Накануне отъезда передового сводного у меня на
душе было тоскливо и неразборчиво. А вечерним поездом приехала Джуринская,
заперлась со мной в кабинете и сказала: — Антон Семёнович, я боюсь. Ещё не
поздно, можно отказаться. — Что случилось, Любовь Савельевна? — Я вчера была в Куряже. Ужас! Я не
могу выносить таких впечатлений. Вы знаете, я была в тюрьме, на фронте — я
никогда так не страдала, как сейчас. — Да зачем вы так?.. — Я не знаю, не умею рассказывать,
что ли. Но вы понимаете: три сотни совершенно отупевших, развращённых,
озлоблённых мальчиков… это, знаете, какой‑то животный, биологический
развал… даже не анархия… И эти нищета, вонь, вши!.. Не нужно вам ехать, это
мы очень глупо придумали. — Но позвольте! Если Куряж
производит на вас такое гнетущее впечатление, тем более нужно что‑то
делать. Любовь Савельевна тяжело вздохнула: — Ах, долго говорить придётся.
Конечно, нужно делать, это наша обязанность, но нельзя приносить в жертву ваш
коллектив. Вы ему цены не знаете, Антон Семёнович. Его нужно беречь,
развивать, холить, нельзя швыряться им по первой прихоти. — Чьей прихоти? — Не знаю чьей, — устало сказала
Любовь Савельевна, — я о вас говорю: у вас совершенно особая позиция. Но
вот что я вам хочу сказать: у вас гораздо больше врагов, чем вы думаете. — Ну, так что? — Есть люди, которые будут довольны,
если в Куряже вы оскандалитесь. — Знаю. — Вот! Давайте действовать серьёзно!
Давайте откажемся. Это ещё не трудно сделать. Я мог только улыбнуться на предложение
Джуринской: — Вы наш друг. Ваше внимание и
любовь к нам дороже всякого золота. Но… простите меня: сейчас вы стоите на
старой педагогической плоскости. — Не понимаю. — Борьба с Куряжем нужна не только
для куряжан и моих врагов, она нужна и для нас, для каждого колониста. Эта
борьба имеет реальное значение. Пройдитесь между колонистами, и вы увидите,
что отступление уже невозможно. На другое утро передовой сводный выехал в
Харьков. В одном вагоне с нами ехала и Любовь Савельевна. |
|
||||
|
|
2. Передовой сводный
Во главе передового сводного шёл Волохов.
Волохов очень скуп на слова, жесты и мимику, но он умеет хорошо выражать своё
отношение к событиям или человеку, и отношение его всегда полно несколько
ленивой иронии и безмятежной уверенности в себе. Эти качества в примитивных
формах присутствуют у каждого хорошего хулигана, но, отгранённые коллективом,
онир сообщают личности благородный сдержанный блеск и глубокую игру
спокойной, непобедимой силы. В борьбе нужны такие командиры, ибо они обладают
абсолютной смелостью и абсолютно доброкачественными тормозами. Меня больше
всего успокаивало то обстоятельство, что о Куряже и куряжанах Волохов даже не
думал. Иногда, вызываемый неугомонной болтовней хлопцев, Волохов дарил
неохотно и свою реплику: — Да бросьте о куряжанах этих!
Увидите: из такого теста, как и все. Это, однако, не мешало Волохову к составу
передового сводного отнестись с чрезвычайной внимательностью. Он аккуратно,
молчаливо обсасывал каждую кандидатуру и решал коротко: — Не надо!.. Лёгкого веса! Передовой сводной был составлен очень
остроумно. Будучи сплошь комсомольским, он в то же время объединял в себе
представителей всех главных идей и специальных навыков в колонии. В передовой
сводный входили: 1. Витька Богоявленский, которому совет
командиров, не желая выступать на фронте с такой богопротивной фамилией,
переменил её на новую, совершенно невиданного шика: Горьковский. Горьковский
был худ, некрасив и умён, как фокстерьер. Он был прекрасно дисциплинирован,
всегда готов к действию и обо всём имел собственное мнение, а о людях судил
быстро и определённо. Главным талантом Горьковского было видеть каждого
хлопца насквозь и безошибочно оценивать его настоящую сущность. Вместе с тем
Витька никогда не распылялся, и его представление об отдельных людях
немедленно им синтезировалось в коллективные образы, в знанаие групп, линий,
различий и типических явлений. 2. Митька Жевелий — старый наш знакомый,
самый удачный и красивый выразитель истинного горьковского духа. Митька
счастливо вырос и сделался чудесно стройным юношей с хорошо посаженной,
ладной головой, с живым чёрно‑брильянтовым взглядом несколько косо
разрезанных глаз. В колонии всегда было много пацанов, которые старались
подражать Митьке и в манере энергично высказываться с неожиданным коротким
жестом, и в чистоте и прилаженности костюма, и в походке, и даже в
убеждённом, веселом и добродушном патриотизме горьковца. В нашем перезде в
Куряж Митька видел важное дело большого политического значения, был уверен,
что мы нашли правильные формы «организации пацанов» и для пользы пролетарской
республики должны распостранять нашу находку. 3. Михайло Овчаренко — довольно
глуповатый парень, но прекрасный работник, весьма экспансивно настроенный по
отношению к колонии и её интересам. Миша имел очень запутанную биографию, в
которой сам разбирался с большим трудом. Перебывал он почти во всех городах
Союза, но из этих городов не вынес никаких знаний и никакого развития. Он с
первого дня влюбился в колонию, и за ним почти не водилось проступков. У Миши
было много всякого умения, но ни в одной области он не приобрёл квалификации,
так как не выносил осёдлости ни у одного станка, ни ан одном рабочем месте.
Зато у него были неоспоримые хозяйственные таланты, способность наладить
работу отряда, укладку, перевозку всегда быстро и удачно, пересыпая работу
хозяйственным ворчанием и нравоучениями, только потому неутомительными, что
от них всегда шёл приятный запах Мишиной благонамеренной глупости и
неиссякаемой доброты. Миша Овчаренко был сильнее всех в колонии, сильнее даже
Силантия Отченаша, и, кажется, Волохов, выбирая Мишу а отряд, имел в виду
главным образом это качество. 4. Денис Кудлатый — самая сильная фигура
в колонии эпохи наступления на Куряж. Многие колонисты покрывались холодным
потом, когда Денис брал слово на общем собрании и упоминал их фамилии. Он
умел замечательно сочно и основательно смешать с грязью и человека и самым
убедительным образом потребовать его удаления из колонии. Страшнее всего быто
то, что Денис был действительно умён и его аргументация была часто солидно‑убийственна.
К колонии он относился с глубокой и серьёзной уверенностью в том, что колония
вещь полезная, крепко сбитая и налаженная. В его представлении она, вероятно,
напоминала хорошо смазанный, исправный, хозяйский воз, на котором можно
спокойно и не спеша проехать тысячу вёрст, потом с полчаса походить вокруг
него с молотком и мазницей — и снова проехать тысячу вёрст. По внешнему виду
Кудлатый напоминал классического кулака и в нашем театре играл только
кулацкие роли, а, тем не менее, он был первым организатором нашего комсомола
и наиболее активным его работником. По‑горьковски он был немногословен,
относясь к ораторам с молчаливым осуждением, а длинные речи выслушивал с
физическим страданием. 5. Евгеньева командир выбрал в качестве
необходимой блатной приманки. Евгеньев был хорошим комсомольцем и весёлым,
крепким товарищем, но в его языке и в ухватках ещё живы были воспоминания о
бурных временах улицы и реформаториума, а так как он был хороший артист, то
ему ничего не стоило поговорить с человеком на его родном диалекте, если это
нужно. 6. Жорка Волков, правая комсомольская
рука Коваля, выступал в нашем сводном в роли политкома и творца новой конституции.
Жорка был природный политический деятель: страстный, уверенный, настойчивый.
Отправляя его, Коваль говорил: — Жорка их там подёргает, сволочей,
за политические нервы. А то они думают, чёрт бы их побрал, что они живут в
эпоху империализма. Ну а если до кулаков дойдет, Жорка тоже сзади стоять не
будет. 7 и 8. Тоська Соловьёв и Ванька Шелапутин
— представители младшего поколения. Впрочем, они носили оба красивые
волнистые «политики», только Тоська блондин, а Ванька тёмно-русый. У Тоськи
хорошенькая юношеская свежая морда, а у Ваньки курносое ехидно‑оживлённое
лицо. Наконец девятым номером шёл колонист…
Костя Ветковский. Возвращение его в колонию произошло самым быстрым,
прозаическим и деловым образом. За три дня до нашего отъезда Костя пришёл в
колонию — худой, синий и смущённый. Его встретили сдержанно, только Лапоть
сказал: — Ну, как там «пронеси господи»
поживает? Костя с достоинством улыбнулся: — Ну её к чёрту! Я там и не был. — Вот жаль, — сказал
Лапоть, — даром стоит, проклятая! Волохов прищурился на Костю по‑приятельски. — Значит, ты налопался разных
интересных вещей по самое горло? Костя отвечал, не краснея: — Налопался. — Ну а что будет у тебя на сладкое: Костя громко рассмеялся: — А вот видишь, буду ожидать совета
командиров. Они мастера и на сладкое, и на горькое… — Сейчас нам некогда возиться с
твоими меню, — сурово произнёс Волохов. — А я вот что скажу: у Алёшки
Волкова нога растерта, поедешь ты вместо Алёшки. Лапоть, как ты думаешь? — Я думаю: соответствует. — А совет? — спросил Костя. — Мы сейчас на военном положении,
можно без совета. Так неожиданно для себя и для нас, без
процедур и психологии, Костя попал в передовой сводный. На другой день он
ходил уже в колонийском костюме. С нами ехал ещё Иван Денисович Киргизов,
новый воспитатель, которого я нарочно сманил с педагогического подвижничества
в Пироговке на место уходящего Ивана Ивановича. Непосвященному наблюдателю
Иван Денисович казался обыкновенным сельским учителем, а на самом деле Иван
Денисович есть тот самый положительный герой, которого так тщательно и давно
разыскивает русская литература. Ивану Денисовичу тридцать лет, он добр, умён,
спокоен и в особенности работоспособен — последним качеством герои русской
литературы, и отрицательные и положительные, как известно, похвастаться не
могут. Иван Денисович всё умеет делать и всегда что‑нибудь делает, но
издали всегда кажется, что ему можно ещё что‑нибудь поручить. Вы
подходите ближе и начинаете различать, что прибавить ничего нельзя, но ваш
язык, уже наладившийся на известный манер, быстро перестроиться не умеет, и
вы выговариваете, немного всё же краснея и заикаясь: — Иван Денисович, надо… там…
упаковать физический кабинет… Иван Денисович поднимается от какого‑нибудь
ящика или тетради и улыбается: — Кабинет? Ага… добре! Ось возьму
хлопцив, тай запакуем… Вы стыдливо отходите прочь, а Иван
Денисович уже забыл о вашем изуверстве, и ласково говорит кому‑то: — Пиды, голубе, поклычь там хлопцив… В Харьков мы приехали утром. На вокзале
встретил нас сияющий в унисон майскому утру и нашему боевому настроению
инспектор наробраза Юрьев. Он хлопал нас по плечам и приговаривал: — Вот какие горьковцы!.. Здорово,
здорово!.. И Любовь Савельевна здесь? Здорово! Так знаете что? У меня машина,
заедем за Халабудой, и прямо в Куряж. Любовь Савельевна, вы тоже поедете?
Здорово! А ребята пускай дачным поездом до Рыжова. А от Рыжова близко — два
километра… там лугом можно пройти. А вот только… надо же вас накормить, а?
Или в Куряже накормят, как вы думаете? Хлопцы выжидательно посматривали на меня
и иронически на Юрьева. Их боевые щупальца были наэлектризованы до высшей
степени и жадно ощупывали первый харьковский предмет — Юрьева. Я сказал: — Видите ли, наш передовой сводный
является, так сказать, первым эшелоном горьковцев. Раз мы приедем, пускай и
они приедут. Кажется, можно нанять две машины? Юрьев подпрыгнул от восхищения: — Здорово, честное слово! Как это у
них… всё как‑то… по‑своему. Ах, какая прелесть! И знаете что? Я
нанимаю за счёт наробраза! И знаете что? Я поеду с ними… с «хлопцами»… — Поедем, — показал зубы
Волохов. — Зам‑мечательно, зам‑мечательно!..
Значит, идём… идём нанимать машины! Волохов приказал: — Ступай, Тоська. Тоська салютнул, пискнул «есть». Юрьев
влепился в Тоську восторженным взглядом, потирал руки, танцевал на месте: — Ну, что ты скажешь, ну, что ты
скажешь!.. Он побежал на площадь, оглядываясь на
Тоську, который, конечно, не мог быстро забыть о своей солидности члена
передового сводного и прыгать по вокзалу. Хлопцы переглянулись. Горьковский спросил тихо: — Кто такой… этот чудак? Через час три наших авто влетели на
куряжскую гору и остановились возле ободранного бока собора. Несколько
нестриженых, грязных фигур лениво двинулись к машине, волоча по земле длинные
истоптанные штанины и без особенного любопытства поглядывая на горьковцев, стройных,
как пажи, и строгих, как следователи. Два воспитателя подошли к нам и, еле
скрывая неприязнь, переглянулись между собой: — Где мы их поместим? Вам можно
поставить кровать в учительской, а ребята могут расположиться в спальнях. — Это неважно. Где‑нибудь
поместимся. Где заведующий? Заведующий в городе. Но находится некто в
светло‑серых штанах, украшенных круглыми масляными пятнами, который с
некоторым трудом и воспоминаниями о неправильной очереди соглашается всё же
объявить себя дежурным и показать нам колонию. Мне смотреть нечего, Юрьев
тоже мало интересуется зрительными впечатлениями, Джуринская грустно молчит,
а хлопцы, не ожидая официального чичероне, сами побежали осматривать
богатства колонии; за ними не спеша поплёлся Иван Денисович. Халабуда затыкал палкой в различные точки
небосклона, вспоминая отдельные детали собственной организационной
деятельности, перечисляя элементы недвижимого куряжского богатства и приводя
всё это к одному знаменателю — житу. Хлопцы прибежали обратно, с лицами,
перекошенными от удивления. Кудлатый смотрит на меня с таким выражением, как
будто хочет сказать: «Как это вы могли, Антон Семёнович, влопаться в такую
глупую историю?» У Митьки Жевелия зло поблёскивают глаза,
руки в карманах, вокруг себя он оглядывается через плечо, и это презрительное
движение хорошо различает Джуринская: — Что, мальчики, плохо здесь? Митька ничего не отвечает. Волохов вдруг
смеётся: — Я думаю, без мордобоя здесь не
обойдётся. — Как это? — бледнеет Любовь
Савельевна. — придётся брать за жабры эту
братву, — поясняет Волохов и вдруг берёт двумя пальцами за воротник и
подводит ближе к Джуринской чёрненького худого замухрышку в длинном «клифте»,
но босого и без шапки. — Посмотрите на его уши. Замухрышка покорно поворачивается. Его
уши действительно примечательны. Это ничего, что они чёрные, ничего, что
грязь в них успела отлакироваться в разных жизненных трениях, но уши эти ещё
раскрашены буйными налётами кровоточащих болячек, заживающих корок и сыпи. — Почему у тебя такие уши? —
спрашивает Джуринская. Замухрышка улыбается застенчиво,
почёсывает ногу о ногу, а ноги у него такие же стильные. — Короста, — говорит замухрышка
хрипло. — Сколько тебе дней до смерти
осталось? — спрашивает Тоська. — Чего до смерти! Ху, у нас таких
сколько, а никто ещё не умер! Колонистов почему‑то не видно. В
засорённом клубе, на заплеванных лестницах, по забросанным экскрементами
дорожкам бродит несколько скучных фигур. В развороченных, зловонных спальнях,
куда даже солнцу не удаётся пробиться сквозь засиженные мухами окна, тоже
никого нет. — Где же колонисты? — спрашиваю
я дежурного. Дежурный гордо отворачивается и говорит
сквозь зубы: — Вопрос этот лишний. Рядом с нами ходит, не отставая,
круглолицый мальчик лет пятнадцати. Я его спрашиваю: — Ну, как живёте, ребята? Он поднимает ко мне умную мордочку,
неумытую, как и все мордочки в Куряже: — Живем? Какая там жизнь? А вот,
говорят, скоро будет лучше, правда? — Кто говорит? — Хлопцы говорят, что скоро будет
иначе, только, говорят, чуть что, лозинами будут бить? — Бить? За что? — Воров бить. Тут воров много. — Скажи, почему ты не умываешься? — Так нечем! Воды нету!
Электростанция испорчена и воды не качает. И полотенцев нету, и мыла… — Разве вам не дают? — Давали раньше… Так покрали всё. У
нас всё крадут. А теперь уже и в кладовой нету. — Почему? — Ночью кладовку всю разобрали.
Замки сломали и взяли всё. Заведующий хотел стрелять… — Ну? — Ничего… не стрелял. Он говорит:
буду стрелять! А хлопцы сказали: стреляй! Ну а он не стрелял, а только послал
за милицией… — И что же милиция? — Не знаю. — И ты взял что‑нибудь в
кладовой? — Нет, я не взял. Я хотел взять
штаны, а там были большие, а я когда пришёл, так и взял только два ключа, там
на полу валялись. — Давно это было? — Зимой было. — Так… Как же твоя фамилия? — Маликов Петр. Мы направились к школе. Юрьев молча
слушает наш разговор. Отставая от нас, сзади идёт Халабуда, и его уже
окружили горьковцы: у них удивительный нюх на занятных людей. Халабуда
задирает рыжебородое лицо и рассказывает хлопцам о хорошем урожае. За ним
тащится и царапает землю толстая суковатая палка. Наконец заходим в школу. Это бывшая
монастырская гостиница, перестроенная помдетом. Единственное здание в
колонии, где нет спален: длиннющий коридор и по бокам его длинные узкие
классы. Почему здесь школа? Эти комнаты годятся только для спален. Один из классов, весь заклеенный
плакатами и плохими детскими рисунками, нам представляют как пионерский
уголок. Видимо, он содержится специально для ревизионных комиссий и
политического приличия: нам пришлось подождать не менее получаса, пока
нашёлся ключ и открыли пионерский уголок. Мы присели на скамье отдохнуть. Мои
ребята притихли. Витька осторожно из‑за моего плеча шепчет: — Антон Семёнович, надо спать в этой
комнате. Всем вместе. Только кроватей не берите. Там, вы знаете, вшей… алла! Через Витькины колени наклоняется ко мне
Жевелий: — А хлопцы тут есть ничего. Только
воспитателей своих, ну, и не любят же! А работать они так не будут… — А как? — Так не будут, чтобы без скандала. Начинается разговор о порядке сдачи. Из
города прикатил на извозчике заведующий. Я смотрю на его тупое бесцветное
лицо и думаю: собственно говоря, его даже и под суд нельзя отдавать. Кто
посадил на святое место заведующего это жалкое существо? Заведующий берёт воинственный тон и
доказывает, что колонию нужно сдавать как можно скорее, что он вообще ни за
что не отвечает. Юрьев спрашивает: — Как это вы ни за что не отвечаете? — Да так, воспитанники очень плохо
настроены. Могут быть всякие эксцессы. У них ведь и оружие есть. — А почему же они настроены плохо?
Не вы ли их так настроили? — Мне нужно настраивать? Они и так
понимают, чем тут пахнет. Вы думаете, они не знают? Они все знают! — Что именно знают? — Они знают, что их ждёт, —
говорит выразительно заведующий и ещё выразительнее отворачивается к окну, показывая
этим, что даже наш вид ничего хорошего не обещает для воспитанников. Витька шепчет мне на ухо: — Вот гад, вот гад!.. — Молчи, Витька! — говорю
я. — Какие бы здесь эксцессы не произошли, отвечать за них всё равно
будете вы, независимо от того, произойдут ли они до сдачи или после сдачи.
Впрочем, я тоже прошу о возможно скорейшем окончании всех формальностей. Мы решаем, что сдача должна произойти
завтра, в два часа дня. Весь персонал — одних воспитателей сорок человек —
объявляется уволенным и в течение трёх дней должен освободить квартиры. Для
передачи инвентаря назначается дополнительный срок в пять дней. — А когда прибудет ваш завхоз? — У нас нет завхоза. Выделим для
приёмки одного из наших воспитанников. — Я воспитаннику не буду
сдавать, — начинает топорщить заведующий. Меня начинает злить вся эта концентрация
глупости. Собственно говоря, что он будет сдавать? — Знаете что, — говорю
я, — для меня, пожалуй, безразлично, будет ли какой‑нибудь акт или
не будет. Для меня важно, чтобы через три дня из вас здесь не осталось ни
одного человека. — Ага, это значит, чтобы мы не
мешали? — Вот именно. Заведующий оскорблённо вскакивает,
оскорблённо спешит к дверям. За ним спешит дежурный. Заведующий в дверях
выпаливает: — Мы мешать не будем, но вам другие
помешают! Хлопцы хохочут, Джуринская вздыхает,
Юрьев что‑то смущённо наблюдает на подоконнике, один Халабуда
невозмутимо рассматривает плакаты на стене. — Ну, что же, пожалуй,
поедем, — говорит Юрьев. — Завтра мы приедем, Любовь Савельевна. Джуринская грустно смотрит на меня. — Не приезжайте, — прошу я. — А как же? — Чего вам приезжать? Мне вы ничем
не поможете, а время будем убивать на разные разговоры. Юрьев прощается несколько обиженный.
Любовь Савельевна крепко жмёт руку мне и хлопцам и спрашивает: — Не боитесь? Нет? Они уезжают в город. Мы выходим во двор. Очевидно, раздают
обед, потому что от кухни к спальням несут в кастрюлях борщ. Костя Ветковский
дёргает меня за рукав и хохочет: Митька и Витька остановили двух ребят,
несущих кастрюлю. — Разве ж так можно делать? —
укоряет Митька. — Ну что это за люди! Чи ты не понимаешь, чи ты людоед
какой?.. Я не сразу соображаю, в чём дело. Костя
двумя пальцами поднимает за рукав одного из куряжских хлебодаров. У него под
другой рукой хлеб, корка которого ободрана наполовину. Костя потрясает
рукавом смущённого парня: весь рукав в борще, с него течет, он до самого
плеча обложен кусочками капусты и бурака. — А вот! — Костя умирает со
смеху. Мы тоже не можем удержаться: в кулаке зажат кусок мяса. — А другой? — Тоже! — заливается
Митька. — Это они из борща мясо вылавливают… пока донесут… Как же тебе
не стыдно, идиот, рукав закатал бы! — Ой, трудно здесь будет, Антон
Семёнович! — говорит Костя. Ребята мои куда‑то расползаются.
Ласковый майский день наклонился над монастырской горой, но гора не отвечает
ему ответной тёплой улыбкой. В моём представлении мир разделяется
горизонтальной прозрачной плоскостью на две части: вверху пропитанное голубым
блеском небо, вкусный воздух, солнце, полёты птиц и гребешки высоких покойных
тучек. К краям неба, спустившимся к земле, привешены далёкие группы хат,
уютные рощицы и уходящая куда‑то весёлая змейка речки. Чёрные, зелёные
и рыжие нивы, как перед праздником, аккуратно разложены под солнцем. Хорошо
всё это или плохо, кто его знает, но на это приятно смотреть, это кажется
простым и милым, хочется сделаться частью ясного майского дня. А под моими ногами загаженная почва
Куряжа, старые стены, пропитанные запахом пота, ладана и клопов, вековые
прегрешения попов и кровоточащая грязь беспризорщины. Нет, это конечно, не
мир, это что‑то иное, это как будто выдумано! Я брожу по колонии, ко мне никто не
подходит, но колонистов как будто становится больше. Они наблюдают за мной
издали. Я захожу в спальни. Их очень много, я не в состоянии представить
себе, где, наконец, нет спален, сколько десятков домов, флигелей набито
спальнями. В спальнях сейчас много колонистов. Они сидят на скомканных грудах
тряпья или на голых досках и железных полосках кроватей. Сидят, заложивши
руки между изодранных колен, и переваривают пищу. Кое‑кто истребляет
вшей, по углам группы картёжников, по другим — доедают холодный борщ из
закопчённых кастрюль. На меня не обращают никакого внимания, я не существую в
этом мире. В одной из спален я спрашиваю группу
ребят, которые, к моему удивлению, рассматривают картинки в старой «Ниве»: — Объясните, пожалуйста, ребята,
куда подевались ваши подушки? Все подымают ко мне лица. Остроносый
мальчик свободно подставляет моему взгляду тонкую ироническую физиономию: — Подушки? Вы будете товарищ Макаренко?
Да? Антон Семёнович? — Да. — Это вы здесь ходите, смотрю. — Завтра с двух часов… — Да, с двух часов, — перебиваю
я, — а всё-таки ты не ответил на мой вопрос: где ваши подушки? — Давайте мы вам расскажем, хорошо? Он мило кивает головой и освобождает место
на заплатанном грязном матраце. Я усаживаюсь. — Как тебя зовут? — спрашиваю
я. — Ваня Зайченко. — Ты грамотный? — Я был в четвёртой группе в прошлом
году, а в эту зиму… да вы, наверное, знаете… у нас занятий не было… — Ну, хорошо… Так где подушки и простыни? Ваня с разгоревшимся юмором в серых
глазах быстро оглядывает товарищей и пересаживается на стол. Его лохматый
рыжий ботинок упирается в моё колено. Товарищи тесно усаживаются на кровати.
Среди них я вдруг узнаю круглолицего Маликова. — И ты здесь? — Угу… Это наша компания! Это Тимка
Одарюк, а это Илья… Фонаренко Илья! Тимка рыжий, в веснушках, глаза без
ресниц и улыбка без предрассудков. Илья — толстомордый, бледный, в прыщах, но
глаза настоящие: карие, на тугих, основательных мускулах. Ваня Зайченко через
головы товарищей оглядывает почти пустую спальню и начинает приглушённым,
заговорщицким голосом: — Вы спрашиваете, где подушки, да? А
я вам скажу прямо: нету подушек, и все! Он вдруг звонко смеётся и разводит
растопыренными пальцами. Смеются и остальные. — Нам здесь весело, — говорит
Зайченко, — потому что смешно очень! Подушек нету… Были сначала, а
потом… ффу… и нету!.. Он снова хохочет. — Рыжий лег спать на подушке, а
проснулся без подушки… ффу… и нету!.. Зайченко весёлыми щелочками глаз смотрит на
Одарюка. В смехе он отклоняется назад и сильнее толкает ногой моё колено. — Антон Семёнович, вы скажите: чтобы
были подушки, надо всё записывать, правда? Считать нужно и записывать,
правда? И когда кому выдали, и всё. А у нас не только подушки, а и людей
никто не записывает… Никто!.. И не считают… Никто!.. — Как это так? А очень просто: так! Вы думаете, кто‑нибудь
записал, что здесь живёт Илья Фонаренко? Никто! Никто и не знает! И меня
никто не знает. О! Вы знаете, вы знаете? У нас много таких: здесь живёт, а
потом пойдёт где‑нибудь ещё поживёт, а потом опять сюда приходит. А
смотрите: думаете, Тимку сюда кто‑нибудь звал? Никто! Сам пришёл и
живёт. — Значит, ему здесь нравится? — Нет, он сюда пришёл две недели
назад. Об убежал из Богодуховской колонии. Он, знаете, захотел в колонию
Горького. — А разве в Богоддухове знают? — Ого! всё знают! А как же! — Почему он только один прибежал
сюда? — Так кому что нравится, конечно.
Многим ребятам не нравится строгость. У вас, говорят, строгость такая: есть,
труба заиграла — бегом, вставать — раз, два, три. Видите? А потом — работать.
У нас тоже хлопцы такого не хотят… — Они поубегают, — сказал
Маликов. — Куряжане? — Угу. Куряжане поубегают. На все
стороны. Они так говорят: «Макаренко ещё не видели? Ему награды получать
нужно, а нам работать?» Они поубегают все. — Куда? — Разве мало куда? Ого! В какую
хочешь колонию. — А вы? — Ну, так у нас компания, —
весело заспешил Зайченко. — Нас компания четыре человека. Вы знаете что?
Мы не крадем. Мы не любим этого. И все! Вот Тимка… ну, так и то для себя ни
за что, а для компании… Тимка добродушно краснеет на кровати и
старается посмотреть на меня сквозь стыдливые, закрывающиеся веки. — Ну, компания, до свиданья, —
говорю я. — Будем, значит, жить вместе! Все отвечают мне: «До свиданья» — и
улыбаются. Я иду дальше. Итак, четверо уже на моей
стороне. Но ведь, кроме них, ещё двести семьдесят шесть, может быть и больше.
Зайченко, вероятно, прав: здесь люди незаписанные и несчитанные. Я вдруг
прихожу в ужас перед этой страшной, несчитанной цифрой. Как я мог так
легкомысленно броситься в это совершенно губительное дело? Как я мог рискнуть
не только моей удачей, но жизнью целого коллектива? Пока это число «280»
представлялось мне в виде трёх цифр, написанных на бумаге, моя сила казалась
мне могучей, но вот сегодня, когда эти двести восемьдесят расположились
грязным лагерем вокруг моего ничтожного отряда мальчиков, у меня начинает
холодеть где‑то около диафрагмы, и даже в ногах я начинаю ощущать
неприятную тревожную слабость. Посреди двора ко мне подошли трое. Им лет
по семнадцати, их головы даже пострижены, на ногах исправные ботинки. Один в
сравнительно новом коричневом пиджаке, но под пиджаком испачканная какой‑то
снедью, измятая рубаха; другой — в кожанке, третий — в чистой белой рубахе.
Обладатель пиджака заложил руки в карманы брюк, наклонил голову к плечу и
вдруг засвистел мне в лицо известный вихляющий «одесский» мотив, выставляя
напоказ белые красивые зубы. Я заметил, что у него большие мутные глаза и
рыжие мохнатые брови. Двое других стояли рядом, обнявши друг друга за плечи,
и курили папиросы, перебрасывая их языком из одного угла рта в другой. К
нашей группе придвинулось несколько куряжских фигур. Рыжий прищурил один глаз и сказал громко: — Макаренко, значит, да? Я остановился против него и ответил
спокойно, стараясь изо всех сил ничего не выразить на своём лице: — Да, это моя фамилия. А тебя как
зовут? Рыжий, не отвечая, засвистел снова,
пристально меня разглядывая прищуренным глазом и пошатывая одной ногой. Вдруг
он круто повернул спиной, поднял плечи и, продолжая свистеть, пошёл прочь,
широко расставляя ноги и роясь глубоко в карманах. Его приятели направились
за ним, как и раньше, обнявшись, и затянули оглушительно: Гулял, гулял мальчишка, Гулял я в городах… Фигуры, окружающие нас, продолжают
рассматривать меня, одна тихо говорит другой: — Новый заведующий… — Один чёрт, — так же тихо
отвечает другая. — Думаете с чего начинать, товарищ
Макаренко? Оглядываюсь: чёрноокая молодая женщина
улыбается. Так необычно видеть здесь белоснежную блузку и строгий чёрный
галстук. — Я — Гуляева. Знаю: это инструктор швейной мастерской —
единственный член партии в Куряже. На неё приятно смотреть: Гуляева начинает
полнеть, но у неё ещё гибкая талия, блестящие чёрные локоны, тоже молодые, и
от неё пахнет ещё не истраченной силой души. Я отвечаю весело: — Давайте начинать вместе. — О нет, я вам плохой помощник. Я не
умею. — Я научу вас. — Ну, хорошо… Я пришла пригласить
вас к девочкам, вы ещё не были у них. Они вас ожидают… Даже страстно ожидают.
Я могу немножко гордиться: девочки здесь были под моим влиянием — у них даже
три комсомолки есть. Пойдёмте. Мы направляемся к центральному
двухэтажному зданию. — Вы очень хорошо поступили, —
говорит Гуляева, — что потребовали снятия всего персонала. Гоните всех,
до одного, ни на кого не смотрите… И меня гоните. — Нет, относительно вас мы уже
договорились. Я как раз рассчитываю на вашу помощь. — Ну, смотрите, чтобы потом не
жалели. Спальня девочек очень большая, в ней
стоит шестьдесят кроватей. Я поражён: на каждой кровати одеяло, правда
старенькое и худое. Под одеялами простыни. Даже есть подушки. Девочки нас действительно ожидали. Они
одеты в изношенные, заплатанные ситцевые платьица. Самой старшей из девочек
лет пятнадцать. Я говорю: — Здравствуйте, девочки! — Ну вот, привела к вам Антона
Семёновича, вы хотели его видеть. Девочки шёпотом произносят приветствие и
потихоньку сходятся к нам, по дороге поправляя постели. Мне становится почему‑то
очень жаль этих девочек, мне страшно хочется доставить им хотя бы маленькое
удовольствие. Они усаживаются на кроватях вокруг нас и несмело смотрят на
меня. Я никак не могу разобрать, почему мне так жаль их. Может быть, потому,
что они бледные, что у них бескровные губы и осторожные взгляды, а может
быть, потому, что у них заплатанные платья. Я мельком думаю: нельзя девочкам
давать носить такую дрянь, это может обидеть на всю жизнь. — Расскажите, девчата, как вы
живёте? — прошу их я. Девочки молчат, смотрят на меня и
улыбаются одними губами. Я вдруг ясно вижу: только их губы умеют улыбаться,
на самом деле девочки и понятия не имеют, что такое настоящая живая улыбка. Я
медленно осматриваю все лица, перевожу взгляд на Гуляеву и спрашиваю: — Вы знаете, я опытный человек, но я
чего‑то здесь не понимаю. Гуляева поднимает брови: — А что такое? Вдруг девочка, сидящая против меня,
смуглянка, в такой короткой розовой юбочке, что всегда видны её колени,
говорит, глядя на меня немигающими глазами: — Вы скорее к нам приезжайте с
вашими горьковцами, потому что здесь очень опасно жить. И тотчас я понял, в чём дело: на лице
этой смуглянки, в её остановившихся глазах, в нечаянных конвульсиях рта живёт
страх, настоящий обыкновенный испуг. — Они запуганы, — говорю я
Гуляевой. — У них тяжёлая жизнь, Антон
Семёнович, у них очень тяжёлая жизнь… У Гуляевой краснеют глаза, и она быстро
уходит к окну. Я решительно пристал к девочкам: — Чего вы боитесь? Рассказывайте! Сначала несмело, подталкивая и заменяя
друг друга, потом откровенно и убийственно подробно девочки рассказали мне о
своей жизни. Сравнительно безопасно чувствуют себя они
только в спальне. Выйти во двор боятся, потому что мальчики преследуют их,
щиплют, говорят глупости, подглядывают в уборную и открывают в ней двери.
Девочки часто голодают, потому что им не оставляют пищи в столовой. Пищу расхватывают
мальчики и разносят по спальням. Разносить по спальням запрещается, и
кухонный персонал не даёт этого делать, но мальчики не обращают внимания на
кухонный персонал, выносят кастрюли и хлеб, а девочки этого не могут сделать.
Они приходят в столовую и ожидают, а потом им говорят, что мальчики всё
растащили и есть уже нечего, иногда дадут немного хлеба. И в столовой сидеть
опасно, потому что туда забегают мальчики и дерутся, называют проститутками и
ещё хуже и хотят научить разным словам. Мальчики ещё требуют от них разных
вещей для продажи, но девочки не дают; тогда они забегают в спальню, хватают
одеяло, или подушку, или что другое — и уносят продавать в город. Стирать
своё бельё девочки решаются только ночью, но теперь и ночью стало опасно;
мальчики подстерегают в прачечной и такое делают, что и сказать нельзя. Валя
Городкова и Маня Василенко пошли стирать, а потом пришли и целую ночь
плакали, а утром взяли и убежали из колонии кто его знает куда. А одна
девочка пожаловалась заведующему, так на другой день она пошла в уборную, а
её поймали и вымазали лицо… этим самым… в уборной. Теперь все рассказывают,
что будет иначе, хлопцы другие говорят, что всё равно ничего не выйдет,
потому что горьковцев очень мало и их всё равно поразгоняют. Гуляева слушала девочек, не отрывая
взгляда от моего лица. Я улыбнулся не столько ей, сколько только что пролитым
ею слезам. Девочки окончили своё печальное
повествование, а одна из них, которую все называли Сменой, спросила меня
серьёзно: — Скажите, разве можно такое при советской
власти? Я ответил: — То, что вы рассказали, большое
безобразие, и при советской власти такого безобразия не должно быть. Пройдёт
несколько дней, и всё у вас изменится. Вы будете жить счастливо, никто вас не
будет обижать, и платья эти мы выбросим. — Через несколько дней? —
спросила задумчиво белобрысая девочка, сидящая на окне. — Ровно через десять дней, —
ответил я. Я бродил по колонии до наступления
темноты, обуреваемый самыми тяжёлыми мыслями. На самом древнем круглом пространстве,
огороженном трёхсотлетними стенами саженной толщины, с облезлым бестолковым
собором в центре, на каждом квадратном метре загаженной земли росли
победоносным бурьяном педагогические проблемы. В пошатнувшейся старой конюшне, по горло
утонувшей в навозе, в коровнике, представляющем собой богадельню для десятка
старых дев коровьего племени, на всем хозяйском дворе, в изломанной решетке
уничтоженного давно сада, по всему пространству, окружавшему меня, торчали
засохшие стебли соцвоса. А в спальнях колонистов и поближе к ним — в пустых
квартирах персонала, в так называемых клубах, на кухне, в столовой на этих
стеблях качались тучные ядовитые плоды, которые я обязан был проглотить в
течение самых ближайших дней. Вместе с мыслями у меня расшевелилась
злоба. Я начинал узнавать в себе гнев тысяча девятьсот двадцатого года. За
моей спиной вдруг обнаружился соблазняющий демон бесшабашной ненависти.
Хотелось сейчас, немедленно, не сходя с места, взять кого‑то за
шиворот, тыкать носом в зловонные кучи и лужи, требовать самых первоначальных
действий… нет, не педагогики, не теории соцвоса, не революционного долга, не
коммунистического пафоса, нет, нет, — обыкновенного здравого смысла,
обыкновенной презренной мещанской честности. Злоба потушила у меня страх
перед неудачей. Возникшие на мгновение припадки
неуверенности безжалостно уничтожались тем обещанием, которое я дал девочкам.
Эти несколько десятков запуганных, тихоньких бледных девочек, которым я так
бездумно гарантировал человеческую жизнь через десять дней, в моей душе вдруг
стали представителями моей собственной совести. Постепенно темнело. В колонии не было
освещения. От монастырских стен ползли к собору угрюмые деловые сумерки. По всем углам, щелям, проходам копошились
беспризорные, кое‑как расхватывая ужин и устраиваясь на ночлег. Ни
смеха, ни песни, ни бодрого голоса. Доносилось иногда заглушенное ворчание,
ленивая привычная ссора. На крыльцо одной спальни с утерянными ступенями
карабкались двое пьяных и скучно матюкались. На них с молчаливым презрением
смотрели из сумерек Костя Ветковский и Волохов. |
|
||||
|
|
3. Бытиё
На другой день в два часа дня заведующий
Куряжем высокомерно подписал акт о передаче власти и о снятии всего
персонала, сел на извозчика и уехал. Глядя на его удаляющийся затылок, я
позавидовал лучезарной удаче этого человека: он сейчас свободен, как воробей,
никто вдогонку ему даже камнем не бросил. У меня нет таких крыльев, поэтому я
тяжело передвигаюсь между земными персонажами Куряжа и у меня сосет под
ложечкой. Ванька Шелапутин освещён майским солнцем.
Он сверкает, как брильянт, смущением и улыбкой. Вместе с ним хочет сверкать
медный колокол, приделанный к соборной стене. Но колокол стар и грязен, он
способен только тускло гримасничать под солнцем. И, кроме того, он расколот,
и, как ни старается Ванька, ничего нельзя извлечь из колокола путного. А
Ваньке нужно прозвонить сигнал на общее собрание. Неприятное, тяжёлое, сосущее чувство
ответственности по природе своей неразумно. Оно придирается к каждому
пустяку, оно пронырливо старается залезть в самую мелкую щель и там сидит и
дрожит от злости и беспокойства. Пока звонит Шелапутин, оно привязалось к
колоколу: как это можно допустить, чтобы такие безобразные звуки разносились
над колонией? Возле меня стоит Витька Горьковский и
внимательно изучает моё лицо. Он переводит взгляд на колокольню у
монастырских ворот, зрачки его глаз вдруг темнеют и расширяются, дюжина
чертенят озабоченно выглядывает оттуда. Витька неслышно хохочет, задирая
голову, чуточку краснеет и говорит хрипло: — Сейчас это организуем, честное
слово! Он спешит к колокольне и по дороге
устраивает летучее совещание с Волоховым. А Ванька уже второй раз заставляет
кашлять старый колокол и смеётся: — Не понимают они, что ли? Звоню,
звоню, хоть бы тебе что!.. Клуб — это бывшая тёплая церковь. Высокие
окна с решетками, пыль и две утермарковские печки. В алтарном полукружии на
дырявом помосте — анемичный столик. Китайская мудрость, утверждающая, что
«лучше сидеть, чем стоять», в Куряже не пользуется признанием: сесть в клубе
не на чем. Куряжане, впрочем, и не собираются усаживаться. Иногда в дверь
заглянет всклокоченная голова и немедленно скроется; по двору бродят стайки в
три‑четыре человека и томятся в ожидании обеда, который благодаря
междоусобному времени сегодня будет поздно. Но это всё плебс: истинные двигатели
куряжской цивилизации где‑то скрываются. Воспитателей нет. Я теперь уже знаю, в
чём дело. Ночью нам не очень сладко спалось на твёрдых столах пионерской
комнаты, и хлопцы рассказывали мне захватывающие истории из куряжского быта. Сорок воспитателей имели в колонии сорок
комнат. Полтора года назад они победоносно наполнили эти комнаты разными
предметами культуры, вязаными скатертями и оттоманками уездного образца. Были
у них и другие ценности, более портативные и более приспособленные к переходу
от одного владельца к другому. Именно эти ценности начали переходить во
владение куряжских воспитанников наиболее простым способом, известным ещё в
древнем Риме под именем кражи со взломом. Эта классическая форма приобретения
настолько распространилась в Куряже, что воспитатели один за другим поспешили
перетащить в город последние предметы культуры, и в их квартирах осталась
меблировка чрезвычайно скромная, если можно считать мебелью номер «Известий»,
распластанный на полу и служивший педагогам постелью во время дежурств. Но так как воспитатели Куряжа привыкли
дрожать не только за своё имущество, но и за свою жизнь и вообще за целость
личности, то в непродолжительном времени сорок воспитательских комнат
приобрели характер боевых бастионов, в стенах которых педагогический персонал
честно проводил положенные часы дежурства. Ни раньше, ни после того в своей
жизни я никогда не видел таких мощных защитных приспособлений, какие были
приделаны к окнам, дверям и другим отверстиям в квартирах воспитателей в
Куряже. Огромные крюки, толстые железные штанги, нарезные украинские
«прогонычи», российские полупудовые замки целыми гроздьями висели на рамах и
наличниках. С момента прихода передового сводного я
никого из воспитателей не видел. Поэтому самое увольнение их имело характер
символического действия; даже и квартиры их я воспринял как условные
обозначения, ибо напоминали о человеческом существе в этих квартирах только
водочные бутылки и клопы. Промелькнул мимо меня какой‑то
Ложкин, человек весьма неопределённой внешности и возраста. Он сделал попытку
доказать мне свою педагогическую мощь и остаться в колонии имени Горького,
«чтобы под вашим руководством и дальше вести юношество к прогрессу». Целых
полчаса он ходил вокруг меня и болтал о разных педагогических тонкостях: — Здесь разброд, полный разброд! Вот
вы звоните, а они не идут. А почему? Я говорю: нужен педагогический подход.
Совершенно правильно говорят: нужно обусловленное поведение, а как же может
быть обусловленное поведение, если, извините, он крадёт и ему никто не препятствует?
У меня к ним есть подход, и они всегда ко мне обращаются и уважают, но
всё-таки… я был два дня у тещи — заболела, так вынули стёкла и всё решительно
украли, остался, как мать родила, в одной толстовке. А почему, спрашивается?
Ну, бери у того, кто к тебе плохо относится, но зачем же ты берёшь у того,
кто к тебе хорошо относится? Я говорю: нужен педагогический подход. Я соберу
ребят, поговорю с ними раз, другой, третий, понимаете? Заинтересую их, и
хорошо. Задачку скажу. В одном кармане на семь копеек больше, чем в другом, а
вместе двадцать три копейки, сколько в каждом? Хитро, правда? Ложкин лукаво скосил глаза. — Ну и что же? — спросил я из
вежливости. — Нет, а вот вы скажите: сколько? — Чего — сколько? — Скажите: сколько в каждом
кармане? — приставал Ложкин. — Это… вы хотите, чтобы я сказал? — Ну да, скажите, сколько в каждом
кармане. — Послушайте, товарищ Ложкин, —
возмутился я, — вы где‑нибудь учились? — А как же. Только я больше
самообразованием взял. Вся моя жизнь есть самообразование, а, конечно, в
педагогических техникумах или там институтах не пришлось. И я вам скажу: у
нас здесь были и такие, которые с высшим образованием, один даже окончил
стенографические курсы, а другой юрист, а вот дашь им такую задачку… Или вот:
два брата получили наследство… — Это что ж… этот самый стенограф
написал там, на стене? — Он написал, он… всё хотел
стенографический кружок завести, но, как его обокрали, он сказал: не хочу в
такой некультуре работать, и кружка не завел, а нёс только воспитательную
работу… В клубе возле печки висел кусок картона,
и на нём было написано: Стенография — путь к социализму Ложкин ещё долго о чём-то говорил, потом
весьма незаметно испарился, и я помню только, что Волохов сказал сквозь зубы
ему вдогонку в качестве последнего прости: — Зануда! В клубе нас ожидали неприятные и обидные
вещи, куряжане на общее собрание не пришли. Глаза Волохова с тоской
поглядывали на высокие пустые стены клуба, Кудлатый, зелёный от злости, с
напряжёнными скулами, что‑то шептал, Митька смущённо‑презрительно
улыбался, один Миша Овчаренко был добродушно‑спокоен и продолжал что‑то,
давно начатое: — …Самое главное, пахать надо… И
сеять. Как же можно так, подумайте: май же, кони даром стоят, всё стоит!.. — И в спальнях никого нет, все в
городе, — сказал Волохов и отчётливо, крепко выругался, не стесняясь
моего присутствия. — Пока не соберутся, не давать
обедать, — предложил Кудлатый. — Нет, — сказал я. — Как «нет»! — закричал
Кудлатый. — Собственно говоря, чего нам здесь сидеть? На поле бурьян
какой, даже не вспахано, что это такое? А они тут обеды себе устраивают.
Дармоедам воля, значит, или как? Волохов облизал сухие гневные губы, повёл
плечами, как в ознобе, и сказал: — Антон Семёнович, пойдём к нам,
поговорим. — А обед? — Подождут, чёрт их не возьмёт. Да
они всё равно в городе. В пионерской комнате, когда все расселись
на скамьях, Волохов произнёс такую речь: — Пахать надо? Сеять надо? А какого
чёртового дьявола сеять, когда у них ничего нет, даже картошки нет! Чёрт с
ними, мы и сами посеяли бы, так ничего нет. Потом… эта гадость всякая, вонь.
Если наши приедут, стыдно будет, чистому человеку ступить некуда. А спальни,
матрацы, кровати, подушки? А костюмы? Босиком все, а бельё где? Посуда,
смотрите, ложки, ничего нет! С чего начинать? Надо с чего‑нибудь
начинать? Хлопцы смотрели на меня с горячим
ожиданием, как будто я знал, с чего начинать. Меня беспокоили не столько куряжские
ребята, сколько бесчисленные детали чисто материальной работы, представлявшие
такое сложное и неразборчивое месиво, что в нём могли затерять все триста
куряжан. По договору с помдетом я должен был
получить двадцать тысяч рублей на приведение Куряжа в порядок, но и сейчас
уже было видно, что эта сумма — сущие слёзы в сравнении с наличной нуждой.
Мои хлопцы были правы в своём списке отсутствующих вещей. Совершенно
исключительная нищета Куряжа обнаружилась полностью, когда Кудлатый приступил
к приёмке имущества. Заведующий напрасно беспокоился о том, что передаточный
акт будет иметь недостойные подписи. Заведующий был просто нахал; акт
получился очень короткий. В мастерских были кое‑какие станки, да в
конюшне стояло несколько обыкновенных одров, а больше ничего не было: ни
инструмента, ни материалов, ни сельскохозяйственного инвентаря. В жалкой,
затопленной навозной жижей свинарне верещало полдюжины свиней. Хлопцы, глядя
на них, не могли удержаться от хохота — так мало напоминали наших англичан
эти юркие, пронырливые звери, у которых большая голова торчала на тоненьких
ножках. В дальнем углу Кудлатый откопал плуг и обрадовался ему, как родному.
А борону ещё раньше обнаружили в куче старого кирпича. В школе нашлись только
отдельные ножки столов и стульев да остатки классных досок — явление вполне
естественное, ибо каждая зима имеет свой конец и у всякого хозяина могут на
весну остаться небольшие запасы топлива. Все нужно было покупать, делать, строить.
Прежде всякого другого действия необходимо было построить уборные. В методике
педагогического процесса об уборных ничего не говорится, и, вероятно, потому
в Куряже так легкомысленно обходились без этого полезного жизненного
института. Куряжский монастырь был построен на горе,
довольно круто обрывавшейся во все стороны. Только на южном обрыве не было
стены, и здесь, через заболоченный монастырский пруд, открывался вид на
соломенные крыши села Подворки. Вид был во всех отношениях сносный, приличный
украинский вид, от которого защемило бы сердце у любого лирика, воспитанного
на созвучиях: маты, хаты, дивчата, с прибавлением небольшой дозы ставка и
вышневого садка. Наслаждаясь таким хорошим видом, куряжане платили
подворчанам чёрной неблагодарностью, подставляя их взорам только шеренги
сидящих над обрывом туземцев, увлеченных последним претворением миллионов,
ассигнованных по сметам соцвоса, в продукт, из которого уже ничего больше
нельзя сделать. Мои хлопцы очень старадали в области
затронутой проблемы. Миша Овчаренко достигал максиума серьёзности и
убедительности, когда жаловался: — Шо ж это, в самом деле? Как же
нам? В Харьков ездить, чи как? Так на чём ездить? Поэтому уже в конце нашего совещания в
дверях пионерской комнаты стояло два подворских плотника, и старший из них,
солдатскогго вида человек в хаковой фуражке, с готовностью поддерживал мои
предначертания: — Конешно, как же это можно? Раз
человек кушает, он же не может так… А насчёт досок — тут на Рыжове склад. Вы
не стесняйтесь, меня здесь все знают, давайте назначенную сумму, сделаем
такую постройку — и у монахов такой не было. Если, конечно, дёшево желаете,
шелевка пойдёт или, допустим, лапша, — лёгкое будет строение, а в случае
вашего желания советую полтора дюйма или двухдюймовку взять, тогда выйдет
вроде как лучше и для здоровья удобнее: ветер тебе не задует, и зимой
затышек, и летом жара не потрескает. Кажется, первый раз в жизни я испытал
настоящее умиление, взирая на этого прекрасного человека, строителя и
организатора зимы и лета, ветров и «затышка». И фамилия у него была приятная
— Боровой. Я дал ему стопку кредиток и ещё раз порадовался, слушая, как он
сочно внушал своему помощнику, сдобному румяному парню: — Так я пойду, Ваня, за лесом пойду,
а ты начинай. Сбегай за лопаткой и мою забери. Пока сё да то, а людям сделаем
строение… А кто‑нибудь нам покажет, где и как… Киргизов и Кудлатый, улыбаясь,
отправились показывать, а Боровой запеленал деньги в некую тряпочку и ещё раз
морально поддержал меня: — Сделаем, товарищ заведующий,
будьте в надежде! Я был в надежде. На душе стало удобнее,
мы стряхнули с себя неповоротливую, дохлую, подготовительную стадию и
приступили к педагогической работе в Куряже. Вторым вопросом, который мы
удовлетворительно разрешили на этот вечер, был вопрос, тоже относящийся к
бытию: тарелки и ложки. В сводчатой трапезной, на стенах которой выглядывали
из‑под штукатурки чёрные серьёзные глаза святителей и богородиц и кое‑где
торчали их благословляющие персты, были столы и скамьи, но никакой посуды
куряжане не знали. Волохов после получасовых хлопот и дипломатических
представлений в конюшне усадил на старенькую линейку Евгеньева и отправил его
в город с поручением купить четыреста пар тарелок и столько же деревянных
ложек. На выезде из ворот линейка Евгеньева была
встречена восторженными кликами, объятиями и рукопожатиями целой толпы.
Хлопцы нюхом почувствовали приток знакомого радостного ветра и выскочили к
воротам. Выскочил и я и моментально попал в лапы Карабанова, который с недавних
пор усвоил привычку показывать на моей грудной клетке свою силу. Седьмой сводный отряд под командой
Задорова прибыл в полном составе, и в моём сознании толпа таинственных
куряжан вдруг обратилась в мелкую пустячную задачку, которой отказал бы в уважении
даже Ложкин. Это большое удовольствие — в трудную,
неразборчивую минуту встретить всех рабфаковцев: и основательного тяжёлого
Буруна, и Семёна Карабанова, на горячей чёрной страсти которого так приятно
было различить тонкий орнамент, накладываемый наукой, и Антона Братченко, у
которого и теперь широкая душа умела вместиться в узких рамках ветеринарного
дела, и радостно‑благородного Матвея Белухина, и серьёзного Осадчего,
пропитанного сталью, и Вершнева — интеллигента и искателя истины, и чёрноокую
умницу Марусю Левченко, и Настю Ночевную, и «сына иркутского губернатора»
Георгиевского, и Шнайдера, и Крайника, и Голоса, и наконец, моего любимца и
крестника, командира седьмого сводного Александра Задорова. Старшие в седьмом
сводном отряде уже заканчивали рабфак, и у нас не было сомнений, что и в вузе
дела пойдут хорошо. Впрочем, для нас они были больше колонистами, чем
студентами, и сейчас нам было некогда долго заниматься счётом их учебных
успехов. После первых приветствий мы снова засели в пионерской комнате.
Карабанов залез за стол, поплотнее уселся на стуле и сказал: — Мы знаем, Антон Семёнович, тут
дело ясное: або славы добуты, або дома не буты! Ось мы и приехали! Мы рассказали рабфаковцам о нашем первом
сегодняшнем дне. Рабфаковцы нахмурились, беспокойно оглянулись, заскрипели
стульями. Задоров задумчиво посмотрел в окно и прищурился: — Да нет… силой сейчас нельзя: много
очень! Бурун повёл пудовыми плечами и улыбнулся: — Понимаешь, Сашка, не много! Много‑то
наплевать! Не много, а… чёрт его знает, взять не за что. Много, ты говоришь,
а где они? Где? За кого ты ухватишься? Надо их как‑нибудь… той… в кучу
собрать. А как ты их соберёшь? Вошла Гуляева, послушала наши разговоры,
улыбкой ответила на подозрительный взгляд Карабанова и сказала: — Всех ни за что не соберёте! Ни за
что!.. — А ось побачим! — рассердился
Семён. — Как это «ни за что»? Соберём! Пускай не двести восемьдесят, так
сто восемьдесят придут. Там будет видно. Чего тут сидеть? Выработали такой план действий. Сейчас
дать обед. Куряжане как следует проголодались, все в спальнях ожидают обеда.
Чёрт с ними, пускай лопают! А во время обеда всем пойти по спальням и
агитнуть. Надо им сказать, сволочам: приходите на собрание, люди вы или что?
Приходите! Для вас же, гады, интересно, у вас новая жизнь начинается, а вы,
как мокрицы, разлазитесь. А если кто будет налазить, заедаться с ним не надо.
А лучше так сказать: ты здесь герой, возле кастрюли с борщом, — приходи
на собрание и говори, что хочешь. Вот и всё. А после обеда позвонить на
собрание. У дверей кухни сидело несколько десятков
куряжан, ожидавших раздачи обеда. Мишка Овчаренко стоял в дверях и поучал
того самого рыжего, который вчера интересовался моей фамилией. — Если кто не работает, так ему
никакой пищи не полагается, а ты мне толкуешь: полагается! Ничего тебе не
полагается. Понимаешь, друг? Ты это должен хорошенько понять, если ты человек
с умом. Я, может, тебе и выдам, так это будет, милый мой, по моему доброму
желанию. Потому что ты не заработал, понимаешь, дружок? Каждый человек должен
заработать, а ты, милый мой, дармоед, и тебе ничего не полагается. Могу
подать милостыню, и всё. Рыжий смотрел на Мишку глазом обиженного
зверя. Другой глаз не смотрел, и вообще со вчерашнего дня на физиономии
рыжего произошли большие изменения: некоторые детали этого лица значительно
увеличились в объёме и приобрели синеватый оттенок, верхняя губа и правая
щека измазаны были кровью. Всё это давало мне право обратиться к Мишке
Овчаренко с серьёзным вопросом: — Это что такое? Кто его разукрасил? Но Мишка солидно улыбнулся и усомнился в
правильной постановке вопроса: — С какой стати вы меня спрашиваете,
Антон Семёнович? Не моя это морда, а этого самого Ховраха. А я своё дело
делаю, про своё дело могут вам дать подробный доклад, как нашему заведующему.
Волохов сказал: стой у дверей, и никаких хождений на кухню! Я стал и стою.
Или я за ним гонялся, или я ходил к нему в спальню, или приставал к нему?
Пускай сам Ховрах и скажет: они лазят здесь без дела, может, он на что‑нибудь
напоролся сдуру? Ховрах вдруг захныкал, замотал на Мишку
головой и высказал свою точку зрения: — Хорошо! Голодом морить будете,
хорошо, ты имеешь право бить по морде? Ты меня не знаешь? Хорошо, ты меня
узнаешь!.. В то время ещё не были разработаны
положения об агрессоре, и я принуждён был задуматься. Подобные неясные случаи
встречались и в истории и разрешались всегда с большим трудом. Я вспомнил слова Наполеона после убийства
принца Ангиенского: "Это могло быть преступлением, но это не было
ошибкой". Я осторожно повёл среднюю линию: — Какое же ты имел право бить его? Продолжая улыбаться, Миша протянул мне
финку: — Видите: это финка. Где я её взял?
Я, может, украл её у Ховраха? Здесь разговоры были большие. Волохов сказал:
на кухню — никого! Я с этого места не сходил, а он с финкой пришёл и говорит:
пусти! Я, конечно, не пускаю, Антон Семёнович, а он обратно: пусти и лезет.
Ну, я его толкнул. Полегоньку так, вежливо толкнул, а он, дурак такой,
размахивает и размахивает финкой. Он не может того сообразить, какой есть
порядок. Всё равно, как остолоп… — Всё-таки ты его избил, вот… до
крови… Твои кулаки? Миша посмотрел на свои кулаки и смутился: — Кулаки, конечно, мои, куда я их
дену? Только я с места не сходил. Как сказал Волохов, так я и стоял на месте.
А он, конечно, размахивал тут, как остолоп… — А ты не размахивал? — А кто мне может запретить
размахивать? Если я стою на посту, могу я как‑нибудь ногу переставить,
или, скажем, мне рука не нужна на этой стороне, могу я на другую сторону как‑нибудь
повернуть? А он наперся, кто ему виноват? Ты, Ховрах, должен разбираться, где
ты ходишь! Скажем, идёт поезд… Видишь ты, что поезд идёт, стань в сторонку и
смотри. А если ты будешь на пути с финкой своей, так, конечно, поезду некогда
сворачивать, от тебя останется лужа, и всё. Или, если машина работает, ты
должен осторожно походить, ты же не маленький! Миша всё это пояснял Ховраху голосом
добрым, даже немного разнеженным, убедительно и толково жестикулируя правой
рукой, показывая, как может идти поезд и где в это время должен стоять
Ховрах. Ховрах слушал его молчаливо‑пристально, кровь на его щеках
начинала уже присыхать под майскими лучами солнца. группа рабфаковцев
серьёзно слушала речи Миши Овчаренко, отдавая должное Мишиной трудной позиции
и скромной мудрости его положений. За время нашего разговора прибавилось
куряжан. По их лицам я видел, как они очарованы строгими силлогизмами Миши,
которые в их глазах тем более были уместны, что принадлежали победителю. Я с
удовольствием заметил, что умею кое‑что прочитать на лицах моих новых
воспитанников. Меня в особенности заинтересовали еле уловимые знаки
злорадства, которые, как знаки истертой телеграммы, начинали мелькать в слоях
грязи и размазанных борщей. Только на мордочке Вани Зайченко, стоявшего
впереди своей компании, злая радость была написана открыто большими, яркими
буквами, как на праздничном лозунге. Ваня заложил руки за пояс штанишек,
расставил босые ноги и с острым, смеющимся вниманием рассматривал лицо
Ховраха. Вдруг он затоптался на месте и даже не сказал, а пропел, откидывая
назад мальчишескую стройную талию: — Ховрах! Выходит, тебе не нравится,
когда дают по морде? Не нравится, правда? — Молчи ты, козявка, — хмуро,
без выражения сказал Ховрах. — Ха!.. Не нравится! — Ваня
показал на Ховраха пальцем. — Набили морду, и всё! Ховрах бросился к Зайченко, но Карабанов
успел положить руку на его плечо, и плечо Ховраха осело далеко книзу,
перекашивая всю его городскую, в пиджаке, фигуру. Ваня, впрочем, не
испугался. Он только ближе подвинулся к Мише Овчаренко. Ховрах оглянулся на
Семёна, перекосил рот, вырвался. Семён добродушно улыбнулся. Неприятные
светлые глаза Ховраха заходили по кругу и снова натолкнулись на прежний,
внимательный и весёлый глаз Вани. Очевидно, Ховрах запутался: неудача, и
одиночество, и только что засохшая на щеке кровь, и только что произнесенные
сентенции Миши, и улыбка Карабанова требовали некоторого времени на анализ, и
поэтому тем труднее было для него оторваться от ненавистного ничтожества Вани
и потушить свой, такой привычно непобедимый, такой уничтожающий наглый упор.
Но Ваня встретил этот упор всесильной миной сарказма: — Какой ты ужасно страшный!.. Я
сегодня спать не буду!.. Перепугался и все! И все! И горьковцы и куряжане громко засмеялись.
Ховрах зашипел: — Сволочь! — и приготовился к
какому‑то, особенного пошиба, блатному прыжку. Я сказал: — Ховрах! — Ну, что? — спросил он через
плечо. — Подойди ко мне! Он не спешил выполнить моё приказание,
рассматривая мои сапоги и по обыкновению роясь в карманах. К железному
холодку моей воли я прибавил немного углерода: — Подойди ближе, тебе говорю! Вокруг нас все затихли, и только Петька
Маликов испуганно шепнул: — Ого! Ховрах двинулся ко мне, надувая губы и
стараясь смутить меня пристальным взглядом. В двух шагах он остановился и
зашатал ногою, как вчера. — Стань смирно! — Как это смирно ещё? — пробурчал
Ховрах, однако вытянулся и руки вытащил из карманов, но правую кокетливо
положил на бедро, расставив впереди пальцы. Карабанов снял эту руку с бедра: — Детка, если сказано «смирно», так
гопака танцевать не будешь. Голову выше! Ховрах сдвинул брови, но я видел, что он
уже готов. Я сказал: — Ты теперь горьковец. Ты должен
уважать товарищей. Насильничать над младшими ты больше не будешь, правда? Ховрах деловито захлопал веками и
улыбнулся каким‑то миниатюрным хвостиком нижней губы. В моём вопросе
было больше угрозы, чем нежности, и я видел, что Ховрах на этом
обстоятельстве уже поставил аккуратное нотабене. Он коротко ответил: — Можно. — Не можно, а есть, чёрт
возьми! — зазвенел мажорный тенор Белухина. Матвей без церемонии за плечи повернул
Ховраха, хлопнул с двух сторон по его опущенным рукам, точно и ловко вскинул
руку в салюте и отчеканил: — Есть не насильничать над младшими!
Повтори! Ховрах растянул рот: — Да чего вы, хлопцы, на меня
взъелись? Что я такое изделал? Ничего такого не изделал. Это он меня в рыло
двинул — факт! Так я ж ничего… Куряжане, захваченные до краёв всем
происходящим, придвинулись ближе. Карабанов обнял Ховраха за плечи и произнёс
горячо: — Друг! Дорогой мой, ты же умный
человек! Мишка стоит на посту, он защищает не свои интересы, а общие. Вот
пойдём на дубки, я тебе растолкую… Окружённые венчиком любителей этическим
проблем, они удаляются на дубки. Волохов дал приказ выдавать обед. Давно
торчащая за спиной Мишки усатая голова повара в белом колпаке дружески
закивала Волохову и скрылась. Ваня Зайченко усиленно задергал всю свою
компанию за рукава и зашептал с силой: — Понимаете, белую шапку одел! Как
это надо понимать? Тимка! Ты сообрази! Тимка, краснея, опустил глаза и сказал: — Это его собственный колпак, я
знаю! В пять часов состоялось общее собрание.
Либо агитация рабфаковцев помогла, либо от чего другого, но куряжане
собрались в клуб довольно полно. А когда Волохов поставил в дверях Мишу
Овчаренко и Осадчий с Шелапутиным стали переписывать присутствующих, начиная
необходимый в педагогическом деле учёт объектов воспитания, в двери
затомились запоздавшие и спрашивали с тревогой: — А кто не записался, дадут ужин? Бывший церковный зал насилу вместил эту
массу человеческой руды. С алтарного возвышения я всматривался в груду
беспризорщины, поражался и её объёмом, и мизерной выразительностью. В редких
точках толпы выделялись интересные живые лица, слышались человеческие слова и
открытый детский смех. Девочки жались к задней печке, и среди них царило
испуганное молчание. В чёрновато‑грязном море клифтов, всклокоченных
причёсок и ржавых запахов мёртвыми круглыми пятнами стояли лица, безучастные,
первобытные, с открытыми ртами, с шероховатыми взглядами, с мускулами,
сделанными из пакли. Я коротко рассказал о колонии Горького, о
её жизни и работе. Коротко описал наши задачи: чистота, работа, учеба, новая
жизнь, новое человеческое счастье. Они ведь живут в счастливой стране, где
нет панов и капиталистов, где человек может на свободе расти и развиваться в
радостном труде. Я скоро устал, не поддержанный живым вниманием слушателей.
Было похоже, как если бы я обращался к шкафам, бочкам, ящикам. Я объявил, что
воспитанники должны организоваться по отрядам, в каждом отряде двадцать
человек, просил назвать четырнадцать фамилий для назначения командирами. Они
молчали. Я просил задавать вопросы, они тоже молчали. На возвышение вышел
Кудлатый и сказал: — Собственно говоря, как вам не
стыдно? Вы хлеб лопаете, и картошку лопаете, и борщ, а кто это обязан для вас
делать? Кто обязан? А я вам завтра если не дам обедать? Как тогда? И на этот вопрос никто ничего не ответил.
Вообще «народ безмолвствовал». Кудлатый рассердился: — Тогда я предлагаю с завтрашнего
дня работать по шесть часов — надо же сеять, чёрт бы вас побрал! Будете
работать? Кто‑то один крикнул из далёкого
угла: — Будем! Вся толпа не спеша оглянулась на голос и
снова выпрямила линии тусклых физиономий. Я глянул на Задорова. Он засмеялся в
ответ на моё смущение и положил руку на моё плечо: — Ничего, Антон Семёнович, это
пройдёт! |
|
||||
|
|
4. «Всё хорошо»
Мы провозились до глубокой ночи в
попытках организовать куряжан. Рабфаковцы ходили по спальням и снова
переписывали воспитанников, стараясь составить отряды. Бродил по спальням и
я, захватив с собою Горьковского в качестве измерительного инструмента. Нам
нужно было, хотя бы на глаз, определить первые признаки коллектива, хотя бы в
редких местах найти следы социального клея. Горьковский чутко поводил носом в
тёмной спальне и спрашивал: — А ну? Какая тут компания? Ни компаний, ни единиц почти не было в спальнях.
Чёрт их знает, куда они расползались, эти куряжане. Мы расспрашивали
присутствовавших, кто в спальнях живёт, кто с кем дружит, кто здесь плохой,
кто хороший, но ответы нас не радовали. Большинство куряжан не знали своих
соседей, редко знали даже имена, в лучшем случае называли прозвища: Ухо,
Подмётка, Комаха, Шофёр — или вспоминали внешние признаки: — На этой койке рябой, а на этой —
из Валок пригнали. В некоторых местах мы ощущали и слабые
запахи социального клея, но склеивалось вместе не то, что нам было нужно. К ночи я всё-таки имел представление о
составе Куряжа. Разумеется, это были настоящие
беспризорные, но это не были беспризорные, так сказать, классические. Почему‑то
в нашей литературе и среди нашей интеллигенции представление о беспризорном
сложилось в образе некого байроновского героя. Беспризорный — это прежде
всего якобы философ, и притом очень остроумный, анархист и разрушитель,
блатняк и противник решительно всех этических систем. Перепуганные и
слезливые педагогические деятели прибавили к этому образу целый ассортимент
более или менее пышных перьев, надерганных из хвостов социологии,
рефлексологии и других богатых наших родственников. Глубоко веровали, что
беспризорные организованны, что у них есть вожаки и дисциплина, целая
стратегия воровского действия и правила внутреннего распорядка. Для
беспризорных не пожалели даже специальных учёных терминов: «самовозникающий
коллектив» и т.п. И без того красивый образ беспризорного в
дальнейшем был ещё более разукрашен благочестивыми трудами обывателей
(российских и заграничных). Все беспризорные — воры, пьяницы, развратники,
кокаинисты и сифилитики. Во всей всемирной истории только Петру 1 пришивали
столько смертных грехов. Между нами говоря, всё это сильно помогало
западноевропейским сплетникам слагать о нашей жизни самые глупые и
возмутительные анекдоты. А между тем… ничего подобного в жизни
нет. Надо решительно отбросить теорию о
постоянно существующем беспризорном обществе, наполняющем будто бы наши улицы
не только своими «страшными преступлениями» и живописными нарядами, но и
своей «идеологией». Составители романтических сплетен об уличном советском
анархисте не заметили, что после гражданской войны и голода миллионы детей
были с величайшим напряжением всей страны спасены в детских домах. В подавляющем
большинстве случаев все эти дети давно уже выросли и работают на советских
заводах и в советских учреждениях. Другой вопрос, насколько педагогически
безболезненно протекал процесс воспитания этих детей. В значительной мере по вине тех же самых
романтиков работа детских домов развивалась очень тяжело, сплошь и рядом
приводя к учреждениям типа Куряжа. Поэтому некоторые мальчики (речь идёт
только о мальчиках) очень часто уходили на улицу, но вовсе не для того, чтобы
жить на улице, и вовсе не потому, что считали уличную жизнь для себя самой
подходящей. Никакой специальной уличной идеологии у них не было, а уходили
они в надежде попасть в лучшую колонию или детский дом. Они обивали пороги
спонов и соцвосов, помдетов и комиссий, но больше всего любили такие места,
где была надежда приобщиться к нашему строительству, минуя благодать
педагогического воздействия. Последнее им не часто удавалось. Настойчивая и
самоуверенная педагогическая братия не так легко выпускала из своих рук
принадлежащие ей жертвы и вообще не представляла себе человеческую жизнь без
предварительной соцвосовской обработки. По этой причине большинство беглецов
принуждены были вторично начинать хождения по педагогическому процессу в
какой‑нибудь другой колонии, из которой, впрочем, тоже можно было
убежать. Между двумя колониями биография этих маленьких граждан протекала,
конечно, на улицах, и так как для занятий принципиальными и моральными
вопросами они не имели ни времени, ни навыков, ни письменных столов, то
естественно, что продовольственные, например, вопросы разрешались ими и
аморально, и апринципиально. И в других областях уличные обитатели не
настаивали на точном соответствии их поступков с формальными положениями
науки о нравственности; беспризорные вообще никогда не имели склонности к
формализму. Имея кое‑какое понятие о целесообразности, беспризорные в
глубине души полагали, что они идут по прямой дороге к карьере металлиста или
шофёра, что для этого нужно только две вещи: покрепче держаться на
поверхности земного шара, хотя бы для этого и приходилось хвататься за
дамские сумки и мужские портфели, и поближе пристроиться к какому‑нибудь
гаражу или механической мастерской. В нашей учёной литературе было несколько
попыток составить удовлетворительную систему классификации человеческих
характеров; при этом очень старались, чтобы и для беспризорных было там
отведено соответствующее антиморальное и дефективное место. Но из всех
классификаций я считаю самой правильной ту, которую составили для
практического употребления харьковские коммунары‑дзержинцы. По коммунарской рабочей гипотезе все
беспризорные делятся на три сорта. «Первый сорт» — это те, которые самым
деятельным образом участвуют в составлении собственных гороскопов, не
останавливаясь ни перед какими неприятностями; которые в погоне за идеалом
металлиста готовы приклеиться к любой части пассажирского вагона, которые
больше кого‑нибудь другого обладают вкусом к вихрям курьерских и скорых
поездов, будучи соблазняемы при этом отнюдь не вагонами‑ресторанами, и
не спальными принадлежностями, и не вежливостью проводников. Находятся люди,
пытающиеся очернить этих путешественников, утверждая, будто они носятся по
железным дорогам в расчёте на крымские благоухания или сочинские воды. Это
неправда. Их интересуют главным образом днепропетровские, донецкие и
запорожские гиганты, одесские и николаевские пароходы, харьковские и
московские предприятия. «Второй сорт» беспризорных, отличаясь
многими достоинствами, всё же не обладает полным букетом благородных
нравственных качеств, какими обладает «первый» Эти тоще ищут, но их взоры не
отворачиваются с презрением от текстильных фабрик и кожевенных заводов, они
готовы помириться даже на деревообделочной мастерской, хуже — они способны
заняться картонажным делом, наконец, они не стыдятся собирать лекарственные
растения. «Второй сорт» тоже ездит, но предпочитает
задний буфер трамвая, и ему неизвестно, какой прекрасный вокзал в Жмеринке и
какие строгости в Москве. Коммунары‑дзержинцы всегда
предпочитали привлекать в свою коммуну только граждан «первого сорта».
Поэтому они пополняли свои ряды, развивая агитацию в скорых поездах. «Второй
сорт» в представлении коммунаров гораздо слабее. Но в Куряже преобладал не «первый сорт» и
не «второй» даже, а «третий». В мире беспризорных, как и в мире учёных,
«первого сорта» очень мало, немного больше «второго», а подавляющее
большинство — «третий сорт»: подавляющее большинство никуда не бежит и ничего
не ищет, а простодушно подставляет нежные лепестки своих детских душ
организующему влиянию соцвоса. В Куряже я напоролся на основательную
жилу именно «третьего сорта». Эти дети в своих коротких историях тоже
насчитывают три‑четыре детских дома или колонии, а то и гораздо больше,
иногда даже до одиннадцати, но это уже результат не их стремлений к лучшему
будущему, а наробразовских стремлений к творчеству, стремлений, часто
настолько туманных, что и самое опытное ухо неспособно бывает различить, где
начинается или кончается реорганизация, уплотнение, разукрупнение,
пополнение, свёртывание, развёртывание, ликвидация, восстановление,
расширение, типизация, стандартизация, эвакуация и реэвакуация. А так как и я тоже прибыл в Куряж с
реорганизаторскими намерениями, то и встретить меня должно было то самое
безразличие, которое является единственной защитной позой каждого
беспризорного против педагогических пасьянсов наробраза. Тупое безразличие было продуктом
длительного воспитательного процесса и в известной мере доказывает великое
могущество педагогики. Большинство куряжан было в возрасте
тринадцати‑пятнадцати лет, но на их физиономиях уже успели крепко
отпечататься разнообразные атавизмы. Прежде всего бросалось в глаза полное
отсутствие у них чего бы то ни было социального, несмотря на то что с самого
рождения они росли под знаком «социального воспитания». Первобытная
растительная непосредственность ребёнка, прямодушно отзывающегося на все
явления жизни. Никакой жизни они не знали. Их горизонты ограничивались
списком пищевых продуктов, к которым они влеклись в сонном и угрюмом
рефлексе. До жратвенного котла нужно было дорваться через толпу таких же
зверёнышей — вот и вся задача. Иногда она решалась более благополучно, иногда
менее, маятник их личной жизни других колебаний не знал. Куряжане и крали в
порядке непосредственного действия только те предметы, которые действительно
плохо лежат или на которые набрасывалась вся их толпа. Воля этих детей давно
была подавлена насилием, тумаками и матюками старших, так называемых глотов,
богато расцветших на почве соцвосовского непротивления и «самодисциплины». В то же время эти дети вовсе не были идиотами,
в сущности — они были обыкновенными детьми, поставленными судьбой в
невероятно глупую обстановку: с одной стороны, они были лишены всех благ
человеческого развития, с другой стороны, их оторвали и от спасительных
условий простой борьбы за существование, подсунув им хотя и плохой, но всё же
ежедневный котёл. На фоне этой основной массы выделялись
некоторые группы иного порядка. В той спальне, где жил Ховрах, очевидно,
находился штаб «глотов». Наши рассказывали, что их насчитывалось человек
пятнадцать и что главную роль у них играл Коротков. Самого Короткова я ещё не
видел, да и вообще эти воспитанники большую часть времени проводили в городе.
Евгеньев, нынешний среди них старых приятелей, утверждал, что все они
обыкновенные городские воры, что колония нужна им только в качестве квартиры.
Витька Горьковский не соглашался с Евгеньевым: — Какие они там воры? Шпана!.. Витька рассказывал, что и Коротков, и
Ховрах, и Перец, и Чурило, и Поднебесный, и все остальные промышляют именно в
колонии. Сначала они обкрадывали квартиры воспитателей, мастерские и
кладовые. Кое‑что можно было украсть и у воспитанников: к Первому мая
многим воспитанникам были выданы новые ботинки; по словам Горьковского,
ботинки были главным предметом их деятельности. Кроме того, они промышляли на
селе, а кое‑кто даже на дороге. Колония стояла на небольшом ахтырском
шляху. Витька вдруг прищурился и рассмеялся: — А теперь знаете, что они изобрели,
гады? Пацаны их боятся, дрожат прямо, так что они делают: организаторы,
понимаете! У них эти пацаны называются «собачками». У каждого несколько
«собачек». Им и говорят это утром: иди куда хочешь, а вечером приноси. Кто
крадёт — то в поездах, а то и на базаре, а больше таких — куда там им
украсть, так больше просят. И на улицах стоят, и на мосту, и на Рыжове.
Говорят, в день рубля два‑три собирают. У Чурила самые лучшие «собачки»
— по пяти рублей приносят. И норма у них есть: четвёртая часть — «собачке», а
три четверти — хозяину. О, вы не смотрите, что у них в спальнях ничего нету.
У них и костюмы, и деньги, только всё попрятано. Тут на Подворках есть такие
дворы и каинов сколько угодно. Они там каждый вечер гуляют. Вторую группу составляли такие, как
Зайченко и Маликов. При ближайшем знакомстве с колонией оказалось, что их не
так мало, человек до тридцати. Каким‑то чудом им удалось пронести через
жизненные непогоды блестящие глаза, прелестную мальчишескую агрессивность и
свежие аналитические таланты, позволявшие им к каждому явлению относиться с
боевой привязчивостью. Я очень люблю этот отдел человечества, люблю за
красоту и благородство душевных движений, за глубокое чувство чести, даже за
то, что все они убеждённые холостяки и женоненавистники. С первыми шагами
моего передового сводного люди эти подняли носы, втянули в себя, отдуваясь,
свежий воздух, потом заметались по спальням, поставив хвосты трубой и приведя
в быстрое вращение указанные выше аналитические таланты. Они ещё боялись
открыто перейти на мою сторону, но поддержка их была всё равно обеспечена. На третью группу социальных элементов мы
наткнулись с Витькой нечаянно, и Витька остановился перед ней, как сеттер
перед зайцем, в оторопелом удивлении. В дальнем углу стоял, прислонившись к
древней стене, одинокий флигель с деревянной резной верандой. Ваня Зайченко,
показывая на это строение, сказал: — А там живут агрономы. — Кто это агрономы? Сколько же их? — А их четырнадцать человек. — Четырнадцать агрономов? Зачем так
много? — А они жито сеяли, а теперь там
живут… Я услышал запах Халабуды и ещё более
усомнился: — Это вы их так дразните? Но Ваня сделал серьёзное лицо и ещё
настойчивее мотнул головой по направлению к флигелю: — Нет, настоящие агрономы, вот
посмотрите! Они пахали и сеяли жито! И смотрите: выросло! Вот такое уже
выросло! Витька воззрился на Зайченко с
негодованием: — Это те… в синих рубашках? Они же
воспитанники у вас? Что же ты брешешь? — Да не брешу! — запищал
Ванька. — Не брешу! Они и аттестаты должны получить. Как только получат
аттестаты, так и поедут… — Ну, хорошо, пойдём к вашим
агрономам. Во флигеле были две спальни. На кроватях,
покрытых сравнительно свежими одеялами, сидели подростки, действительно в
синих сатиновых рубашках, чистенько причёсанные и как‑то по особенному
доброжелательные. На стенах были аккуратно разлеплены открытки, вырезки из
журналов и в деревянных рамах маленькие зеркальца. С подоконников свешивались
узорные края чистой бумаги. Серьёзные мальчики суховато ответили на
моё приветствие и не высказали никакого возмущения, когда Ваня Зайченко с
воодушевлением представил их нам: — Вот это всё агрономы, я ж говорил!
А это главный — Воскобойников! Витька Горьковский посмотрел на меня с
таким выражением, как будто нас приглашали познакомиться не с агрономами, а с
лешими или водяными, в бытие которых поверить Витька ни в каком случае не
мог. — Вот что, ребята, вы не обижайтесь,
только скажите, пожалуйста, почему вас называют агрономами? Воскобойников — высокий юноша, на лице
которого бледность боролась с важностью и обе одинаково не могли прикрыть
неподвижной, застывшей темноты, — поднялся с постели, с большим усилием засунул
руки в тесные карманы брюк и сказал: — Мы — агрономы. Скоро получим
аттестаты… — Кто вам даст аттестаты? — Как — кто даст? Заведующий. — Какой заведующий? — Бывший заведующий. Витька расхохотался: — Может быть, он и мне даст? — Нечего насмехаться, — сказал
Воскобойников, — ты ничего не понимаешь, так и не говори. Что ты
понимаешь? Витька рассердился: — Я понимаю, что вы здесь все олухи.
Говорите подробно, кто тут дурака валяет? — Может быть, ты и валяешь
дурака, — остроумно начал Воскобойников, но Витька больше не мог
выносить никакой чертовщины: — Брось, говорю тебе!.. Ну,
рассказывай! Мы уселись на кроватях. Пересиливая
важность и добродетель, сопротивляясь и оскорбляясь, пересыпая скупые слова
недоверчивыми и презрительными гримасами, агрономы раскрыли пред нами секреты
халабудовского жита и собственной головокружительной карьеры. Осенью в Куряже
работал какой‑то уполномоченный Халабуды, имевший от него специальное
поручение посеять жито. Он уговорил работать пятнадцать старших мальчиков и
расплатился с ними очень щедро: их поселили в отдельном флигеле, купили
кровати, бельё, одеяла, костюмы, пальто, заплатили по пятьдесят рублей
каждому и обязались по окончании работы выдать дипломы агрономов. Поскольку
всё договорённое, кровати и прочее, оказалось реальностью, у мальчиков не
было оснований сомневаться и в реальности дипломов, тем более что все они
были малограмотны и никто из них выше второй группы трудовой школы не бывал.
Выдача дипломов затянулась до весны. Это обстоятельство, однако, не очень беспокоило
мальчиков, хотя халабудовский уполномоченный и растворился в эфире
помдетовских комбинатов, но его обязательства благородно принял на себя
заведующий колонией. Уезжая вчера, он подтвердил, что дипломы уже готовы,
только нужно их привезти в Куряж и торжественно выдать агрономам. Я сказал мальчикам: — Ребята, вас просто надули! Чтобы
быть агрономом, нужно много учиться, несколько лет учиться, есть такие
институты и техникумы, а чтобы поступить туда, тоже нужно учиться в
обыкновенной школе несколько лет. А вы… Сколько семью восемь? Черненький смазливый юноша, к которому я
в упор обратился с вопросом, неуверенно ответил: — Сорок восемь. Ваня Зайченко охнул и вытаращил искренние
глазёнки: — Ой‑ой‑ой, агрономы!
Сорок восемь! Вот покупка, так покупка! Скажите, пожалуйста! — А ты чего лезешь? Тебе какое
дело? — закричал на Ваньку Воскобойников. — Так пятьдесят шесть! — Ванька
даже побледнел от страстной убедительности. — Пятьдесят шесть! — Так как же? — спросил
широкоплечий, угловатый парень, которого все называли Сватко. — Нам
обещали, что дадут место в совхозе, а теперь как? — А это можно, — ответил
я. — Работать в совхозе хорошее дело, только вы будете не агрономами, а
рабочими. Агрономы запрыгали на кроватях в горячем
возмущении. Сватко побледнел от злости: — Вы думаете, мы правды не найдём?
Мы понимаем, всё понимаем! Нас и заведующий предупреждал, да! Вам сейчас
нужно пахать, а никто не хочет, так, значит, вы крутите! И товарища Халабуду
подговорили! По‑вашему не будет, не будет! Воскобойников снова засунул руки в
карманы и снова вытянул до потолка своё длинное тело. — Чего вы пришли сюда обдуривать?
Нам знающие люди говорили. Мы сколько посеяли и занимались. А вам нужно
эксплуатировать? Довольно! — Вот дурачьё, — спокойно
произнёс Витька. — Вот я ему двину в морду!..
Горьковцы!.. Приехали сюда чужими руками жар загребать? Я поднялся с кровати. Агрономы направили
на нас сердитые тупые лица. Я постарался как можно спокойнее попрощаться с
ними: — Дело ваше, ребята. Хотите быть
агрономами — пожалуйста… Ваша работа нам сейчас не нужна, обойдёмся без вас. Мы направились к выходу. Витька всё-таки
не утерпел и уже на пороге настойчиво заявил: — А всё-таки вы идиоты. Заявление это вызвало такое недовольство
у агрономов, что Витьке пришлось с крыльца взять третью скорость. В пионерской комнате Жорка Волков
производил смотр куряжан, выделенных разными правдами и неправдами в
командиры. Я и раньше говорил Жорке, что из этого ничего не выйдет, что такие
командиры нам не нужны. Но Жорка захотел увериться в этом на опыте. Выделенные кандидаты сидели на лавках, и
их босые ноги, как у мух, то и дело прочесывали одна другую. Жорка сейчас
похож на тигра: глаза у него острые и искрящиеся. Кандидаты держат себя так,
как будто их притащили сюда играть в новую игру, но правила игра запутаны,
старые игры вообще лучше. Они стараются деликатно улыбаться в ответ на
страстные объяснения Жорки, но эффект этот Жорку мало радует: — Ну, чего ты смеешься? Чего ты
смеешься? Ты понимаешь? Довольно жить паразитом! Ты знаешь, что такое
советская власть? Лица кандидатов суровеют, и стыдливо
жеманятся разыгравшихся в улыбке щеки. — Я же вам объясняю: раз ты
командир, твой приказ должен быть выполнен. — А если он не захочет? — снова
прорывается улыбкой лобастый блондин, видимо лодырь и губошлеп, — фамилия
его Петрушко. Среди приглашённых сидит и Спиридон
Ховрах. Недавняя беседа его с Белухиным и Карабановым, кажется, привела его в
умиление, но сейчас он разочарован: от него требуют невыгодных и неприятных
осложнений с товарищами. В этот вечер, после страстных речей Жорки
и улыбчивого равнодушия куряжан, мы всё же составили совет командиров,
переписали всех обитателей колонии и даже сделали наряд на работы завтрашнего
дня. В это время Волохов и Кудлатый налаживали инвентарь к завтрашнему выезду
в поле. И совет командиров, и инвентарь имели очень дрянной вид, и мы
улеглись спать в настроении усталости и неудачи. Хотя Боровой с помощником
приступили к работе и вокруг ярко‑черных навалов земли уже блестели
свежие щепки, общая задача в Куряже всё равно представлялась неразборчивой и
лишённой того спасительного хвостика, за который необходимо дёрнуть для
начала. На другой день рано утром рабфаковцы
уехали в Харьков. Как было условленно в совете командиров, в шесть часов
позвонили побудку. Несмотря на то что у соборной стены висел уже новый
колокол с хорошим голосом, пробудка не произвела на куряжан никакого
впечатления. Дежурный по колонии Иван Денисович Киргизов в свеженькой красной
повязке заглянул в некоторые спальни, но вынес оттуда только испорченное настроение.
Колония спала; лишь у конюшни возился наш передовой сводный, собираясь в
поле. Через двадцать минут он выступил в составе трёх парных запряжек плугов
и борон. Кудлатый уселся на линейку и поехал в город доставать Семённую
картошку. Ему навстречу тащились из города отсыревшие бледные фигуры. В моём
распоряжении не осталось сил, чтобы остановить их и обыскать, поговорить об
обстоятельствах минувшей ночи. Они беспрепятственно пролезли в спальни, и
число спящих, таким образом, даже увеличилось. По составленным вчера нарядам, единодушно
утверждённым советом командиров, все силы куряжан предполагалось бросить на
уборку спален и двора, на расчистку площадки под парники, на вскопку огромных
участков вокруг монастырской стены и на разборку самой стены. В моменты
оптимистических просветов я начинал ощущать в себе новое приятное чувство
силы. Четыреста колонистов! Воображаю, как обрадовался бы Архимед, если бы
ему предложили четыреста колонистов. Очень возможно, что он отказался бы даже
от точки опоры в своей затее перевернуть мир. Да и двести восемьдесят куряжан
были для меня непривычным сгустком энергии после ста двадцати горьковцев. Но этот сгусток энергии валяется в
грязных постелях и даже не спешит завтракать. У нас уже имелись тарелки и
ложки, и всё это в сравнительном порядке было разложено на столах в
трапезной, но целый час тарабанил в колокол Шелапутин, пока в столовой
показались первые фигуры. Завтрак тянулся до десяти часов. В столовой я
произнёс несколько речей, в десятый раз повторил, кто в каком отряде, кто в
отряде командир, и какая для отряда назначена работа. Воспитанники
выслушивали мои речи, не подымая головы от тарелки. Эти черти даже не учли
того обстоятельства, что для них приготовлен был очень жирный и вкусный суп,
и на хлеб положены кубики масла. Они равнодушно сожрали суп и масло,
позапихивали в карманы куски хлеба и вылезли из столовой, облизывая грязные
пальцы и игнорируя мои взгляды, полные архимедовской надежды. Никто не подошёл к Мише Овчаренко,
который возле самой соборной паперти разложил на ступенях новые, вчера
купленные лопаты, грабли, метлы. В руках Миши новенький блокнот, тоже вчера
купленный. В этом блокноте Миша должен был записывать, какому отряду сколько
выдано инструментов. Миша имел вид очень глупый рядом со своей ярмаркой, ибо
к нему не подошёл ни один человек. Даже Ваня Зайченко, командир десятого
отряда куряжан, составленного из его приятелей, на которого я особенно
надеялся, не пришёл за инструментами, и за завтраком я его не заметил. Из
новых командиров в столовой подошёл ко мне Ховрах, стоял со мной рядом и
развязно рассматривал проходящую мимо нас толпу. Его отряд — четвёртый —
должен был приступить к разломке монастырской стены: для него у Миши
заготовлены были ломы. Но Ховрах даже не вспомнил о порученной ему работе. По‑прежнему
развязно он заговорил со мной о предметах, никакого отношения к монастырской
стене не имеющих: — Скажите, правда, что в колонии
имени Горького девчата хорошие? Я отвернулся от него и направился к
выходу, но он пошёл со мной рядом и, заглядывая мне в лицо, продолжал: — И ещё говорят, что воспитательки у
вас есть… Такие… хлеб с маслом. Га‑га, интересно будет, когда сюда
приедут! У нас здесь тоже были бабенки подходящие… только знаете что? Галаза
моего, ну и боялись! Я как гляну на них, так аж краснеют! А отчего это так,
скажите мне, отчего это у меня глаз такой опасный, скажите? — Почему твой отряд не вышел на
работу? — А чёрт его знает, мне какое дело!
Я и сам не вышел… — Почему? — Не хочется, га‑га‑га!.. Он прищурился на соборный крест: — А у нас тут, на Подворках, тоже
есть бабенки забористые… га‑га… если желаете, могу познакомить… Мой гнев ещё со вчерашнего дня был
придавлен мёртвой хваткой сильнейших тормозов. Поэтому внутри меня что‑то
нарастало круто и настойчиво, но на поверхности моей души я слышал только
приглушённый скрип, да нагревались клапаны сердца. В голове кто‑то
скомандовал «смирно», и чувства, мысли и даже мыслишки поспешили выпрямить
пошатнувшиеся ряды. Тот же «кто‑то» сурово приказал: — «Отставить Ховраха! Спешно нужно
выяснить, почему отряд Вани Зайченко не вышел на работу и почему Ваня не
завтракал?» И поэтому и по другим причинам я сказал
Ховраху: — Убирайся от меня к чёртовой
матери!.. Г…о! Ховрах очень был поражён моим обращением
и быстро ушёл. Я поспешил к спальне Зайченко. Ванька лежал на голом матраце, и вокруг
матраца сидела вся его компания. Ваня положил руку под голову, и его бледная
худая ручонка на фоне грязной подушки казалась чистой. — Что случилось? — спросил я. Компания молча пропустила меня к кровати.
Одарюк через силу улыбнулся и сказал еле слышно: — Побили. — Кто побил? Неожиданно звонко Ваня сказал с подушки: — Кто‑то, понимаете, побил! Вы
можете себе представить? Пришли ночью, накрыли одеялом и… здорово побили! В
груди болит! Звонкий голос Вани Зайченко сильно противоречил
его похудевшему синеватому личику. Я знал, что среди куряжских флигелей один
называется больничкой. Там среди пустых грязных комнат была одна, в которой
жила старушка фельдшерица. Я послал за нею Маликова. В дверях Маликов
столкнулся с Шелапутиным: — Антон Семёнович, там на машине
приехали, вас ищут! У большого чёрного фиата стояли Брегель,
товарищ Зоя и Клямер. Брегель величественно улыбнулась: — Приняли? — Принял. — Как дела? — Всё хорошо. — Совсем хорошо? — Жить можно. Товарищ Зоя недоверчиво на меня
посматривала. Клямер оглядывался во все стороны. Вероятно, он хотел увидеть
моих сторублёвых воспитателей. Мимо нас спотыкающимся старческим аллюром
спешила к Ване Зайченко фельдшерица. От конюшни доносились негодующие речи
Волохова: — Сволочи, людей перепортили и
лошадей перепортили! Ни одна пара не работает, поноровили коней, гады, не
кони, а проститутки! Товарищ Зоя покраснела, подпрыгнула и
завертела большой нескладной головой: — Вот это соцвос, я понимаю! Я расхохотался: — Как не находит? — язвительно
улыбнулся Клямер. — Кажется, именно находит? — Ну да, сначала не находил, а потом
уже нашёл. Брегель что‑то хотела сказать,
пристально глянула мне в глаза и ничего не сказала. |
|
||||
|
|
5. Идиллия
На другой день я отправил Ковалю такую
телеграмму: «Колония Горького Ковалю ускорь отъезд
колонии воспитательскому персоналу прибыть Куряж первым поездом полном
составе». На следующий день к вечеру я получил
такой ответ: «Вагонами задержка воспитатели выезжают
сегодня». Единственная в Куряже линейка в два часа
дня доставила с рыжовской станции Екатерину Григорьевну, Лидию Петровну,
Буцая, Журбина и Горовича. Из бесчисленных педагогических бастионов мы
выбрали для них комнаты, наладили кое‑какие кровати, матрацы пришлось
купить в городе. Встреча была радостная. Шелапутин и
Тоська, несмотря на свои пятнадцать лет, обнимались и целовались, как
девчонки, пищали и вешались на шеи, задирая ноги. Горьковцы приехали
жизнерадостные и свежие, и на их лицах я прочитал рапорт о состоянии дел в
колонии. Екатерина Григорьевна подтвердила коротко: — Там всё готово. Всё сложено. Нужно
только вагоны. — Как хлопцы? — Хлопцы сидят на ящиках и дрожат от
нетерпения. Я думаю, что хлопцы наши большие счастливцы. И кажется, мы все
счастливые люди. А вы? — Я тоже переполнен счастьем, —
ответил я сдержанно, — но в Куряже больше, кажется, нет счастливцев… — А что случилось? —
взволнованно спросила Лидочка. — Да ничего страшного, — сказал
Волохов презрительно, — только у нас сил мало. И не мало, так в поле ж
работа. Мы теперь и первый сводный, и второй сводный, и какой хотите. — А здешние? Ребята засмеялись: — Вот увидите… Пётр Иванович Горович крепко сжал
красивые губы, пригляделся к хлопцам, к тёмным окнам, ко мне: — Надо скорее ребят? — Да, как можно скорее, —
сказал я, — надо, чтобы колония спешила как на пожар. А то сорвёмся. Пётр Иванович крякнул: — Нехорошо выходит… нужно поехать в
колонию, хотя бы нам и трудно пришлось в Куряже. За вагоны просят очень
дорого, не дают никакой скидки, да и вообще волынят. Вам необходимо на один
день… Коваль уже перессорился на железной дороге. Мы задумались. Волохов пошевелил плечами
и тоже крякнул, как старик: — Та ничего… Поезжайте скорише, как‑нибудь
обойдёмся… и всё равно, хуже не будет. А только наши пускай там не барятся
(не задерживаются). Иван Денисович, сидя на подоконнике,
ухмылялся спокойно и рассматривал часовые стрелки: — А через два часа и поезд. А какое
ваше завещание будет? — моё завещание? Чёрт, какие тут
завещания! Силы, конечно, никакой применять нельзя. Вас теперь шестеро. Если
сможете повернуть на нашу сторону два‑три отряда, будет прекрасно.
Только старайтесь перетягивать не одиночками, а отрядами. — Агитация, значит? — спросил
Горович грустно. — Агитация, только как‑нибудь
не очень прозрачно. Больше рассказывайте о колонии, о разных случаях, о
строительстве. Да чего мне учить вас! Глаза раскрыть, конечно, не сможете так
скоро, но понюхать что‑нибудь дайте. В моей голове варилась самая
возмутительная каша. Прыгали, корчились, ползали, даже в обморок падали
разные мысли и образы, а если какая‑нибудь и из них и кричала иногда
весёлым голосом, я начинал серьёзно подозревать, что она в нетрезвом виде. Есть педагогическая механика, физика,
химия, даже педагогическая геометрия, даже педагогическая метафизика.
Спрашивается: для чего я оставлял здесь, в Куряже, в тёмную ночь этих
шестерых подвижников? Я разглагольствовал с ними об агитации, а на самом деле
рассчитывал: вот в обществе куряжан завтра появтся шестеро культурных,
серьёзных, хороших людей. Честное слово, это была ставка на ложку мёда в
бочке дёгтя… впрочем, дёгтя ли? Жалкая, конечно, химия. И химическая реакция
могла наметиться жалкая, дохлая, бесконечная. Если уж нужна здесь химия, то другая:
динамит, нитроглицерин, вообще неожиданный, страшный, убедительный взрыв,
чтобы стрелой прыгнули в небеса и стены собора, и «клифты», и детские души, и
«глоты», и агрономические дипломы. Между нами говоря, я готов был и себя
самого и свой передовой сводный заложить в какую‑нибудь хорошую бочку —
взрывной силы у нас, честное слово, было довольно. Я вспомнил тысяча
девятьсот двадцатый год. Да, тогда начинали сильнее, тогда были взрывы и меня
самого носило между тучами, как гоголевского Вакулу, и ничего я тогда не
боялся. А теперь торчали в голове всякие бантики, которыми будто бы
необходимо украшать святейшую ханжу — педагогику. «Будьте добры, grand maman,
разрешите один раз садануть в воздух». — «Пожалуйста, — говорит
она, — саданите, только чтобы мальчики не обижались». Какие уж там взрывы! — Волохов, запрягай, еду. Через час я стоял у открытого окна вагона
и смотрел на звёзды. Поезд был четвёртого сорта, сесть было негде. Не удрал ли я с позором из Куряжа, не
испугался ли собственных запасов динамита? Надо было себя успокоить. Динамит
— вещь опасная, и зачем с ним носиться, когда есть на свете мои замечательные
горьковцы? Через четыре часа я оставлю душный, грязный чужой вагон и буду в
их изысканном обществе. В колонию я приехал на извозчике, когда
солнце давно уже сожалело, что у него нет радиатора. Колонисты сбежались ко
мне со всех сторон. Это колонисты или эманация радия? Даже Галатенко, раньше
категорически отрицавший бег как способ передвижения, теперь выглянул из
дверей кузницы и вдруг затопал по дорожке, потрясая землю и напоминая одного
из боевых слонов царя Дария Гистаспа. В общий гам приветствий, удивлений и
нетерпеливых вопросов и он внёс свою долю: — Как там оно, помогает чи не
помогает, Антон Семёнович? Откуда у тебя, Галатенко, такая
мужественная, открытая улыбка, где ты достал тот хорошенький мускул, который
так грациозно морщит твоё нижнее веко, чем ты смазал глаза — брильянтином,
китайским лаком или ключевой чистой водой? И хоть медленно ещё поворачивается
твой тяжёлый язык, но ведь он выражает эмоцию. Чёрт возьми, эмоцию! — Почему вы такие нарядные, что у
вас, бал? — спросил я хлопцев. — Ого! — ответил Лапоть. —
Настоящий бал! Сегодня мы первый день не работаем, а вечером — «Блоха» —
последний спектакль, и будем с граками прощаться… Нет, вы скажите, как там
дела? В новых трусиках и в новых бархатных
тюбетейках, специально изготовленных, чтобы поразить куряжан, колонисты пахли
праздником. По колонии метались шестые сводные, подготавливая спектакль. В
спальнях, в школе, в мастерских, в клубных помещениях по углам стояли забитые
ящики, завёрнутые в рогожи вещи, лежали стопки матрацев и груды узлов. Везде
было подметено и помыто, как и полагается для праздника. В моей квартире
царил одиннадцатый отряд во главе с Шуркой Жевелием. Бабушка тоже сидела на
чемоданах: только кровать‑раскладушку пацаны великодушно оставили ей, и
Шурка гордился этим великодушием: — Бабушке нельзя так, как нам. Вы
видели? Хлопцы сейчас все на току спят, — сено… даже лучше, чем на
кроватях. А девчата — на возах. Так вы смотрите: Нестеренко этот вчера только
хозяином стал, сегодня уже заедается — жалко ему сена. Смотрите, мы ему дали
целую колонию, а он за сеном жалеет. А мы бабушку разве плохо упаковали, а?
Как вы скажете, бабушка? Бабушка покорно улыбается пацанам, но у
неё есть пункты расхождения с ними: — Упаковали хорошо, а где ваш завкол
спать будет? — Есть, — кричит Шурка. —
В нашем отряде, в одиннадцатом, самое лучшее сено, пырей. Даже Эдуард
Николаевич ругался, говорит: такое сено, разве можно спать? А мы спали, а
после того Молодцу давали — лопает хиба ж так! Мы уложим, вы не беспокойтесь! Значительная часть колонистов
расположилась в квартирах воспитателей, изображая из себя целые опекунско‑упаковочные
организации. В комнате Лидочки штаб Коваля и Лаптя. Коваль, жёлтый от злости
и утомления, сидит на подоконнике, размахивает кулаком и ругает
железнодорожников: — Чиновники, бюрократы! Акакии! Им
говорю: дети, так не верят. Что, говорю, тебе метрики представить? Так наши
сроду метрик не видели. Ну, что ты ему скажешь, когда он, чтоб ему, ничего не
понимает? Говорит: при одном взрослом полагается один ребёнок, бесплатно, а
если только ребёнки… Я ему, проклятому, толкую: какие ребёнки, какие ребёнки,
чёрт тебя нянчил, — трудовая колония, и потом: вагоны ж товарные… Как
пень! Щелкает, щелкает: погрузка, простой, аренда… Накопал каких‑то
правил: если кони да если домашняя мебель — такая плата, а если посевкомпания
— другая. Какая, говорю, домашняя мебель? Что это тебе, мещане какие‑нибудь
перебираются, какая домашняя мебель?.. Такие нахальные, понимаешь, чинуши, до
того нахальные! Сидят себе, дрянь, волынит: мы не знаем никаких мещан‑крестьян,
мы знаем пассажиров или грузоотправителей. Я ему — классовый разрез, а он мне
прямо в глаза: раз есть сборник тарифов, классовой разрез не имеет значения. Лапоть пропускает мимо ушей и трагическое
повествование Коваля о железнодорожниках, и грустные мои рассказы о Куряже и
всё сворачивает на весёлые местные темы, как будто нет никакого Куряжа, как
будто ему не придётся через несколько дней возглавлять совет командиров этой
запущенной страны. Меня начинает печалить его легкомыслие, но и моя печаль
разбивается вдребезги его искрящей выдумкой. Я вместе со всеми хохочу и тоже
забываю о Куряже. Сейчас, на свободе от текущих забот, вырос и расцвёл
оригинальный талант Лаптя. Он замечательный коллекционер; возле него всегда
вертятся, в него влюблены, ему верят и поклоняются дураки, чудаки, чудаки,
одержимые, психические и из‑за угла мешком прибытие. Лапоть умеет
сортировать их, раскладывать по коробочкам, лелеять и перебирать на ладони. В
руках они играют тончайшими оттенками красоты и кажутся интереснейшими
экземплярами человеческой природы. Бледному, молчаливо‑растерянному
Густоивану он говорит прочувствованно: — Да… там церковь посреди двора.
Зачем нам нужен чужой дьякон? Ты будешь дьяконом. Густоиван шевелит нежно‑розовыми
губами. Ещё до колонии кто‑то подсыпал в его жидкую душу лошадиную
порцию опиума, и с тех пор он никак не может откашляться. Он молится по
вечерам в тёмных углах спален, и шутки колонистов принимает как сладкие
страдания. Колёсник Козырь не так доверчив: — Зачем вы так говорите, товарищ
Лапоть, господи прости? Как может Густоиван быть дьяконом, если на него
духовной благодати не возлил господь? Лапоть задирает мягкий веснушчатый нос: — Подумаешь, важность какая —
благодать! Наденем на него эту самую хламиду, ого! Такой дьякон будет! — Благодать нужна, — музыкально‑нежным
тенором убеждает Козырь. — Владыка должен руки возложить. Лапоть присаживается на корточки перед
Козырем и пристально моргает на него голыми припухшими веками: — Ты пойми, дед: владыка — значит
«владеет», власть, значит… Так? — Владыка имеет власть… — А совет командиров, как ты
думаешь? Если совет командиров руки возложит, это я понимаю! — Совет командиров, голубчик мой, не
может, нет у него благодати, — склоняет голову на плечо умиленный
разговором Козырь. Но Лапоть укладывает руки на колени
Козыря и задушевно‑благостно уверяет его: — Может, Козырь, может! Совет
командиров может такую благодать выпустить, что твой владыка будет только
мекать! Старый добрый Козырь внимательно слушает
влезающий в душу говорок Лаптя и очень близок к уступке. Что ему дали владыка
и все святые угодники? Ничего не дали. А совет командиров возлил на Козыря
реальную, хорошую благодать: он защитил его от жены, дал светлую, чистую
комнату, в комнате кровать, ноги Козыря обул в крепкие, ладные сапоги, сшитые
первым отрядом Гуда. Может быть, в раю, когда умрёт старый Козырь, есть ещё
надежда получить какую‑нибудь компенсацию от господа бога, но в земной
жизни Козыря совет командиров абсолютно незаменим. — Лапоть, ты тут? — заглядывает
в окно угрюмая рожа Галатенко. — Ага. А что такое? —
отрывается Лапоть от благодатной темы. Галатенко не спеша пристраивается к
подоконнику и показывает Лаптю полную чашу гнева, от которого подымается
медленный клубящийся пар человеческого страдания. Большие серые глаза
Галатенко блестят тяжёлой, густой слезой. — Ты скажи ему, Лапоть, ты скажи… а
то я могу ему морду набить… — Кому? — Таранцю. Галатенко узнает меня в комнате и
улыбается, вытирая слёзы. — Что случилось, Галатенко? — Разве он имеет право? Он думает,
как он командир четвёртого, что ж с того? Ему сказали — зробыть станок для
Молодця, а он говорит: и для Молодця зробыть, и для Галатенко. — Кому говорит? — Да столярам своим, хлопцям. — Ну? — То ж станок для Молодця, чтоб из
вагона не выскочил, а они поймали меня и мерку снимают, а Таранец каже: для
Молодця с левой стороны, а для Галатенко — с правой. — Что это? — Та станок же. Лапоть задумчиво чешет за ухом, а
Галатенко терпеливо‑пристально ждёт, какое решение вынесет Лапоть. — Да неужели ты выскочишь из вагона?
Не может быть! Галатенко за окном что‑то
выделывает ногами и сам на свои ноги оглядывается: — Та чего ж я выскочу? Куда ж я буду
выскакуваты? А он говорит: сделайте крепкий станок, а то он вагон разнесёт. — Кто? — Та я ж… — А ты не разнесёшь? — Та хиба я буду… там… в самом деле… — Таранец тебя очень сильным
считает. Ты не обижайся. — Что я сильный, так это другое
дело… А станок тут не при чем. Лапоть прыгает через окно и деловито
спешит к столярной, за ним бредёт Галатенко. В коллекции Лаптя и Аркадий Ужиков.
Лапоть считает Аркадия чрезвычайно редким экземпляром и рассказывает о нём с
искренним жаром: — Такого, как Аркадий, за всю жизнь
разве одного можно увидеть. Он от меня дальше десяти шагов не отходит, боится
хлопцев. И спит рядом и обедает. — Любит тебя? — Ого! А только у меня были деньги,
на верёвки дал Коваль, так спёр… Лапоть вдруг громко хохочет и спрашивает
сидящего на ящике Аркадия: — Расскажи, чудак, где ты их прятал? Аркадий отвечает безжизненно‑равнодушно,
не меняя позы, не смущаясь: — Спрятал в твоих старых штанах. — А дальше что было? — А потом ты нашёл. — Не нашёл, дружок, а поймал на
месте преступления. Так? — Поймал. Испачканные глаза Аркадия не отрываются
от лица Лаптя, но это не человеческие глаза, это плохого сорта мёртвые,
стеклянные приспособления. — Он и у вас может украсть, Антон
Семёнович. Честное слово, может! Можешь? Ужиков молчит. — Может! — с увлечением говорит
Лапоть, и Ужиков так же равнодушно следит за его выразительным жестом. Ходит за Лаптем и Ниценко. У него тонкая,
длинная шея с кадыком и маленькая голова, сидящая на плечах с глупой
гордостью верблюда. Лапоть о нём говорит: — Из этого дурака можно всяких вещей
наделать: оглобли, ложки, корыта, лопаты. А он воображает, что он уркаган! Я доволен, что вся эта компания тянется к
Лаптю. Благодаря этому мне легче выделить её из общего строя горьковцев.
Неутомимые сентенции Лаптя поливают эту группу как будто дезинфекцией, и от
этого у меня усиливается впечатление дельного порядка и собранности колонии.
А это впечатление сейчас у меня яркое, и почему‑то оно кажется ещё и
новым. Все колонисты спросили меня, как дела в
Куряже, но в то же время я вижу, что на самом деле спрашивали они только из
вежливости, как обычно спрашивают при встрече: «Как поживаете?» Живой интерес
к Куряжу в каких‑то дальних закоулках нашего коллектива присох и
затерялся. Доминируют иные живые темы и переживания: вагоны, станки для
Молодца и Галатенко, брошенные на заботу колонистов полные вещей
воспитательские квартиры, ночевки на сене, «Блоха», скаредность Нестеренко,
узлы, ящики, подводы, новые бархатные тюбетейки, грустные личики Марусь,
Наталок и Татьян с Гончаровки, — свеженькие побеги любви, приговоренные
к консервации. На поверхности коллектива ходят анекдоты и шутки, переливается
смех и потрескивает дружеское нехитрое зубоскальство. Вот так же точно по
зрелому пшеничному полю ходят волны, и издали оно кажется легкомысленным и
игривым. А на самом деле в каждом колосе спокойно грезят силы, колос мирно
пошатывается под ласковым ветром, ни одна лёгкая пылинка с него не упадет, и
нет в нём никакой тревоги. И как не нужно колосу заботиться о молотьбе, так
не нужно колонистам беспокоиться о Куряже. И молотьба придёт в своё время, и
в Куряже в своё время будет работа. По тёплым дорожкам колонии с замедленной
грацией ступают босые ноги колонистов, и стянутые узким поясом талии чуть‑чуть
колеблются в покое. Глаза их улыбаются мне спокойно, и губы еле вздрагивают в
приветном салюте друга. В парке, в саду, на грустных, покидаемых скамейках,
на травке, над рекой расположились группки; бывалые пацаны рассказывают о
прошлом: о матери, о тачанках, о степных и лесных отрядах. Над ними притихшие
кроны деревьев, полёты пчел, запахи «снежных королев» и белой акации. В неловком смущении я начинаю различать
идиллию. В голову лезут иронические образы пастушков, зефиров, любви. Но,
честное слово, жизнь способна шутить, и шутит иногда нахально. Под кустом
сирени сидит курносый сморщенный пацан, именуемый «Мопсик», и наигрывает на
сопилке. Не сопилка это, а свирель, конечно, а может быть, флейта, а у
Мопсика ехидная мордочка маленького фавна. А на берегу луга девчата плетут
венки, и Наташа Петренко в васильковом венчике трогает меня до слёз сказочной
прелестью. А из‑за пушистой стеночки бузины выходит на дорожку Пан,
улыбается вздрагивающим седым усом и щурит светло‑синие глубокие очи: — А я тебя шукав, шукав! Говорили,
ты будто в город ездив. Ну что, уговорив этих паразитов? Дитлахам ехать
нужно, придумали, адиоты, знущаться… — Слушай, Калина Иванович, —
говорю я, — пока здесь хлопцы, лучше будет тебе переехать в город к
сыну. А то уедем, тебе будет труднее это сделать. Калина Иванович роется в широких карманах
пиджака, ищет трубку: — Первым я сюда приехал, последним
уеду. Граки меня сюда привезли, граки и вывезут, паразиты. Я уже и
договорился с этим самым Мусием. А перевозить меня пустяковое дело. Ты читав,
наверное, в книжках, сколько мир стоит? Так сколько за это время таких старых
дураков перевозили и ни одного не потеряли. Перевезут, хэ‑хэ… Мы идём с Калиной Ивановичем по аллейке.
Он пыхает трубкой и щурится на верхушки кустов, на блестящую заводь Коломака,
на девушек в венках и на Мопсика с сопилкой. — Када б брехать умев, как некоторые
паразиты, сказав бы: приеду, посмотрю на Куряж. А так прямо скажу: не приеду.
Понимаешь ты, погано человек сделан, нежная тварь, не столько той работы,
сколько беспокойства. Чи робыв, чи не робыв, а смотришь: теорехтически
человек, а прахтически только на клей годится. Когда люди поумнеют, они из
стариков клей варить будут. Хороший клей может выйти… После бессонной ночи и разъездов по
городу у меня какое‑то хрустальное состояние: мир потихоньку звенит и
поблёскивает кругами. Калина Иванович вспоминает разные случаи, а я способен
ощущать только его сегодняшнюю старость и обижаться на неё. — Ты хорошую жизнь прожил, Калина… — Я тебе так скажу, —
остановился, выбивая трубку, Калина Иванович. — Я ж тебе не какой‑нибудь
адиот и понимаю, в чём дело. Жизнь — она плохо была стяпана, если так
посмотреть: нажрався, сходив до ветру, выспався, опять же за хлеб чи за мясо… — Постой, а работа? — Кому же та работа была нужная? Ты
ж понимаешь, какая механика: кому работа нужная, так той же не робыв,
паразит, а кому она вовсе не нужная, так те робылы и робылы, як чорни волы. Помолчали. — Жалко, мало пожив при
большевиках, — продолжал Калина Иванович. — Они, чорты, всё по‑своему,
и грубияны, конечно, я не люблю, если человек грубиян. А только при них жизнь
не такая стала. Он тебе говорит, хэ‑хэ… чи ты поив, а може, не поив, а
може, тебе куда нужно, всё равно, а ты свою работу сделай. Ты видав такое?
Стала работа всем нужная. Бывает такой адиот вроде меня и не понимаент
ничего, а робыть и обидать забувае, разве жинка нагонит. А ты разве не
помнишь? Я до тебя прийшов раз и говорю: ты обидав? А уже вечер. А ты, хэ‑хэ,
стал тай думаешь, чи обедав, чи нет? Кажись, обидав, а может, то вчера было.
Забув, хэ‑хэ. Ты видав такое? Мы до наступления темноты ходили с
Калиной Ивановичем в парке. Когда на западе выключили даже дежурное
освещение, прибежал Костя Шаровский и, похлопывая себя по босым ногам
противокомариной веточкой, возмущался: — Там уже гримируются, а вы всё
гуляете да гуляете! И хлопцы говорят, чтобы туда шли. Ой, и царь же смешной
выходит! Лапоть царя играет: нос такой!.. В театре собрались все наши друзья из
деревни и хуторов. Коммуна имени Луначарского пришла в полном составе.
Нестеренко сидел за закрытым занавесом на троне и отбивался от пацанов,
обвинявших его в скаредности, неблагодарности и чёрствости. Оля Воронова
намазывала перед зеркалом обличье царской дочери и беспокоилась: — Они там моего Нестеренко замучат… «Блоха» ставилась у нас не первый раз, но
сейчас спектакль готовился с большим напряжением, так как главные
гриммировщики, Буцай и Горович, были в Куряже. Поэтому гримы получались
чересчур яркие. Это никого не смущало: спектакль был только предлогом для
прощальных приветствий. Во многих пунктах прощальный ритуал не нуждается ни в
каком оформлении. Пироговские и гончаровские девчата возвращались в
доисторическую эпоху, ибо в их представлении история начиналась со времени
прихода на Коломак неотразимых горьковцев. По углам мельничного сарая, возле
печек, потухших ещё в марте, в притенённых проходах за сценой, на случайных
скамьях, обрубках, на разных театральных условностях сидели девушки, и их платки
с цветочками сползали на плечи, открывая грустные склонённые русые головы.
Никакие слова, никакие звуки небес, никакие вздохи не в состоянии уже были
наполнить радостью девичьи сердца. Нежные, печальные пальчики перебирали на
коленях бахрому платков, и это тоже было ненужным, запоздавшим проявлением
грации. Рядом с девушками стояли колонисты и делали вид, что у них душа
отравлена страданием. Из артистистической уборной выглядывал иногда Лапоть,
иронически морщил нос над трупиком амура и говорил нежным, полным муки
голосом: — Петя, голубчик!.. Маруся и без
тебя помолчит, а ты иди, готовься. Забыл, что ты коня играешь? Петя мошеннически заменяет нахальный
вздох облегчения деликатным вздохом разлуки и оставляет Марусю в одиночестве.
Хорошо, что сердца Марусь устроены по принципу взаимозаменяемости частей.
Пройдёт два месяца, вывинтит Маруся износившийся ржавый образ Пети и,
прочистив сердце керосином надежды, завинтит новую блестящую деталь — образ
Панаса из Сторожевого, который сейчас в группе колонистов тоже грустно
провожает хорошую дружбу с горьковцами, но который в глубине души мысленно
уже приналаживается к резьбе Марусиного сердца. В общем, всё хорошо на свете,
и ролью своей, ролью коня в тройке атамана Платова, Петька тоже доволен. Началась торжественно‑прощальная
часть. После хороших, тёплых слов, напутствий, слов благодарности, слов
трудового единства взвился занавес, и вокруг никчёмного, глупого царя
заходили ветхие генералы, и чудаковатый, неповоротливый дворник подметает за
ними просыпавшийся стариковский порох. Из задних дверей мельничного сарая
вылетела тройка жеребцов. Галатенко, Корыто, Федоренко, закусив удила, мотая
тяжёлыми головами, разрушая театральную мебель, на натянутых вожжах кучера,
Таранца, с треском вынесли на сцену, и затрещал старый пол наших подмостков.
За пояс Таранца держится боевой, дурашливо вымуштрованный атаман Платов —
восходящая звезда нашей сцены Олег Огнев. Публика придавливает большими
пальцами последние искорки грусти и ныряет в омут театральной выдумки и
красоты. В первом ряду сидит Калина Иванович и плачет, сбивая слезу
сморщенным жёлтым пальцем, — так ему смешно! Я вдруг вспомнил о Куряже. Нет, ныне не принято молиться о
снисхождении, и никто не пронесёт мимо меня эту чашу. Я вдруг почувствовал,
что устал, износился до отказа. В уборной артистов было весело и уютно.
Лапоть в царской одежде, в короне набекрень сидел в широком кресле Екатерины
Григорьевны и убеждал Галатенко, что роль коня тот выполнил гениально: — Я такого коня в жизни не видел, а
не то, что в театре. Оля Воронова сказала Лаптю: — Встань Ванька, пускай Антон
Семёнович отдохнёт. В этом замечательном кресле я и заснул,
не ожидая конца спектакля. Сквозь сон слышал, как пацаны одиннадцатого отряда
спорили оглушительными дискантами: — Перенесём! Перенесём! Давайте
перенесём! Силантий, наоборот, шептал, уговаривая
пацанов: — Ты здесь это, не кричи, как
говорится. Заснул человек, не мешай, и больше никаких данных… Видишь, какая
история. |
|
||||
|
|
6. Пять дней
На другой день, расцеловавшись с Калиной
Ивановичем, с Олей, с Нестеренко, я уехал. Коваль получил распоряжение точно
выполнить план погрузки и через пять дней выехать с колонией в Харьков. Мне было не по себе. В моей душе были
нарушены какие‑то естественные балансы, и я чувствовал себя неуютно. В
Куряжский монастырь я пришёл с Рыжовской станции около часу дня, и, как
только вошёл в ворота, на меня сразу навалились так называемые неприятности. В Куряже сидела целая следственная
организация: Брегель, Клямер, Юрьев, прокурор, и между ними почему‑то
вертелся бывший куряжский заведующий. Брегель сказала мне сурово: — Здесь начались уже избиения. — Кто кого избивает? — К сожалению, неизвестно кто… и по
чьему наущению… Прокурор, толстый человек в очках,
виновато глянул на Брегель и сказал тихо: — Я думаю, случай… ясный… Наущения
могло и не быть. Какие‑то, знаете, счёты… Собственно говоря, побои
лёгкого типа. Но всё-таки интересно было бы посмотреть, кто это сделал. Вот
теперь приехал заведующий… Вы здесь, может быть, что‑нибудь узнаете
подробнее и нам сообщите. Брегель была явно недовольна поведением
прокурора. Не сказав мне больше ни слова, она уселась в машину. Юрьев
стыдливо мне улыбнулся. Комиссия уехала. Воспитанника Дорошко избили ночью во
дворе в тот момент, когда он, насобирав по спальням с полдюжины пар сравнительно
новых ботинок, пробирался с ними к воротам. Все обстоятельства ночного
происшествия доказывали, что избиение было хорошо организовано, что за
Дорошко следили во время самой кражи. Когда он подходил уже к колокольне, из‑за
кустов акации, у соседнего флигеля, на него набросили одеяло, повалили на
землю и избили. Горьковский, проходя из конюшни, видел в темноте, как
несколько мелких фигур разбежались во все стороны, бросив Дорошко, но
захватив с собой одеяло. Немедленные поиски виновников по спальням не открыли
ничего: все спали. Дорошко был покрыт синяками, его пришлось уложить в
колонийской больничке, вызвать врача, но особенно тяжёлых нарушений в его
организме врач не нашёл. Горович всё же немедленно сообщил о происшествии
Юрьеву. Приехавшая следственная комиссия во главе
с Брегель повела дело энергично. Наш передовой сводный был возвращён с поля и
подвергнут допросу поодиночке. Клямер в особенности искал доказательств, что
избивали горьковцы. Ни один из воспитателей не был допрошен, с ними вообще избегали
разговаривать и ограничились только распоряжением вызвать того или другого.
Из куряжан вызвали к допросу в отдельную комнату только Ховраха и Переца, и
то, вероятно, потому, что они кричали под окнами: — Вы нас спросите! Что вы их
спрашиваете? Они убивать нас будут, а пожаловаться некому. В больничке лежал корявый мальчик лет
шестнадцати, Дорошко, смотрел на меня внимательным сухим взглядом и шептал: — Я давно хотел вам сказать… — Кто тебя побил? — А что приезжали?.. А кто меня бил,
кому какое дело! А я говорю, не ваши побили, а они хотят — ваши. А если бы не
ваши, меня убили бы. Тот… такой командир, он проходил, а те разбежались,
пацаны… — Это кто же? — Я не скажу… Я не для себя крал.
Мне ещё утром сказал… тот… — Ховрах? Молчание. — Ховрах? Дорошко уткнулся лицом в подушку и
заплакал. Сквозь рыдания я еле разбирал его слова: — Он… узнает… Я думал… последний
раз… я думал… Я подождал, пока он успокоится, и ещё раз
спросил: — Значит, ты не знаешь, кто тебя
бил? Он вдруг сел на постель, взялся за голову
и закачался слева направо в глубоком горе. Потом, не отрывая рук от головы, с
полными ещё слёз глазами улыбнулся: — Нет, как же можно? Это не
горьковцы. Они не так били бы… — А как? — Я не знаю как, а только они без
одеяла… Они не могут с одеялом… — Почему ты плачешь? Тебе больно? — Нет, мне не больно, а только… я
думал, последний раз… И вы не узнаете… — Это ничего, — сказал
я. — Поправляйся, всё забудем… — Угу… Пожалуйста, Антон Семёнович,
вы забудьте… Он наконец, успокоился. Я начал собственное следствие. Горович и
Киргизов разводили руками и начинали сердиться. Иван Денисович пытался даже
сделать надутое лицо и ёжил брови, но на его физиономии давно уложены такие
мощные пласты добродушия, что эти гримасы только рассмешили меня: — Чего вы, Иван Денисович, надуваетесь? — Как — чего надуваюсь? Они тут друг
друга порежут, а я должен знать! Побили этого Дорошенко, ну и что же, какие‑то
старые счёты… — Я сомневаюсь, старые ли? — Ну, а как же? — Счёты здесь, вероятно, всё же
новые. А вот — уверены ли вы, что это не горьковцы? — Та что вы, бог с вами! —
изумился Иван Денисович. — На чертей это нашим нужно? Волохов смотрел на меня зверски: — Кто? Наши? Такую козявку? Бить? Да
кто же из наших такое сделает? Если, скажем, Ховраха, или Чурила, или
Короткова, — ого, я хоть сейчас, только разрешите! А что он ботинки
спёр? Так они каждую ночь крадут. Да и сколько тех ботинок осталось? Всё
равно, пока колония приедет, тут ничего не останется. Чёрт с ними, пускай
крадут. Мы на это внимания не обращаем. Работать не хотят — это другое дело… Екатерину Григорьевну и Лидочку я нашёл в
их пустой комнате в состоянии полной растерянности. Их особенно напугал
приезд следственной комиссии. Лидочка сидела у окна и неотступно смотрела на
засорённый двор. Екатерина Григорьевна тяжело всматривалась в моё лицо. — Вы довольны? — спросила она. — Чем? — Всем: обителью, мальчиками,
начальством? Я на минутку задумался: доволен ли я? А
пожалуй, что же, какие у меня особенные основания быть недовольным?
Приблизительно это всё соответствовало моим ожиданиям. — Да, — сказал я, — и
вообще я не склонен пищать. — А я пищу, — сказала без
улыбки и оживления Екатерина Григорьевна, — да, пищу. Я не могу понять,
почему мы так одиноки. Здесь большое несчастье, настоящий человеческий ужас,
а к нам приезжают какие‑то… бояре, важничают, презирают нас. В таком
одиночестве мы обязательно сорвёмся. Я не хочу… И не могу. Лидочка медленно застучала кулачком по
подоконнику и начала её уговаривать, на самой тоненькой паутине удерживая
рыдания: — Я маленький, маленький человек… Я
хочу работать, хочу страшно работать, может быть, даже… я могу подвиг
сделать… Только я… человек… человек же, а не козявка. Она снова повернулась к окну, а я плотно
закрыл двери и вышел на высокое шаткое крыльцо. Возле крыльца стояли Ваня
Зайченко и Костя Ветковский. Костя смеялся: — Ну, и что же? Полопали? Ваня торжественно, как маркиз, повёл
рукой по линии горизонта и сказал: — Полопали. Развели костры, попекли
и полопали! И всё! Видишь? А потом спать легли. И спали. Мой отряд работал
рядом, мы кавуны сеяли. Мы смеёмся, а ихний командир Петрушко тоже смеётся… И
всё… Говорит, хорошо картошки поели печеной! — Да что же, они всю картошку поели?
Там же сорок пудов! — Поели! Попекли и поели! А то в
лесу прятали, а то бросили в поле. И легли спать. А обедать тоже не пошли.
Петрушко говорит: зачем нам обед, мы сегодня картошку садили. Одарюк ему
сказал: ты свинья! И они подрались. А ваш Миша, он сначала там был,
показывал, как садить картошку, а потом его позвали в комиссию. Ваня сегодня не в длинных изодранных
штанах, а в трусиках, и трусики у него с карманами, — такие трусики
делались только в колонии имени Горького. Не иначе как Шелапутин или Тоська
поделились с Ваней своим гардеробом. Рассказывая Ветковскому, размахивая
руками, притопывая стройными ножками, Ваня прищуривался на меня, и в его
глазах проскакивали то и дело тёплые точечки милой мальчишеской иронии. — Ты уже выздоровел, Иван? —
спросил я. — Ого! — сказал Ваня,
поглаживая себя по груди. — Здоров. Мой отряд сегодня был в «первом ка»
сводном. Ха‑ха, «первый ка» — кавуны значит! Мы работали с Денисом, а
потом его позвали, так мы без Дениса. Вот увидите, какие кавуны вырастут. А
когда приедут горьковцы? Через пять дней? Ох, и интересно, какие все эти
горьковцы? Правда ж, интересно. — Ваня, как ты думаешь, кто это
побил Дорошко? Ваня вдруг повернулся ко мне серьёзным
лицом и прицелился неотрывным взглядом к моим очкам. Потом поднял щеки,
опустил, снова поднял и, наконец, завертел головой, заводил пальцем около уха
и улыбнулся: — Не знаю. И быстро двинулся куда‑то с самым
деловым видом. — Ваня, подожди! Ты знаешь и должен
мне сказать. У стены собора Ваня остановился, издали
посмотрел на меня, на мгновение смутился, но потом, как мужчина, просто и
холодновато сказал, подчёркивая каждое слово: — Скажу вам правду: я там был, а кто
ещё был, не скажу! И пускай не крадёт! И я и Ваня задумались. Костя ушёл ещё
раньше. Думали мы, думали, и я сказал Ване: — Ступай под арест. В пионерской
комнате. Скажи Волохову, что ты арестован до сигнала «спать». Ваня поднял глаза, молча кивнул головой и
побежал в пионерскую комнату. Эти пять дней я представляю себе на фоне
всей моей жизни как длинное чёрное тире. Тире, и больше ничего. Сейчас я с
большим трудом вспоминаю кое‑какие подробности моей тогдашней
деятельности. В сущности, вероятно, это не была деятельность, а какое‑то
внутреннее движение, а может быть, чистая потенция, покой крепко
вымуштрованных, связанных сил. Тогда мне казалось, что я нахожусь в состоянии
буйной работы, что я занимаюсь анализом, что я что‑то решаю. А на самом
деле я просто ожидал приезда горьковцев. Впрочем, кое‑что мы делали. Я вспоминаю: мы аккуратно вставали в пять
часов утра. Аккуратно и терпеливо злились, наблюдая полное нежелание куряжан
следовать нашему примеру. Передовой сводный в это время почти не ложился
спать: были работы, которых нельзя откладывать. Шере приехал на другой день
после меня. В течение двух часов он мерил поля, дворы, службы, площадки
острым, обиженным взглядом, проходил по ним суворовскими маршами, молчал и
грыз всякую дрянь из растительного царства. Вечером загоревшие, похудевшие,
пыльные горьковцы начали расчищать площадку, на которой нужно было поместить
наше огромное свиное стадо. Начали копать ямы для парников и
оранжереи. Волохов в эти дни показал высокий класс командира и организатора.
Он ухитрялся оставлять в поле при двух парах одного человека, а остальных
бросал на другую работу. Пётр Иванович Горович выходил утром в метровом бриле
с какой‑то особенно восхитительной лопатой в руках и, потрясая ею,
говорил кучке любопытных куряжан: — Идём копать, богатыри! «Богатыри» отворачивались и расходились
по своим делам. По дороге они встречали чёрного, как ночь, Буцая в трусиках и
так же застенчиво выслушивали его приглашение, оформленное в самых низких
тонах регистра: — Чёртовы дармоеды, долго я на вас
буду работать? По вечерам приезжал кто‑то из
рабфаковцев и брался за лопату, но этих я скоро прогонял обратно в
Харьков, — шутить было нельзя, у них шли весенние зачеты. Первый наш
рабфаковский выпуск этой весной переходил уже в вузы. Вспоминаю: за эти пять дней много было
сделано всякой работы и много было начато. Вокруг Борового, молниеносно
закончившего просторные, без сквозняков, постройки особого назначения, сейчас
работала целая бригада плотников: погреба, школа, квартиры, парники,
оранжерея… В электростанции возилась тройка монтёров, такая же тройка
занималась изысканиями в недрах земли: узнали мы у подворчан, что ещё при
монашеской власти был в Куряже водопровод. Действительно, на верхней площадке
колокольни стоял солидный бак, а от колокольни мы довольно удачно начали
раскапывать прокладки труб. Весь двор Куряжа через два дня был
завален досками, щепками, брёвнами, изрыт канавами: начинался
восстановительный период в полном смысле этого слова. Мы очень мало сделали для улучшения
санитарного положения куряжан, но по правде сказать, мы и сами редко
умывались. Рано утром Шелапутин и Соловьёв отправлялись с вёдрами к
«чудотворному» источнику под горой, но пока они карабкались по отвесному
скату, падая и разливая драгоценную воду, мы спешили разойтись по рабочим
местам, ребята выезжали в поле, и ведро воды без пользы оставалось
нагреваться в нашей жаркой пионерской комнате. Точно так же и в других
областях, близких к санитарии, у нас было неблагополучно. Десятый отряд Вани
Зайченко, как безоглядно перешедший на нашу сторону, вне всяких планов и
распоряжений перебрался в нашу комнату и спал на полу, на принесенных с собой
одеялах. Несмотря на то, что отряд этот состоял из хороших, милых мальчиков,
он натащил в нашу комнату несколько поколений вшей. С точки зрения мировых педагогических
вопросов это была не такая большая беда, однако Лидочка и Екатерина
Григорьевна просили нас по возможности не заходить к ним в комнаты, а зайдя,
по возможности не пользоваться мебелью, не подходить близко к столам,
кроватям и другим нежным предметам. Как они сами устраивались и откуда у них
взялась такая придирчивость по отношению к нам, сказать затрудняюсь, а между
тем в течение круглого дня они почти не выходили из спален воспитанников,
выясняя очень многие детали куряжского общежития по специальному программному
заданию, выработанному нашей комсомольской организацией. Я намечал капитальную реорганизацию всех
помещений колонии. Длинные комнаты бывшей монастырской гостиницы, называемой
у куряжан школой, я намечал под спальни. Выходило так, что в одном этом
здании я помещаю все четыре сотни воспитанников. Из этого здания нетрудно
было выбросить обломки школьной мебели и наполнить его штукатурами,
столярами, малярами, стекольщиками. Для школы я назначил то самое здание без
дверей, в котором помещался «первый коллектив», но, разумеется, ремонт здесь
был невозможен, пока в нём гнездились куряжане. Да, мы проявили незаурядную деятельность,
но это была деятельность не педагогическая. В колонии не было такого угла, в
котором не работали бы люди. Всё чинилось, мазалось, красилось, мылось. Даже
столовую мы выбросили на двор и приступили к решительному замазыванию ликов
святых угодников мужского и женского пола. Только спален не коснулось идея
восстановления. В спальнях по‑прежнему копошились
куряжане, спали, переваривали пищу, кормили вшей, крали друг у друга всякие
пустяки и что‑то думали таинственное обо мне и моей деятельности. Я
перестал заходить в спальни и вообще интересоваться внутренней жизнью всех
шести куряжских «коллективов». С куряжанами у меня установилось сурово точные
отношения. В семь часов, в двенадцать и в шесть часов вечера открывалась
столовая, кто‑нибудь из моих ребят тарабанил в колокол, и куряжане
тащились на кормление. Впрочем, особенно медленно тащиться им было, пожалуй,
и невыгодно, не потому только, что столовая закрывалась в определённое время,
но и потому, что раньше пришедшие пожирали и свои порции, и порции опоздавших
товарищей. Опоздавшие ругали меня, кухонный персонал и советскую власть, но
на более энергичный протест не решались, так как комендантом нашего
питательного пункта по‑прежнему был Миша Овчаренко. Я научился с тайным злорадством
наблюдать, с какими трудностями теперь приходилось куряжанам пробираться к
столовой и расходиться после приёма пищи по своим делам: на пути их были
брёвна, канавы, поперечные пилы, занесённые топоры, размешанные круги глины и
кучи извести… и собственные души. В душах этих, по всем признакам, зачинались
трагедии, трагедии не в каком‑нибудь шутливом смысле, а настоящие
шекспировские. Я убеждён, что в это время многие куряжане про себя
декламировали: «Быть или не быть? — вот в чём вопрос…» Они небольшими группами останавливались
возле рабочих мест, трусливо оглядываясь на товарищей и виноватым, задумчивым
шагом направлялись к спальням. Но в спальнях не оставалось уже ничего
интересного, даже и украсть было нечего. Они снова выходили бродить поближе к
работе, из ложного стыда перед товарищами не решались поднять белый флаг и
просить разрешения. По прямым линиям стремительные, как глиссер, горьковцы,
легко подымаясь в воздух на разных препятствиях; их деловитость оглушала
куряжан, и они снова останавливались в позах Гамлета или Кориолана. Пожалуй,
положение куряжан было трагичное, ибо Гамлету никто не кричал весёлым
голосом: — Не лазь под ногами, до обеда ещё
два часа! С таким же непозволительным, конечно,
злорадством я замечал замирание и перебои в сердцах куряжан при упоминании
имени горьковцев. Члены передового сводного иногда позволяли себе произносить
реплики, которые они, конечно, не произносили бы, если бы не окончили
педагогический вуз. — Вот подожди, приедут наши, тогда
узнаешь, как это на чужой счёт жить… Из куряжан, кто постарше и поразвязнее,
пробовали даже сомневаться в значительности предстоящих событий и вопрошали с
некоторой иронией: — Ну, так что ж такое страшное
будет? Денис Кудлатый на такой вопрос отвечал: — Что будет? Ого! Собственно говоря,
они тебя таким узлом завяжут… жениться будешь, так и то вспомнишь. Миша Овчаренко, который вообще не любил
недоговорённостей и тёмных мест, выражался ещё понятнее: — Сколько тут вас есть дармоедов,
двести восемьдесят чи сколько, столько и морд будет битых. Ох, и понабивают
морды, смотреть страшно будет! Слушает такие речи и Ховрах и цедит
сквозь зубы: — Понабивают… Это вам не колония
имени Горького. Это вам Харьков! Миша считает поднятый вопрос настолько
важным, что отвлекается от работы и ласково начинает: — Милый человек! Что ты мне
говоришь: не колония Горького, а Харьков и всё такое… Ты пойми, дружок, кто
это позволит тебе сидеть на его шее? Ну, на что ты кому сдался, кому ты,
дружок, нужен? Миша возвращается к работе, и уже в руках
у него какой‑нибудь рабочий инструмент, а на устах заключительный
аккорд: — Как твоя фамилия? Ховрах удивлённо встряхивается: — Что? — Фамилия твоя как? Сусликов? Или
как? Может, Ёжиков? Ховрах краснеет от смущения и обиды: — Да какого ты чёрта? — Скажи твою фамилию, тебе жалко,
что ли? — Ну, Ховрах… — Ага! Ховрах… Верно. А я уже
забывать начал. Лазит здесь, вижу, под ногами какой‑то рыжий, пользы с
тебя никакой… Если бы ты работал, дружок, смотришь, туда‑сюда, и
бывает, нужно сказать: «Ховрах, принеси то. Ховрах, ты скоро сделаешь?
Ховрах, подержи, голубчик». А так, конечно, можно и забыть… Ну, иди гуляй,
дорогой, у меня, видишь, дело, надо эту штуковину проконопатить, а то возят
одной бочкой и на суп, и на чай, и на посуду. А тебя ж кормить нужно. Если
тебя, понимаешь, не накормить, ты сдохнешь, вонять будешь тут, неприятно
всё-таки, да ещё гроб тебе делать придётся — тоже забота… Ховрах, наконец, вырывается из Мишиных
объятий и уходит. Миша ласково говорит ему вслед: — Иди, подыши свежим воздухом… Очень
полезно, очень полезно… Кто его знает, убеждён ли Ховрах в пользе
свежего воздуха, убеждена ли вместе с ним вся куряжская аристократия? В
последние дни они стараются всё-таки меньше попадаться на глаза, но я уже
успел познакомиться с куряжской ветвью голубой крови. В общем они хлопцы
ничего себе, у них всё-таки есть личности, а это мне всегда нравится: есть за
что взяться. Больше всех мне нравится Перец. Правда, он ходит в нарочитой
развалке, и чуб у него до бровей, и кепка на один глаз, и курить он умеет,
держа цигарку на одной нижней губе, и плевать может художественно. Но я уже
вижу: его испорченное оспой лицо смотрит на меня с любопытством, и это —
любопытство умного и живого парня. Недавно я подошёл к их компании вечером,
когда компания сидела на могильных плитах нового поросячьего солярия, курила
и о чём-то без увлечения толковала. Я остановился против них и начал свёртывать
собачью ножку, рассчитывая у них прикурить. Перец весело и дружелюбно меня
разглядывал и сказал громко: — Стараетесь, товарищ заведующий,
много, а курите махорку. Неужели советская власть и для вас папирос не
наготовила? Я подошёл к Перецу, наклонился к его руке
и прикурил. Потом сказал ему так же громко и весело, с самой микроскопической
дозой приказа: — У ну‑ка, сними шапку! Перец перевёл глаза с улыбки на
удивление, а рот ещё улыбается. — А что такое? — Сними шапку, не понимаешь, что ли? — Ну, сниму… Я своей рукой поднял его чуб, внимательно
рассмотрел его уже немного испуганную физиономию и сказал: — Так… Ну, добре. Перец снизу пристально уставился на меня,
но я в несколько вспышек раскурил собачью ножку, быстро повернулся и ушёл от
них к плотникам. В этот момент буквально при каждом своём
движении, даже на слабом блеске моего пояса я ощущал широко разлитый
педагогический долг: надо этим хлопцам нравиться, надо, чтобы их забирала за
сердце непобедимая, соблазнительная симпатия, и в то же время дозарезу нужна
их глубочайшая уверенность, что мне на их симпатию наплевать, пусть даже
обижаются, и кроют матом, и скрежещут зубами. Плотники кончали работу, и Боровой изо
всех сил начал доказывать преимущество хорошего варёного масла перед плохим
варёным маслом. Я так сильно заинтересовался этим новым вопросом, что не
заметил даже, как меня дёрнули сзади за рукав. Дёрнули второй раз. Я
оглянулся. Перец смотрел на меня. — Ну? — Слушайте, скажите, для чего вы на
меня смотрели? А? — Да ничего особенного… Так слушай,
Боровой, надо всё-таки достать масла настоящего… Боровой с радостью приступил к
продолжению своей монографии о хорошем масле. Я видел, с каким озлоблением
смотрел на Борового Перец, ожидая конца его речи. Наконец Боровой с грохотом
поднял свой ящик, и мы двинулись к колокольне. Рядом с нами шёл Перец и
пощипывал верхнюю губу. Боровой ушёл вниз, в село, а я заложил руки за спину
и стал прямо перед Перцем: — Так в чём дело? — Зачем вы на меня смотрели?
Скажите. — Твоя фамилия Перец? — Ага. — А зовут Степан? — А вы откуда знаете? — Ты из Свердловска? — Ну да ж… А откуда вы знаете? — Я всё знаю. Я знаю, что ты и
крадешь, и хулиганишь, я только не знал, умный ты или дурак. — Ну? — Ты задал мне очень глупый вопрос,
вот — о папиросах, очень глупый… прямо такой глупый, чёрт его знает! Ты
извини, пожалуйста… Даже в сумерках заметно было, как залился
краской Перец, как отяжелели от крови его веки и как стало ему жарко. Он
неудобно переступил и оглянулся: — Ну хорошо, чего там извиняться…
Конечно… А только какая ж там такая глупость? — Очень простая. Ты знаешь, что у
меня много работы и некогда съездить в город купить папирос. Это ты знаешь.
Некогда потому что советская власть навалила на меня работу: сделать твою
жизнь разумной и счастливой, твою, понимаешь? Или, может быть, не
понимаешь? Тогда пойдём спать. — Понимаю, — прохрипел Перец,
царапая носком землю. — Понимаешь? Я презрительно глянул ему в глаза, прямо
в самые оси зрачков. Я видел, как штопоры моей мысли и воли ввинчиваются в
эти самые зрачки. Перец опустил голову. — Понимаешь, бездельник, а лаешь на
советскую власть. Дурак, настоящий дурак! Я повернул к пионерской комнате. Перец
загородил мне путь вытянутой рукой: — Ну хорошо, хорошо, пускай дурак… А
дальше? — А дальше я посмотрел на твоё лицо.
Хотел проверить, дурак ты или нет? — И проверили? — Проверил. — И что? — Пойди посмотри на себя в зеркало. Я ушёл к себе и дальнейших переживаний
Переца не наблюдал. Куряжские лица становились для меня
знакомее, я уже научился читать на них кое‑какие мимические фразы. Многие
поглядывали на меня с нескрываемой симпатией и расцветали той милой, полной
искренности и смущения улыбкой, которая бывает только у беспризорных. Я уже
знал многих по фамилиям и умел различать некоторые голоса. Возле меня часто вертится невыносимо курносый
Зорень, у которого даже вековые отложения грязи не могут прикрыть
превосходного румянца щек и ленивой грации глазных мускулов. Зореню лет
тринадцать, руки у него всегда за спиной, он всегда молчит и улыбается. Этот
мальчишка красив, у него изогнутые тёмные ресницы. Он медленно открывает их,
включает какой‑то далёкий свет в чёрных глазах, не спеша задирает
носик, молчит и улыбается. Я спрашиваю: — Зорень, скажи мне хоть словечко:
какой у тебя голос, страшно интересно! Он краснеет и обиженно отворачивается,
протягивая хриплым шёпотом: — Та‑а… У Зореня друг, такой же румяный, как и
он, тоже красивый, круглолицый, — Митька Нисинов, добродушная, чистая
душа. Из таких душ при старом режиме делали сапожных мальчиков и трактирных
молодцов. Я смотрю на него и думаю: «Митька, Митька, что мы из тебя сделаем?
Как мы разрисуем твою жизнь на советском фоне?» Митька тоже краснеет и тоже
отворачивается, но не хрипит и не тыкает, а только сдвигает прямые чёрные
брови и шевелит губами. Но Митькин голос мне известен: это глубочайшего
залегания контральто, голос холёной, красивой, балованной женщины, с такими
же, как у женщины, украшениями и неожиданными элементами соловьиного порядка.
Мне приятно слушать этот голос, когда Митька рассказывает мне о куряжских
жителях: — То вот побежал… Ах, ты, чёрт, куда
же это он побежал?.. Володька, смотри, смотри, то Буряк побежал… Так это же
Буряк, разве вы не знаете? Он может выпить тридцать стаканов молока… это он
на коровник побежал… А то — вредный парень, вон из окна выглядывает, ох, и
вредный же! Вы понимаете, он такой подлиза, ну, это же прямо, знаете, масло.
Он к вам, наверное, тоже подлизывается. О, я уже вижу, кто к вам
подлизывается, честное слово, вижу! — Ванька Зайченко, — обиженно
отворачивается Зорень и… краснеет. Митька умён, чертенок. Он виновато
провожает курносую обиду Зореня и взглядом просит меня простить товарищу
бестактность. — Нет, — говорит он, —
Ванька нет! У Ваньки такая линия! — Какая линия? — Такая линия вышла, что ж… Митька большим пальцем ноги начинает что‑то
рисовать на земле. — Расскажи. — Да что ж тут рассказывать? Ванька
как пришёл в колонию, так у него сейчас же эта самая компания завелась,
видишь, Володька?.. Ну, конечно, их и били, а всё-таки у них такая и была
линия… Я прекрасно понимаю глубокую философию
Нисинова, которая «и не снилась нашим мудрецам». Много здесь таких румяных, красивых и не
очень красивых мальчиков, которым не посчастливилось иметь собственную линию.
Среди ещё чужих мне, угрюмо настороженных лиц я всё больше и больше вижу
таких детей, жизнь которых тащится по чужим линиям. Это обыкновенная в старом
мире вещь — так называемая подневольная жизнь. Зорень и Нисинов, и взлохмаченный острый
Собченко, и серьёзный грустный Вася Гардинов, и тёмнолицый мягкий Сергей
Храбренко бродят возле меня и грустно улыбаются, сдвигая брови, но прямо
перейти на мою сторону не могут. Они жестоко завидуют компании Вани Зайченко,
тоскливыми взглядами провожают смелые полёты её членов по новым транспарантам
жизни и… ждут. Ждут все. Это так прозрачно и так понятно.
Ждут приезда мистически нематериальных, непонятных, неуловимо притягательных
горьковцев. Даже у девочек и то с каждым днём разгорается жизнь. Уже Оля
Ланова сбила свой шестой, полный энергии отряд. Отряд деятельно копошится в
своей спальне, что‑то чинит, моет, белит, даже поёт по вечерам. Туда
ежеминутно пробегает захлопотанная Гуляева и прячет от меня сбитую на
сторону, измятую блузку. Там частым гостем по вечерам сидит Кудлатый и
откровенно меценатствует. Только на полевые работы шестой отряд не выходит —
боится, что куряжские традиции, взорванные таким выходом, похоронят отряд под
обломками. Ждёт и Коротков. Это главный центр
куряжской традиции. Он восхитительный дипломат. Никакого проступка, слова,
буквы, хвостика от буквы нельзя найти в его поведении, которые позволили бы
обвинить его в чём-либо. Он виноват не больше, чем другие: как и все, он не
выходит на работу, и только. В передовом сводном все изнывают от злости, от
ненависти к Короткову, от несомненной уверенности, что Коротков в Куряже
главный наш враг. Я потом уже узнал, что Волохов,
Горьковский и Жорка Волков пытались покончить дело при помощи маленькой
конференции. Ночью они вызвали Короткова на свидание на берегу пруда и
предложили ему убираться из колонии на все четыре стороны. Но Коротков отклонил
это предложение и сказал: — Мне убираться пока что нет смысла.
Останусь здесь. На том конференция и кончилась. Со мною
Коротков ни разу не говорил и вообще не выражал никакого интереса к моей
личности. Но при встречах он очень вежливо приподнимал щёгольскую светлую
кепку и произносил дружелюбным влажным баритоном: — Здравствуйте, товарищ заведующий. Его смазливое лицо с тёмными, прекрасно
оттушёванными глазами внимательно‑вежливо обращается ко мне и
совершенно ясно семафорит: «Видите, наши дороги друг другу не мешают,
продолжайте своё, а у меня есть свои соображения. Моё почтение, товарищ
заведующий». Только после моей вечерней беседы с
Перецем, на другой день, Коротков встретил меня во время завтрака у кухонного
окна, внимательно отстранился, пока я давал какое‑то распоряжение, и
вдруг серьёзно спросил: — Скажите, пожалуйста, товарищ
заведующий, в колонии Горького есть карцер? — Карцера нет, — так же
серьёзно ответил я. Он продолжал спокойно, рассматривая меня
как экспонат: — Говорят всё-таки, что вы сажает
хлопцев под арест? — Лично ты можешь не беспокоиться:
арест существует только для моих друзей, — сказал я сухо и немедленно
ушёл от него, не интересуясь больше тонкой игрой его физиономии. 15 мая я получил телеграмму: «Завтра вечером выезжаем все по вагонам
Лапоть». Я объявил телеграмму за ужином и сказал: — Послезавтра будем встречать наших
товарищей. Я очень хочу, очень хочу, чтобы встретили их по‑дружески.
Ведь теперь вы будете вместе жить… и работать. Девочки испуганно притихли, как птицы
перед грозой. Пацаны разных сортов закосили глазами по лицам товарищей,
некоторое количество голосов увеличили ротовое отверстие и секунду побыли в
таком состоянии. В углу, возле окна, там, где вокруг
столов стоят не скамьи, а стулья, компания Короткова вдруг впадает в большое
веселье, громко хохочет и, очевидно, обменивается остротами. Вечером в передовом сводном состоялось
обсуждение подробностей приёма горьковцев и проверялись мельчайшие детали
специальной декларации комсомольской ячейки. Кудлатый чаще, чем когда‑нибудь,
поднимал руку к «потылыце»: — Честное слово, собственно говоря,
аж стыдно сюда хлопцев везти. Открылась медленно дверь, и с трудом в
неё пролез Жорка Волков. Держась за столы, добрался до скамьи и глянул на нас
одним только глазом, да и тот представлял собой неудобную щель в мясистом
синем кровоподтёке. — Что такое? — Побили, — прошептал Жорка. — Кто побил? — Чёрт его знает! Граки… Я шёл со
станции… На переезде… встретили и… побили… — Да постой! — рассердился
Волохов. — Побили, побили!.. Мы и сами видим, что побили… Как дело было?
Разговор какой был или как? — Разговор был короткий, —
ответил с грустной гримасой Жорка, — один только сказал: «А‑а,
комса?..» Ну… и в морду. — А ты ж? — Ну, и я ж, конечно. Только их было
четверо. — Ты убежал? — спросил Волохов. — Нет, не убежал, — ответил
Жорка. — А как же? — Ты видишь: и сейчас сижу на
переезде. Хлопцы разразились запорожским хохотом, и
только Волохов с укором смотрел на искалеченную улыбку друга. |
|
||||
|
|
7. Триста семьдесят третий бис
На рассвете семнадцатого я выехал
встречать горьковцев на станцию Люботин, в тридцати километрах от Харькова.
На грязненьком перроне станции было бедно и жарко, бродили ленивые, скучные
селяне, измятые транспортными неудобствами, скрежетали сапогами по перрону
неповоротливые, пропитанные маслом железнодорожники — деятели товарного
движения. Все сегодня сговорились противоречить торжественной парче, в
которую оделась моя душа. А может быть, это и не парча, а что‑нибудь
попроще — «треугольная шляпа и серый походный сюртук». Сегодня день генерального сражения. Это
ничего, что громоздкий дядя, носильщик, нечаянно меня толкнувший, не только
не пришёл в ужас от содеянного, но даже не заметил меня. Ничего также, что
дежуривший по станции недостаточно почтительно и даже недостаточно вежливо
давал мне справки, где находится триста семьдесят третий бис. Эти чудаки
делали вид, будто они не понимают, что триста семьдесят третий бис — это
главные мои силы, это главные легионы маршалов Коваля и Лаптя, что вся их
станция Люботин на сегодня назначена быть плацдармом моего наступления на
Куряж. Как растолковать этим людям, что ставки моего сегодняшнего дня,
честное слово, более величественны и значительны, чем ставки какого‑нибудь
Аустерлица. Солнце Наполеона едва ли способно было затмить мою сегодняшнюю
славу. А ведь Наполеону гораздо легче было воевать, чем мне. Хотел бы я
посмотреть, что получилось бы из Наполеона, если бы методы соцвоса для него
были так же обязательны, как для меня. Бродя по перрону, я поглядывал в сторону
Куряжа и вспоминал, что неприятель сегодня показал некоторые признаки
слабости духа. Как ни рано я встал, а в колонии уже было
движение. Почему‑то многие толкались возле окон пионерской комнаты,
другие, гремя вёдрами, спускались к «чудотворному» источнику за водой. У
колокольных ворот стояли Зорень и Нисинов. — А когда приедут горьковцы?
Утром? — спросил серьёзно Митька. — Утром. Вы сегодня рано поднялись. — Угу… Не спится как‑то… Они
на Рыжов приедут? — На Рыжов. А вы будете здесь
встречать. — А скоро? — Успеете умыться. — Пойдём, Митька, — немедленно
реализовал Зорень моё предложение. Я приказал Горовичу для встречи колонны
горьковцев и салюта знамени выстроить куряжан во дворе, не применяя для этого
никакого особенного давления: — Просто пригласите. Наконец вышел из тайников станции Люботин
добрый дух в образе угловатого сторожа и зазвонил в колокол. Отзвонив, он
открыл мне тайну этого символического действия: — Запросился триста семьдесят третий
бис. Через двадцать минут прибудет. Вдруг намеченный план встречи неожиданно
осложнился, и дальше всё покатилось как‑то по особенному запутанно,
горячо и по‑мальчишески радостно. Раньше, чем прибыл триста семьдесят
третий бис, из Харькова подкатил дачный, и из вагонов полился на меня
комсомольско‑рабфаковский освежающий душ. Белухин держал в руке букет
цветов: — Это будем встречать пятый отряд,
как будто дамы‑графини приезжают. Мне, старику, можно. В толпе пищала от избытков чувств
златокудрая Оксана, и мирно нежилась под солнцем спокойная улыбка Рахили.
Братченко размахивал руками, как будто в них был кнут, и твердил неизвестно
кому: — Ого! Я теперь вольный казак.
Сегодня же на Молодца сяду. Прибежал кто‑то и крикнул: — Та поезд уже давно тут!.. На
десятом пути… — Да что ты? — Та на десятом пути… Давно стоит!.. Мы не успели опешить от неожиданной прозы
этого сообщения. Из‑под товарного вагона на третьем пути на нас глянула
продувная физиономия Лаптя, и его припухший взгляд иронически разглядывал
нашу группу. — Давысь! — крикнул
Карабанов. — Ванька вже з‑пид вагона лизе. На Лаптя набросились всей толпой, но он
глубже залез под вагон и оттуда серьёзно заявил: — Соблюдайте очередь! И, кроме того,
целоваться буду только с Оксаной и Рахилью, для остальных имею рукопожатие. Карабанов за ногу вытащил Лаптя из‑под
вагона, и его голые пятки замелькали в воздухе. — Чёрт с вами, целуйте! —
сказал Лапоть, опустившись на землю, и подставил веснушчатую щеку. Оксана и Рахиль действительно занялись
поцелуйным обрядом, а остальные бросились под вагоны. Лапоть долго тряс мне руку и сиял
непривычной на его лице простой и искренней радостью. — Как едете? — Как на ярмарку, — сказал
Лапоть. — Молодец только хулиганит: всю ночь колотил по вагону. Там от
вагона только стойки остались. Долго тут будем стоять? Я приказал всем быть
наготове. Если что, будем стоять, — умыться ж надо и вообще… — Иди, узнавай. Лапоть побежал на станцию, а я поспешил к
поезду. В поезде было сорок пять вагонов. Из широко раздвинутых дверей и
верхних люков смотрели на меня прекрасные лица горьковцев, смеялись, кричали,
размахивали тюбетейками. Из ближайшего люка вылез до пояса Гуд, умиленно
моргал глазами и бубнил: — Антон Семёнович, отец родной, хиба
ж так полагается? Так же не полагается. Разве это закон? Это ж не закон. — Здравствуй, Гуд, на кого ты
жалуешься? — На этого чёртового Лаптя. Сказал,
понимаете: кто из вагона вылезет до сигнала, голову оторву. Скорийше
принимайте команду, а то Лапоть нас уже замучил. Разве Лапоть может быть
начальником? Правда ж, не может? За моей спиной стоит уже Лапоть и охотно
продолжает в гамме Гуда: — А попробуй вылезти из вагона до
сигнала! Ну, попробуй! Думаешь, мне приятно с такими шмаровозами возиться?
Ну, вылазь! Гуд продолжал умильно: — Ты думаешь, мне очень нужно
вылазить? Мне и здесь хоррошо. Это я принципиально. — То‑то! — сказал Лапоть. —
Ну, давай сюда Синенького! Через минуту из‑за плеча Гуда
выглянуло хорошенькое детское личико Синенького, недоуменно замигало
заспанными глазёнками и растянуло упругий яркий ротик: — Антон Семёнович… — «Здравствуй» скажи, дурень! Чи ты
не понимаешь? — зажурил Гуд. Синенький всматривается в меня, краснеет
и гудит растерянно. — Антон Семёнович… ну, а это что
ж?.. Антон Семёнович… смотри ты!.. Он затёр кулачками глаза и вдруг по‑настоящему
обиделся на Гуда: — Ты ж говорил: разбужу! Ты ж
говорил… У, какой Гудище, а ещё командир! Сам встал, смотри ты… Уже Куряж?
Да? Уже Куряж? Лапоть засмеялся: — Какой там Куряж! Это Люботин!
Просыпайся скорее, довольно тебе! Сигнал давай! Синенький молниеносно посерьёзнел и
проснулся: — Сигнал? Есть! Он уже в полном сознании улыбнулся мне и
сказал ласково: — Здравствуйте, Антон
Семёнович! — и полез на какую‑то полку за сигналкой. Через две секунды он выставил сигналку
наружу, подарил меня ещё одной чудесной улыбкой, вытер губы голой рукой и
придавил их в непередаваемо грациозном напряжении к мундштуку трубы. По
станции покатился наш старый сигнал побудки. Из вагонов попрыгали колонисты, и я
занялся бесконечным рукопожатием. Лапоть уже сидел на вагонной крыше и
возмущённо гримасничал по нашему адресу: — Вы чего сюда приехали? Вы будете
здесь нежничать? А когда вы будете умываться и убирать в вагонах? Или, может,
вы думаете: сдадим вагоны грязными, чёрт с ними? Так имейте в виду, пощады не
будет. И трусики надевайте новые. Где дежурный командир? А? Таранец выглянул с соседней тормозной
площадки. На его теле только сморщенные, полинявшие трусики, а на голой руке
новенькая красная повязка. — Я тут. — Порядка не вижу! — заорал
Лапоть. — Вода где, знаешь? Сколько стоять будет, знаешь? Завтрак
раздавать, знаешь? Ну, говори! Таранец взлез к Лаптю на крышу и, загибая
пальцы на руках, ответил, что стоять будем сорок минут, умываться можно возле
той башни, а завтрак у Федоренко уже приготовлен и когда угодно можно
начинать. — Чулы? — спросил у колонистов
Лапоть. — А если чулы, так какого ангела гав (ворона) ловите? Загоревшие ноги колонистов замелькали на
всех люботинских путях. По вагонам заскребли вениками, и четвёртый
"У" сводный заходил перед вагонами с вёдрами, собирая сор. Из последнего вагона Вершнев и Осадчий
вынесли на руках ещё не проснувшегося Коваля и старательно приделывали его
посидеть на сигнальном столбике. — Воны ше не проснулысь, —
сказал Лапоть, присев перед Ковалем на корточках. Коваль свалился со столбика. — Теперь воны вже проснулысь, —
отметил это событие Лапоть. — Как ты мне надоел, Рыжий! —
сказал серьёзно Коваль и пояснил мне, подавая руку: — Чи есть на этого
человека какой‑нибудь угомон, чи нету? Всю ночь по крышам, то на
паровозе, то ему померещилось, что свиньи показались. Если я чего уморился за
это время, то хиба от Лаптя. Где тут умываться? — А мы знаем, — сказал
Осадчий. — Берём, Колька! Они потащили Коваля к башне, а Лапоть
сказал: — А он ещё недоволен… А знаете,
Антон Семёнович, Коваль, мабудь, за эту неделю первую ночь спал. Через полчаса в вагонах было убрано, и
колонисты в блестящих тёмно-синих трусиках и белых сорочках уселись
завтракать. Меня втащили в штабной вагон и заставили есть «Марию Ивановну». Снизу, с путей, кто‑то сказал
громко: — Лапоть, начальник станции объявил
— через каких‑нибудь пять минут поедем. Я выглянул на знакомый голос. Грандиозные
очи Марка Шейнгауза смотрели на меня серьёзно, и по ним ходили прежние тёмные
волны страсти. — Марк, здравствуй! Как это я тебя
не видел? — А я был на карауле у
знамени, — строго сказал Марк. — Как тебе живётся? Ты теперь
доволен своим характером? Я спрыгнул вниз. Марк поддержал меня и,
пользуясь случаем, зашептал напряжённо: — Я ещё не очень доволен своим
характером, Антон Семёнович. Не очень доволен, хочу вам сказать правду. — Ну? — Вы понимаете: они едут, так они
песни поют, и ничего. А я всё думаю и думаю и не могу песни с ними петь.
Разве это характер? — О чём ты думаешь? — Почему они не боятся, а я боюсь… — За себя боишься? — Нет, зачем мне бояться за себя? За
себя я ничуть не боюсь, а я боюсь и за вас, и за всех, я вообще боюсь. У них
была хорошая жизнь, а теперь, наверное, будет плохо, и кто его знает, чем это
кончится? — Зато они идут на борьбу. Это,
Марк, большое счастье, когда можно идти на борьбу за лучшую жизнь. — Так я же вам говорю: они
счастливые люди, потому они и песни поют. А почему я не могу петь, а всё
думаю? Над самым моим ухом Синенький
оглушительно заиграл сигнал общего сбора. — «Сигнал атаки», — сообразил я
и вместе со всеми поспешил к вагону. Взбираясь в вагон, я видел, как
свободно, выбрасывая голые пятки, подбежал к своему вагону Марк, и подумал:
сегодня этот юноша узнает, что такое победа или поражение. Тогда он станет
большевиком. Паровоз засвистел. Лапоть заорал на
какого‑то опоздавшего. Поезд тронулся. Через сорок минут он медленно втянулся на
Рыжовскую станцию и остановился на третьем пути. На перроне стояли Екатерина
Григорьевна, Лидочка и Гуляева, и у них дрожали лица от радости. Коваль подошёл ко мне: — Чего будем волынить? Разгружаться? Он побежал к начальнику. Выяснилось, что
поезд для разгрузки нужно подавать на первый путь, к «рамке», но подать
нечем. Поездной паровоз ушёл в Харьков, а теперь нужно вызвать откуда‑то
специальный маневровый паровоз. На станцию Рыжов никогда таких составов не
приходило, и своего маневрового паровоза не было. Это известие приняли сначала спокойно. Но
прошло полчаса, потом час, нам надоело томиться возле вагонов. Беспокоил нас
и Молодец, который, чем выше поднималось солнце, тем больше бесчинствовал в
вагоне. Он успел ещё ночью разнести вдребезги всю вагонную обшивку и теперь
добивал остальное. Возле его вагона уже ходили какие‑то чины и в
замасленных книжках что‑то подсчитывали. Начальник станции летал по
путям, как на ристалищах, и требовал, чтобы хлопцы не выходили из вагонов и
не ходили по путям, по которым то и дело пробегали пассажирские, дачные,
товарные поезда. — Да когда же будет паровоз? —
пристал к нему Таранец. — Я не больше знаю, чем вы! —
почему‑то озлился начальник. — Может быть, завтра будет. — Завтра? О! Так я тогда больше
знаю… — Чего больше? Чего больше? — Больше знаю, чем вы. — Как это вы знаете больше, чем я? — А так: если нет паровоза, мы сами
перекатим поезд на первый путь. Начальник махнул рукой на Таранца и
убежал. Тогда Таранец пристал ко мне: — Перекатим, Антон Семёнович, вот
увидите. Я знаю. Вагоны легко катаются, если даже гружёные. А нас приходится
по три человека на вагон. Пойдём, поговорим с начальником. — Отстань, Таранец, глупости какие! И Карабанов развёл руками: — Ну, такое придумал, он перекатит!
Это ж нужно аж до семафора подавать, за все стрелки. Но Таранец настаивал, и многие ребята его
поддерживали. Лапоть предложил: — О чём нам спорить? Проиграем
сейчас на работу и попробуем. Перекатим — хорошо, не перекатим — не надо,
будем ночевать в поезде. — А начальник? — спросил
Карабанов, у которого глаза уже заиграли. — Начальник! — ответил
Лапоть. — У начальника есть две руки и одна глотка. Пускай себе
размахивает руками и кричит. Веселей будет. — Нет, — сказал я, так нельзя.
Нас на стрелках может накрыть какой‑нибудь поезд. Такой каши наделаете! — Н‑ну, это мы понимаем!
Семафор закрыть нужно! — Бросьте, хлопцы! Но хлопцы окружили меня целой толпой.
Задние взлетели на тормозные площадки и крыши и убеждали меня хором. Они
просили у меня только одного: передвинуть поезд на два метра. — Только на два метра и — стоп.
Какое кому дело? Мы никого не трогаем! Только на два метра, а потом сами
скажете. Я, наконец, уступил. Тот же Синенький
заиграл на работу, и колонисты, давно усвоившие детали задания, расположились
у стоек вагонов. Где‑то впереди пищали девочки. Лапоть вылез на перрон и замахнулся
тюбетейкой. — Стой, стой! — закричал
Таранец. — Сейчас начальника приведу, а то он больше меня знает. Начальник выбежал на перроне и воздел
руки: — Что вы делаете? Что вы делаете? — На два метра, — сказал
Таранец. — Ни за что, ни за что!.. Как это
можно? Как можно такое делать? — Да на два метра! — закричал
Коваль. — Чи вы не понимаете, чи как? Начальник тупо влепился в Коваля взглядом
и забыл опустить руки. Хлопцы хохотали у вагонов. Лапоть снова поднял руку с
тюбетейкой, и все прислонились к стойкам, уперлись босыми ногами в песок и,
закусив губы, поглядывали на Лаптя. Он махнул тюбетейкой, и, подражая его
движению, начальник мотнул головой и открыл рот. Кто‑то сзади крикнул: — Нажимай! Несколько мгновений мне казалось, что
ничего не выйдет — поезд стоит неподвижно, но, взглянув на колёса, я вдруг
заметил, что они медленно вращаются, и сразу же после этого увидел и движение
поезда. Но Лапоть заорал что‑то, и хлопцы остановились. Начальник станции
оглянулся на меня, вытер лысину и улыбнулся милой, старческой, беззубой
улыбкой. — Катите… что ж… бог с вами! Только
не придавите никого. Он повертел головой и вдруг громко
рассмеялся: — Сукины сыны, ну, что ты скажешь,
а? Ну, катите… — А семафор? — Будьте покойны. — Го‑то‑о‑овсь! —
закричал Таранец, и Лапоть снова поднял свою тюбетейку. Через полминуты поезд катился к семафору,
как будто его толкал мощный паровоз. Хлопцы, казалось, просто шли рядом с
вагонами и только держались за стойки. На тормозных площадках сидели каким‑то
чудом выделенные ребята, чтобы тормозить на остановке. От выходной стрелки нужно было прогнать
поезд по второму пути в противоположный конец станции, чтобы уже оттуда
подать его обратно к рамке. В тот момент, когда поезд проходил мимо перрона,
и я полной грудью вдыхал в себя солёный воздух аврала, с перрона меня
окликнули: — Товарищ Макаренко! Я оглянулся. На перроне стояли Брегель,
Халабуда и товарищ Зоя. Брегель возвышалась на перроне в сером широком платье
и напоминала мне памятник Екатерине Великой — такая Брегель была
величественная. И так же величественно она вопросила меня
со своего пьедестала: — Товарищ Макаренко, это ваши
воспитанники? Я виновато поднял глаза на Брегель, но в
этот момент на мою голову упало целое екатерининское изречение: — Вы жестоко будете отвечать за
каждую отрезанную ногу. В голосе Брегель было столько железа и
дерева, что ей могла позавидовать любая самодержица. К довершению сходства её
рука с указующим пальцем протянулась к одному из колёс нашего поезда. Я приготовился возразить в том смысле,
что ребята очень осторожны, что я надеюсь на благополучный исход, но товарищ
Зоя помешала честному порыву моей покорности. Она подскочила ближе к краю
перрона и затараторила быстро, кивая огромной головой в такт своей речи: — Болтали, болтали, что товарищ
Макаренко очень любит своих воспитанников… Надо показать всем, как он их
любит. К моему горлу подкатился какой‑то
ком. Но в то время мне казалось, что я очень сдержанно и вежливо сказал: — О, товарищ Зоя, вас нагло
обманули! Я настолько чёрствый человек, что здравый смысл всегда предпочитаю
самой горячей любви. Товарищ Зоя прыгнула бы на меня с высоты
перрона, и, может быть, там и окончилась бы моя антипедагогическая поэма,
если бы Халабуда не сказал просто, по‑рабочему: — А здорово, стервецы, покатили
поезд! Ах, ты, карандаш, смотри, смотри, Брегель… Ах, ты, поросёнок! Халабуда уже шагает рядом с Васькой
Алексеевым, сиротой множества родителей. О чём-то он с Васькой перемолвился,
и не успели мы пережить ещё нашей злости, как Халабуда уже надавил руками на
какой‑то упор в вагоне. Я мельком взглянул на окаменевшее величие
памятника Екатерине, перешагнул через лужу желчи, набежавшую с товарища Зои,
и тоже поспешил к вагонам. Через двадцать минут Молодца вывели из
полуразрушенного вагона, и Антон Братченко карьером полетел в Куряж, далеко
за собой оставляя полосу пыли и нервное потрясение рыжовских собак. Оставив сводный отряд под командой
Осадчего, мы быстро построились на вокзальной маленькой площади. Брегель с
подругой залезли в автомобиль, и я имел удовольствие ещё раз позеленить их
лица звоном труб и громом барабана нашего салюта знамени, когда оно,
завёрнутое в шёлковый чехол, плавно прошло мимо наших торжественных рядов на
своё место. Занял своё место и я. Коваль дал команду, и окружённая толпой
станционных мальчишек, колонна горьковцев тронулась к Куряжу. Машина Брегель,
обгоняя колонну, поравнялась со мной, и Брегель сказала: — Садитесь. Я удивлённо пожал плечами и приложил руку
к сердцу. Было тихо и жарко. Дорога проходила через
луг и мостик, переброшенный над узенькой захолустной речкой. Шли по шесть в
ряд, впереди четыре трубача и восемь барабанщиков, с ними я и дежурный
командир Таранец, а за нами знамённая бригада. Знамя шло в чехле, и от
сверкающей его верхушки свешивались и покачивались над головой Лаптя золотые
кисти. За Лаптем сверкал свежестью белых сорочек и молодым ритмом голых ног
строй колонистов, разделённый в центре четырьмя рядами девчат в синих юбках. Выходя иногда на минутку из рядов, я
видел, как вдруг посуровели и спружинились фигуры колонистов. Несмотря на то,
что мы шли по безлюдному лугу, они строго держали равнение и, сбиваясь иногда
на кочках, заботливо спешили поправить ногу. Гремели только барабаны, рождая
где‑то далеко у стен Куряжа отчётливое сухое эхо. Сегодня барабанный
марш не усыплял и не уравнивал игры сознания. Напротив, чем ближе мы
подходили к Куряжу, тем рокот барабанов казался более энергичным и
требовательным, и хотелось не только в шаге, но и в каждом движении сердца
подчиниться его строгому порядку. Колонна вошла в Подворки. За плетнями и
калитками стояли жители, прыгали на верёвках злые псы, потомки древних
монастырских собак, когда‑то охранявших его богатства. В этом селе не
только собаки, но и люди были выращены на тучных пастбищах монастырской
истории. Их зачинали, выкармливали, воспитывали на пятаках и алтынах,
выручаемых за спасённые души, за исцеление от недугов, за слёзы пресвятой
богородицы и за перья из крыльев архангела Гавриила. В Подворках много
задержалось разного преподобного народа: бывших попов и монахов, послушников,
конюхов и приживалов, монастырских поваров, садовников и проституток. И поэтому, проходя за плетнями групп,
точно угадывал я и мысли, и слова, и добрые пожелания по нашему адресу. Вот здесь, на улицах Подворок, я вдруг
ясно понял великое историческое значение нашего марша, хотя он и выражал
только одно из молекулярных явлений нашей эпохи. Представление о колонии
имени Горького вдруг освободилось у меня от предметных форм и педагогической
раскраски. Уже не было ни излучин Коломака, ни старательных построек старого
Трепке, ни двухсот розовых кустов, ни свинарни пустотелого бетона. Присохли
также и где‑то рассыпались по дороге хитрые проблемы педагогики.
Остались только чистые люди, люди нового опыта и новой человеческой позиции
на равнинах земли. И я понял вдруг, что наша колония выполняет сейчас хотя и
маленькую, но острополитическую, подлинно социалистическую задачу. Шагая по улицам Подворок, мы проходили
точно по вражеской стране, где в живом ещё содрогании сгрудились и старые
люди, и старые интересы, и старые жадные паучьи приспособления. И в стенах
монастыря, который уже показался впереди, сложены целые штабеля ненавистных
для меня идей и предрассудков: слюноточивое интеллигентское идеальничанье, будничный,
бесталанный формализм, дешёвая бабья слеза и умопомрачительное канцелярское
невежество. Я представил себе огромные площади этой безграничной свалки: мы
уже прошли по ней сколько лет, сколько тысяч километров, и впереди ещё она
смердит, и справа, и слева, мы окружены ею со всех сторон. Поэтому такой
ограниченной в пространстве кажется маленькая колонна горьковцев, у которой
сейчас нет ничего материального: ни коммуникации, ни базы, ни родственников —
Трепке оставлено навсегда, Куряж ещё не завоёван. Ряды барабанщиков тронулись в гору —
ворота монастыря были уже перед нами. Из ворот выбежал в трусиках Ваня
Зайченко, на секунду остолбенел на месте и стрелой полетел к нам под горку. Я
даже испугался: что‑нибудь случилось, но Ваня круто остановился против
меня и взмолился со слезами, прикладывая палец к щеке: — Антон Семёнович, я пойду с вами, я
не хочу там стоять. — Иди здесь. Ваня выровнялся со мной, внимательно
поймал ногу и задрал голову. Потом поймал мой внимательный взгляд, вытер
слезу и улыбнулся горячо, выдыхая облегчённо волнение. Барабаны оглушительно рванулись в
колокольном тоннеле ворот. Бесконечная масса куряжан была выстроена в
несколько рядов, и перед нею замер и поднял руку для салюта Горович. |
|
||||
|
|
8. Гопак
Строй горьковцев и толпа куряжан стояли
друг против друга на расстоянии семи‑восьми метров. Ряды куряжан,
наскоро сделанные Петром Ивановичем, оказались, конечно, скоропортящимися.
Как только остановилась наша колонна, ряды эти смешались и растянулись далеко
от ворот до собора, загибаясь в концах и серьёзно угрожая нам охватом с
флангов и даже полным окружением. И куряжане и горьковцы молчали: первые —
в порядке некоторого обалдения, вторые — в порядке дисциплины в строю при
знамени. До сих пор куряжане видели колонистов только в передовом сводном,
всегда в рабочем костюме, достаточно изнурёнными, пыльными и немытыми. Сейчас
перед ними протянулись строгие шеренги внимательных, спокойных лиц, блестящих
поясных пряжек и ловких коротких трусиков над линией загоревших ног. В нечеловеческом напряжении, в самых
дробных долях секунды я хотел ухватить и запечатлеть в сознании какой‑то
основной тон в выражении куряжской толпы, но мне не удалось этого сделать.
Это уже не была монотонная, тупая толпа первого моего дня в Куряже. Переходя
взглядом от группы к группе, я встречал всё новые и новые выражения, часто
даже совершенно неожиданные. Только немногие смотрели в равнодушном
нейтральном покое. Большинство малышей открыто восхищалось — так, как
восхищаются они игрушкой, которую хочется взять в руки и прелесть которой не
вызывает зависти и не волнует самолюбия. Нисинов и Зорень стояли, обнявшись,
и смотрели на горьковцев, склонив на плечи друг другу головы, о чём-то
мечтая, может быть, о тех временах, когда и они станут в таком же
пленительном ряду и так же будут смотреть на них замечтавшиеся «вольные»
пацаны. Было много лиц, глядевших с тем неожиданно серьёзным вниманием, когда
толпятся на месте возбуждённые мускулы лица, а глаза ищут скорее удобного
поворота. На этих лицах жизнь пролетала бурно; через десятые доли секунды
этого лица уже что‑то рассказывали от себя, выражая то одобрение, то
удовольствие, то сомнение, то зависть. Зато медленно‑медленно
растворялись ехидные мины, заготовленные заранее, мины насмешки и презрения.
Ещё далеко заслышав наши барабаны, эти люди засунули по карманам руки и
изогнули талии в лениво‑снисходительных позах. Многие из них сразу были
сбиты с позиций великолепными торсами и бицепсами первых рядов горьковцев:
Федоренко, Корыто, Нечитайло, против которых их собственные фигуры казались
жидковатыми. Другие смутились попозже, когда стало слишком очевидно, что из
этих ста двадцати самого маленького нельзя тронуть безнаказанно. И самый
маленький — Синенький Ванька — стоял впереди, поставив трубу на колено, и
стрелял глазами с такой свободой, будто он не вчерашний беспризорный, а
путешествующий принц, а за ним почтительно замер щедрый эскорт, которым
снабдил его папаша король. Только секунды продолжалось это
молчаливое рассматривание. Я обязан был немедленно уничтожить и семиметровое
расстояние между двумя лагерями и взаимное их разглядывание. — Товарищи! — сказал я. —
С этой минуты мы все, четыреста человек, составляем один коллектив, который
называется: трудовая колония имени Горького. Каждый из вас должен всегда это
помнить, каждый должен знать, что он — горьковец, должен смотреть на другого
горьковца, как на своего ближайшего товарища и первого друга, обязан уважать
его, защищать, помогать во всём, если он нуждается в помощи, и поправлять
его, если он ошибается. У нас будет строгая дисциплина. Дисциплина нам нужна
потому, что дело наше трудное и дела у нас много. Мы его сделаем плохо, если
у нас не будет дисциплины. Я ещё сказал о стоящих перед нами
задачах, о том, как нам нужно богатеть, учиться, пробивать дорогу для себя и
для будущих горьковцев, что нам нужно жить правильно, как настоящим
пролетариям, и выйти из колонии настоящими комсомольцами, чтобы и после
колонии строить и укреплять пролетарское государство. Я был удивлён неожиданным вниманием
куряжан к моим словам. Как раз горьковцы слушали меня несколько рассеяно,
может быть потому, что мои слова не открывали для них ничего нового, всё это
давно сидело крепко в каждой крупинке мозга. Но почему те же куряжане две недели назад
мимо ушей пропускали мои обращения к ним, гораздо более горячие и
убедительные? Какая трудная наука эта педагогика! Нельзя же допустить, что
они слушали меня только потому, что за моей спиной стоял горьковский легион,
или потому, что на правом фланге этого легиона неподвижно и сурово стояло
знамя в атласном чехле? Этого нельзя допустить, ибо это противоречило бы всем
аксиомам и теоремам педагогики. Я кончил речь и объявил, что через
полчаса будет общее собрание колонии имени Горького; за эти полчаса колонисты
должны познакомиться друг с другом, пожать друг другу руки и прийти вместе на
собрание. А сейчас, как полагается, отнесём наше знамя в помещение… — Разойдись! Мои ожидания, что горьковцы подойдут к
куряжанам и подадут им руки, не оправдались. Они разлетелись из строя, как
заряд дроби, и бросились бегом к спальням, клубам и мастерским. Куряжане не
обиделись таким невниманием и побежали вдогонку, только Коротков стояли среди
своих приближенных, и они о чём-то потихоньку разговаривали. У стены собора
сидели на могильных плитах Брегель и товарищ Зоя. Я подошёл к ним. — Ваши одеты довольно
кокетливо, — сказала Брегель. — А спальни для них
приготовлены? — спросила товарищ Зоя. — Обойдёмся без спален, —
ответил я и поспешно заинтересовался новым явлением. Окружённое колонистами ступицынского
отряда, в ворота монастыря медленно и тяжело входило наше свиное стадо. Оно
шло тремя группами: впереди матки, за ними молодняк и сзади папаши. Их
встречал, осклабясь в улыбке, Волохов со своим штабом, и Денис Кудлатый уже
любовно почёсывал за ухом у нашего общего любимца, пятимесячного Чемберлена,
названного так в память о знаменитом ультиматуме этого деятеля. Стадо направилось к приготовленным для
него загородкам, и в ворота вошли занятые увлекательной беседой Ступицын,
Шере и Халабуда. Халабуда размахивал одной рукой, а другой прижимал к сердцу
самого маленького и самого розового поросёнка. — Ох, и свиньи же у них! —
сказал Халабуда, подходя к нашей группе. — Если у них и люди такие, как
свиньи, толк будет, будет, я тебе говорю. Брегель поднялась с могильного камня и
сказала строго: — Вероятно, всё-таки товарищ
Макаренко главную свою заботу обращает на людей? — Сомневаюсь, — сказала
Зоя, — для свиней место приготовлено, а для людей — обойдутся. Брегель вдруг заинтересовать таким
оригинальным положением: — Да, Зоя верно отметила. Интересно,
что скажет товарищ Макаренко, при этом не свиновод Макаренко, а педагог
Макаренко? Я был очень поражён откровенной
неприязнью этих слов, но не захотел в этот день отвечать такой же откровенной
грубостью: — Разрешите этим двум деятелям
ответить, так, сказать, коллективно. — Пожалуйста. — Видите ли, колонисты здесь
хозяева, а свиньи — подопечные. — А вы кто? — спросила Брегель,
глядя в сторону. — Если хотите, я ближе к хозяевам. — Но для вас спальня обеспечена? — Я тоже обхожусь без спальни. Брегель досадливо передёрнула плечами и
сухо предложила товарищу Зое: — Прекратим эти разговоры. Товарищ
Макаренко любит острые положения. Халабуда громко захохотал: — Что ж тут плохого? И правильно
делает, ха — острые положения! А на что ему тупые положения? Я нечаянно улыбнулся, и поэтому Зоя на
меня снова напала: — Я не знаю, какое это положение,
острое или тупое, если людей нужно воспитывать по образцу свиней. Товарищ Зоя включила какие‑то
сердитые моторы, и выпуклые глаза её засверлили моё существо со скоростью
двадцати тысяч оборотов в секунду. Я даже испугался. Но в эту минуту прибежал
со своей трубой румяный, возбуждённый Синенький и залепетал приблизительно с
такой же скоростью: — Там… Лапоть сказал… а Коваль
говорит: подожди. А Лапоть ругается и говорит: я тебе сказал, так и делай,
да… А ещё говорит: если будешь волынить… и хлопцы тоже… Ой, спальни какие, ой‑ой‑ой,
и хлопцы говорят: нельзя терпеть, а Коваль говорит — с вами посоветуется… — Я понимаю, что говорят хлопцы и
что говорит Коваль, но никак не пойму, чего ты от меня хочешь? Синенький застыдился: — Я ничего не хочу… А только Лапоть
говорит… — Ну? — А Коваль говорит: посоветуемся… — Что именно говорит Лапоть? Это
очень важно, товарищ Синенький. Синенькому так понравился мой вопрос, что
он даже не расслышал его: — А? — Что сказал Лапоть? — Ага… Он сказал: давай сигнал на
сбор. — Вот это и нужно было сказать с
самого начала. — Так я ж говорил вам… Товарищ Зоя взяла двумя пальцами румяные
щеки Синенького и обратила его губы в маленький розовый бантик: — Какой прелестный ребёнок! Синенький вырвался из ласковых рук Зои,
вытер рукавом рубашки рот и обиженно закосил на Зою: — Ребёнок… Смотри ты!.. А если бы я
так сделал?.. И вовсе не ребёнок… А колонист вовсе. Халабуда легко поднял Синенького на руки
вместе с его трубой. — Хорошо сказал, честное слово,
хорошо, а всё-таки ты поросёнок. Синенький с удовольствием принял
предложенную ему партию и против поросёнка не заявил протеста. Зоя и это
отметила: — Кажется, звание поросёнка у них
наиболее почётное. — Да брось! — сказал недовольно
Халабуда и опустил Синенького на землю. Собирался разгореться какой‑то
спор, но пришёл Коваль, а за Ковалем и Лапоть. Коваль по‑деревенски стеснялся
начальства и моргал из‑за плеча Брегель, предлагая мне отойти в сторонку
и поговорить. Лапоть начальства не стеснялся: — Он, понимаете, думал, Коваль, что
для него здесь пуховые перины приготовлены. А я считаю — ничего не нужно
откладывать. Сейчас собрание, и прочитаем им нашу декларацию. Коваль покраснел от необходимости говорить
при начальстве, да ещё при «бабском», но от изложения своей точки зрения не
отказался: — На что мне твои перины, и не
говори глупостей! А только — чи заставим мы их подчиниться нашей декларации?
И как ты его заставишь? Чи за комир (воротник) его брать, чи за груды? Коваль опасливо глянул на Брегель, но
настоящая опасность грозила с другой стороны: — Как это: за груды? — тревожно
спросила товарищ Зоя. — Да нет, это ж только так
говорится, ещё больше покраснел Коваль. — На что мне ихние груды, хай
им! Я завтра пойду в горком, нехай меня завтра на село посылает… — А вот вы сказали: «мы заставим».
Как это вы хотите заставить? Коваль от озлобления сразу потерял
уважение к начальству и даже ударился в другую сторону: — Та ну его к… Якого чёрта! Чи тут
работа, чи теревени (болтовня) бабськи… К чёртову дьяволу!.. И быстро ушёл к клубу, пыльными сапогами
выворачивая из куряжской почвы остатки монастырских кирпичных тротуаров. Лапоть развёл руками перед Зоей: — Я вам это могу объяснить, как
заставить. Заставить — это значит… ну, значит, заставить, тай годи! — Видишь, видишь? — подпрыгнула
товарищ Зоя перед Брегель. — Ну, что ты теперь скажешь? — Синенький, играй сбор, —
приказал я. Синенький вырвал сигналку из рук
Халабуды, задрал её к крестам собора и разорвал тишину отчётливым, задорно‑тревожным
стаккато. Товарищ Зоя приложила руки к ушам: — Господи, трубы эти!.. Командиры!..
Казарма!.. — Ничего, — сказал
Лапоть, — зато видите, вы уже поняли, в чём дело. — Звонок гораздо лучше, — мягко
возразила Брегель. — Ну что вы: звонок! Звонок —
дурень, он всегда одно и то же кричит. А это разумный сигнал: общий сбор. А
есть ещё «сбор командиров», «спать», а есть ещё тревога. Ого! Если вот Ванька
затрубит тревогу, так и покойник на пожар выскочит, и вы побежите. Из‑за углов флигелей, сараев, из‑за
монастырских стен показались группы колонистов, направляющиеся к клубу.
Малыши часто срывались на бег, но их немедленно тормошили разные случайные
впечатления. Горьковцы и куряжане уже смешались и вели какие‑то беседы,
по всем признакам имевшие характер нравоучения. Большинство куряжан всё же
держалось в стороне. В пустом прохладном клубе стали все
тесной толпой, но белые сорочки горьковцев отделились ближе к алтарному
возвышению, и я заметил, что это делалось по указанию Таранца, на всякий
случай концентрировавшего силы. Бросалась в глаза малочисленность
ударного кулака горьковцев. На четыреста человек собрания их было десятков
пять: второй, третий и десятый отряды возились с устройством скота, да у
Осадчего на Рыжове осталось человек двадцать, не считая рабфаковцев. Кроме
того, наши девочки в счёт не шли. Их очень ласково, почти трогательно, с
поцелуями и причитаниями приняли куряжские девчата и разместили в своей
спальне, которую недаром Оля Ланова с таким увлечением приводила в порядок. Перед тем как открыть собрание, Жорка
Волков спросил у меня шёпотом: — Значит, действовать прямо? — Действуй прямо, — ответил я. Жорка вышел на алтарное возвышение и
приготовился читать то, что мы все шутя называли декларацией. Это было
постановление комсомольской организации горьковцев, постановление, в которое
Жорка, Волохов, Кудлатый, Жевелий и Горьковский вложили пропасть инициативы,
остроумия, широкого русского размаха и скрупулёзной арифметики, прибавив к
этому умеренную дозу нашего горьковского перца, хорошей товарищеской любви и
любовной творческой жестокости. «Декларация» считалась до тех пор
секретным документом, хотя в обсуждении её принимали участие очень многие —
она обсуждалась несколько раз на совещании членов бюро в Куряже, а во время моей
поездки в колонию была ещё раз просмотрена и проверена с Ковалем и
комсомольским активом. Жорка сказал небольшое вступительное
слово: — Товарищи колонисты, будем говорить
прямо: чёрт его знает, с чего начинать! Но вот я вам прочитаю постановление
ячейки комсомола, и вы сразу увидите, с чего начинать и как оно всё пойдёт.
Сейчас ты не работаешь и не комсомолец, и не пионер, чёрте‑шо, сидишь в
грязи, и что ты такое есть в самом деле? С какой точки тебя можно
рассматривать? Прямо с такой точки: ты есть продовольственная база для вшей,
для клопов, тараканов, блох и всякой сволочи. — А мы виноваты, что ли! —
крикнул кто‑то. — А как же, конечно,
виноваты, — немедленно отозвался Жорка. — Вы виноваты, и здорово
виноваты. Какое вы имеете право расти дармоедами, и занудами, и сявками? Не
имеете права. Не имеете права, и всё! И грязь у вас в то же время. Какой же
человек имеет право жить в такой грязи? Мы свиней каждую неделю с мылом моем,
надо вам посмотреть. Вы думаете, какая‑нибудь свинья не хочет мыться
или говорит: "Пошли вы вон от меня с вашим «мылом»? Ничего подобного:
кланяется и говорит: «Спасибо». А у вас мыла нет два месяца… — Так не давали, — сказал с
горькой обидой кто‑то из толпы. Круглое лицо Жорки, ещё не потерявшее
синих следов ночной встречи с классовым врагом, нахмурилось и поострело. — А кто тебе должен давать? Здесь ты
хозяин. Ты сам должен считать, как и что. — А у вас кто хозяин? Может,
Макаренко? — спросил кто‑то и спрятался в толпе. Головы повернулись в сторону вопроса, но
только круги таких же движений ходили на том месте, и несколько лиц в центре
довольно ухмылялись. Жорка широко улыбнулся: — Вот дурачьё! Антону Семёновичу мы
доверяем, потому что он наш, и мы действуем вместе. А это здоровый дурень у
вас спросил. А только пусть он не беспокоится, мы и таких дурней научим, а
то, понимаете, сидит и смотрит по сторонам: где ж мой хозяин? В клубе грохнули хохотом: очень удачно
Жорка сделал глупую морду растяпы, ищущего хозяина. Жорка продолжал: — В советской стране хозяин есть
пролетарий и рабочий. А вы тут сидели на казённых харчах, гадили под себя, а
политической сознательности у вас, как у петуха. Я уже начинаю беспокоиться: не слишком ли
Жорка дразнит куряжан, не мешало бы поласковее. И в этот же момент тот же
неуловимый голос крикнул: — Посмотрим, как вы гадить будете! По клубу прошла волна сдержанного,
вредного смеха и довольных, понимающих улыбок. — Можешь свободно смотреть, —
серьёзно‑приветливо сказал Жорка. Я тебе могу даже кресло возле уборной
поставить, сиди себе и смотри. И даже очень будет для тебя полезно, а то и на
двор ходить не умеешь. Это всё-таки хоть и маленькая квалификация, а знать
каждому нужно. Хоть и краснели куряжане, а не могли
отказаться от смеха, держались друг за друга и пошатывались от удовольствия.
Девочки пищали, отвернувшись к печке, и обижались на оратора. Только
горьковцы деликатно сдерживали улыбку, с гордостью посматривая на Жорку. Куряжане пересмеялись, и взоры их,
направленные на Жорку, стали теплее и вместительнее, точно и на самом деле
они выслушали от Жорки вполне приемлемую и полезную программу. Программа имеет великое значение в жизни
человека. Даже самый никчёмный человечишка, если видит перед собой не простое
пространство земли с холмами, оврагами, болотами и кочками, а пусть и самую
скромную перспективу — дорожки или дороги с поворотами, мостиками, посадками
и столбиками, — начинает и себя раскладывать по определённым этапикам,
веселее смотрит вперёд, и сама природа в его глазах кажется более
упорядоченной: то — левая сторона, то — правая, то — ближе к дороге, а то —
дальше. Мы сознательно рассчитывали на великое
значение всякой перспективности, даже такой, в которой нет ни одного пряника,
ни одного грамма сахара. Так именно и была составлена декларация
комсомольской ячейки, которую, наконец, Жорка начал читать перед собранием: "Постановление ячейки ЛКСМ трудовой
колонии имени Горького от 15 мая 1926 года. 1. Считать все отряды старых горьковцев и
новых в Куряже распущенными и организовать немедленно новые двадцать отрядов
в таком составе… (Жорка прочитал список колонистов с разделением на отряды и
имена командиров отдельно). 2. Секретарём совета командиров остаётся
Лапоть, заведующим хозяйством — Денис Кудлатый и кладовщиком — Алексей
Волков. 3. Совету командиров предлагается
провести в жизнь всё намеченное в этом постановлении и сдать колонию в полном
порядке представителям Наркомпроса и Окрисполкома в день первого снопа,
который отпраздновать, как полагается. 4. Немедленно, то есть до вечера 17 мая,
отобрать у воспитанников бывшей куряжской колонии всю их одежду и бельё, всё
постельное бельё, одеяла, матрацы, полотенца и прочее, не только казённое,
но, у кого есть, и своё, сегодня же сдать в дезинфекцию, а потом в починку. 5. Всем воспитанникам и колонистам выдать
трусики и голошейки, сшитые девочками в старом колонии, а вторую смену выдать
через неделю, когда первая будет отдана в стирку. 6. Всем воспитанникам, кроме девочек,
остричься под машинку и получить немедленно бархатную тюбетейку. 7. Всем воспитанникам сегодня выкупаться,
где кто может, а прачечную предоставить в распоряжение девочек. 8. Всем отрядам не спать в спальнях, а
спать на дворе, под кустами или где кто может, там, где выберет командир, до
тех пор, пока не будет закончен ремонт и оборудование новых спален в бывшей
школе. 9. Спать на тех матрацах, одеялах и
подушках, которые привезены старыми горьковцами, а сколько придётся на отряд,
делить без спора, много или мало, всё равно. 10. Никаких жалоб и стонов, что не на чём
спать, чтобы не было, а находить разумные выходы из положения. 11. Обедать в две смены целыми отрядами и
из отряда в отряд не лазить. 12. Самое серьёзное внимание обратить на
чистоту. 13. До 1 августа мастерским не работать,
кроме швейной, а работать на таких местах: Разобрать монастырскую стену и из кирпича
строить свинарню на 300 свиней. Покрасить везде окна, двери, перила,
кровати. Полевые и огородные работы. Отремонтировать всю мебель. Произвести генеральную уборку двора и
всего ската горы во все стороны, провести дорожки, устроить цветники и
оранжерею. Пошить всем колонистам хорошую пару
костюмов и купить к зиме обувь, а летом ходить босиком. Очистить пруд и купаться. Насадить новый сад на южном склоне горы. Приготовить станки, материалы и
инструмент в мастерских для работы с августа". Несмотря на свою внешнюю простоту, декларация
произвела на всех очень сильное впечатление. Даже нас, её авторов, она
поражала жестокой определённостью и требовательностью действия. Кроме
того, — это потом особенно отмечали куряжане — она вдруг показала всем,
что наша бездеятельность перед приездом горьковцев прикрывала крепкие
намерения и тайную подготовку, с пристальным учётом разных фактических
явлений. Комсомольцами замечательно были
составлены новые отряды. Гений Жорки, Георгиевского и Жевелия позволил им
развести куряжан по отрядам с аптекарской точностью, принять во внимание узы
дружбы и бездны ненависти, характеры, наклонности, стремления и уклонения.
Недаром в течение двух недель передовой сводный ходил по спальням. С таким же добросовестным вниманием были
распределены и горьковцы: сильные и слабые, энергичные и шляпы, суровые и
весёлые, люди настоящие и люди приблизительные — все нашли для себя место в
зависимости от разных соображений. Даже для многих горьковцев решительные
строчки декларации были новостью; куряжане же все встретили Жоркино чтение в
полном ошеломлении. Во время чтения кое‑кто ещё тихонько спрашивал
соседа о плохо расслышанном слове, кто‑то удивлённо подымался на носки
и оглядывался, кто‑то сказал даже: «Ого!» в самом сильном месте
декларации, но, когда Жорка закончил, в зале стояла тишина, и в тишине
несмело подымались еле заметные, молчаливые вопросики: что делать? Куда
броситься? Подчиниться, протестовать, бузить? Аплодировать, смеяться или
крыть? Жорка скромно сложил листик бумаги.
Лапоть иронически‑внимательно провёл по толпе своими припухлыми веками
и ехидно растянул рот: — Мне это не нравится. Я старый
горьковец, я имел свою кровать, постель, своё одеяло. А теперь я должен спать
под кустом. А где этот кустик? Кудлатый, ты мой командир, скажи, где этот
кустик? — Я для тебя уже давно выбрал. — На этом кустике хоть растёт что‑нибудь?
Может, этот кустик с вишнями или яблоками? И хорошо б соловья… Там есть
соловей, Кудлатый? — Соловья пока нету, горобцы есть. — Горобцы? Мне лично горобцы мало
подходят. Поют они бузово, и потом — неаккуратные. Хоть чижика какого‑нибудь
посади. — Хорошо, посажу чижика! —
хохочет Кудлатый. — Дальше… — Лапоть страдальчески
оглянулся. — Наш отряд третий… Дай‑ка список… Угу… Третий… Старых
горьковцев раз, два, три… восемь. Значит, восемь одеял, восемь подушек и
восемь матрацев, а хлопцев в отряде двадцать два. Мне это мало нравится. Кто
тут есть? Ну, скажем, Стегний. Где тут у вас Стегний? Подыми руку. А ну, иди
сюда! Иди, иди, не бойся! На алтарное возвышение вылез со времён
каменного века не мытый и не стриженный пацан, с головой, выгоревшей вконец,
и с лицом, на котором румянец, загар и грязь давно обратились в сложнейшую
композицию, успевшую уже покрыться трещинами. Стегний смущённо переступал на
возвышении чёрными ногами и неловко скалил на толпу неповоротливые глаза и
ярко‑белые большие зубы: — Так это я с тобой должен спать под
одним одеялом? А скажи, ты ночью здорово брыкаешься? Стегний пыхнул слюной, хотел вытереть рот
кулаком, но застеснялся своего чёрного кулака и вытер рот бесконечным подолом
полуистлевшей рубахи. — Не… — Так… Ну, а скажи, товарищ Стегний,
что мы будем делать, если дождь пойдёт? — Тикать, ги‑ги… — Куда? Стегний подумал и сказал: — А хто его знае. Лапоть озабоченно оглянулся на Дениса: — Денис, куда тыкатымем по случаю
дождя? Денис выдвинулся вперёд и по‑хохлацки
хитро прищурился на собрание: — Не знаю, как другие товарищи
командиры думают на этот счёт, и в декларации, собственно говоря, в этом
месте упущение. От же, я так скажу: если в случае дождь или там другое что —
третьему отряду бояться нечего. Речка близко, поведу отряд в речку.
Собственно говоря, если в речку залезть, так дождь ничего, а если ещё
нырнуть, ни одна капля не тронет. И не страшно, и для гигиены полезно. Денис невинно взглянул на Лаптя и отошёл
в сторону. Лапоть вдруг рассердился и закричал на задремавшего в созерцании
великих событий Стегния. — Ты чув? Чи ни? — Чув, — сказал весело Стегний. — Ну, так смотри, спать вместе
будем, на моём одеяле, чёрт с тобой. Только я раньше тебя выстираю в этой
самой речке и срежу у тебя шерсть на голове. Понял? — Та понял, — улыбнулся
Стегний. Лапоть сбросил с себя дурашливую маску и
придвинулся ближе к краю помоста: — Значит, всё ясно? — Ясно! — закричали в разных
местах. — Ну, раз ясно, будем говорить
прямо: постановление это не очень, конечно, такое… приятное. А надо всё-таки
принять нашим общим собранием, другого хода нет. Он вдруг взмахнул рукой безнадёжно и с
неожиданной горькой слезой сказал: — Голосуй, Жорка! Собрание закатилось смехом. Жорка вытянул
руку вперед: — Голосую: кто за наше
постановление, подними руку! Лес рук вытянулся вверх. Я внимательно
пересмотрел ряды всех моей громады. Голосовали все, в том числе и группа
Короткова у входных дверей. Девочки подняли розовые ладони с торжественной
нежностью и улыбались, склонив головы набок. Я был очень удивлён: почему
голосовали коротковцы? Сам Коротков стоял, прислонившись к стене, и терпеливо
держал поднятую руку, спокойно рассматривая прекрасными глазами нашу компанию
на сцене. Торжественность этой минуты была нарушена
появлением Борового. Он ввалился в зал в настроении чрезвычайно мажорном,
споткнулся о двери, оглушительно рыкнул огромной гармошкой и заорал: — А, хозяева приехали? Сейчас…
постойте… тут сыграю, я знаю такой… туш. Коротков опустил руку на плечо Борового и
о чём-то засигналил ему глазами. Боровой задрал голову, открыл рот и затих,
но гармошку продолжал держать очень агрессивно — ежеминутно можно было
ожидать самой настойчивой музыки. Жорка объявил результаты голосования. — За принятие предложения ячейки
комсомола триста пятьдесят четыре голоса. Значит, будем считать, что принято
единогласно. Горьковцы, улыбаясь и переглядываясь,
захлопали, куряжане с загоревшимся чувством подхватили в эту непривычную для
них форму выражения, и, может быть, в первый раз со времени основания
монастыря под его сводами раздались радостные лёгкие звуки аплодисментов
человеческого коллектива. Малыши хлопали долго, отставляя пальцы, то задирая
руки над головой, то перенося их к уху, хлопали до тех пор, пока на
возвышение не вышел Задоров. Я не заметил его прихода. Видимо, он что‑то
привёз с Рыжова, потому что и лицо и костюм его были измазаны мелом. Теперь,
как и всегда, он вызывал у меня ощущение незапятнанной чистоты и открытой
простой радости. Он и сейчас прежде всего, предложил вниманию собрания свою
пленительную улыбку. — Друзья, хочу сказать два слова.
Вот что: я самый первый горьковец, самый старый и когда‑то был самый
плохой. Антон Семёнович, наверное, это хорошо помнит. А теперь я уже студент
первого курса Технологического института. Поэтому слушайте: вы приняли сейчас
хорошее постановление, замечательное, честное слово, только трудное ж, прямо
нужно говорить, ой, и трудное ж! Он завертел головой от трудности. В зале
рассмеялись любовно. — Но всё равно. Раз приняли — кончено.
Это нужно помнить. Может быть, кто подумает сейчас: принять можно, а там
будет видно. Это не человек, нет, это хуже гада — это, понимаете, гадик. По
нашему закону, если кто не выполняет постановлений общего собрания — одна
дорога: в двери, за ворота! Задоров крепко сжал побелевшие губы,
поднял кулак над головой. — Выгнать! — сказал резко,
опуская кулак. Толпа замерла, ожидая новых ужасов, но
сквозь толпу уже пробирался Карабанов, тоже измазанный, только уже во что‑то
чёрное, и спросил в тишине удивления: — Кого тут выгонять нужно? Я зараз! — Это вообще, — пропел
безмятежно Лапоть. — Я могу и вообще и как угодно. А
только, чего вы тут стоите и понадувались, як пип на ярмарку? — Та мы ничего, — сказал кто‑то. — О так! Приехали, тай головы
повесили? Га? А музыка где? — А есть, есть музыка, как
же! — в восторге закричал Боровой и рявкнул гармошкой. — О! И музыка! Давай круг! А ну,
девчата, годи там биля печи греться, кто гопака! Наталко, серденько! Смотри,
хлопцы, какая у нас Наталка! Хлопцы с весёлой готовностью уставились
на лукавоясные очи Наташи Петренко, на её косы и на косой зубик в
зарумянившейся её улыбке. — Гопак, значит, заказуете,
товарищ? — с изысканной улыбкой маэстро спросил Боровой и снова рявкнул
гармошкой. — А тебе чего хочется? — Я могу и вальс, и падыпатынер, и
дэспань, и всё могу. — Падыпатынер, папаша, потом, а
зараз давай гопак. Боровой снисходительно улыбнулся
хореографической нетребовательности Карабанова, подумал, склонил голову,
вдруг растянул свой инструмент и заиграл какой‑то особенный, дробный и
стрекочущий танец. Карабанов размахнулся руками и с места в карьер бросился в
стремительную, безоглядную присядку. Наташины ресницы вдруг взмахнулись над
вспыхнувшим лицом и опустились. Не глядя ни на кого, она неслышно отплыла от
берега, чуть волнуя отлаженную в складках, парадно‑скромную юбку. Семён
ахнул об пол каблуком и пошёл вокруг Наташи с нахальной улыбкой, рассыпая по
всему клубу отборный частый перебор и выбрасывая во все стороны десятки
ловких, разговорчивых ног. Наташа подняла ресницы и глянула на Семёна тем
особенным лучом, который употреблялся только в гопаке и который переводится
на русский язык так: «Красивый ты, хлопче, и танцуешь хорошо, а только
смотри, осторожнее». Боровой прибавил перца в музыке, Семён
прибавил огня, прибавила Наташа радости: уже и юбка у неё не чуть волнуется,
а целыми хороводами складок и краёв летает вокруг Наташиных ножек. Куряжане
шире раздвинули круг, спешно вытерли носы рукавами и загалдели о чём-то.
Дробь и волны, и стремительность гопака пошли кругом по клубу, подымая к
высокому потолку забористый ритм гармошки. Тогда откуда‑то из глубины толпы
протянулись две руки, безжалостно раздвинули пацанью податливую икру, и
Перец, избоченившись, стал над самым водоворотом танца, подергивая ногой и
подмигивая Наталке. Милая, нежная Наташа гордо повела на Переца чуть‑чуть
приоткрытым глазом, перед самым его носом шевельнула вышитым чистеньким
плечиком и вдруг улыбнулась ему просто и дружески, как товарищ, умно и
понятливо, как комсомолец, только что протянувший Перецу руку помощи. Перец не выдержал этого взгляда. В
бесконечном течении мгновения он тревожно оглянулся во все стороны, взорвал в
себе какие‑то башни и бастионы и, взлетев на воздух, хлопнул старой
кепкой об пол и бросился в водоворот. Семён оскалил зубы, Наташа ещё быстрее,
качаясь, поплыла мимо носов куряжан. Перец танцевал что‑то своё,
дурашливо ухмыляющееся, издевательски остроумное и немножко блатное. Я глянул. Затаенные глаза Короткова
серьёзно прищурились, еле заметные тени пробежали с белого лба на
встревоженный рот. Он кашлянул, оглянулся, заметил мой внимательный взгляд и
вдруг начал пробираться ко мне. Ещё отделённый от меня какой‑то
фигурой, он протянул мне руку и сказал хрипло: — Антон Семёнович! Я с вами сегодня
ещё не здоровался. — Здравствуй, — улыбнулся я,
разглядывая его глаза. Он повернул лицо к танцу, заставил себя
снова посмотреть на меня, вздёрнул голову и хотел сказать весело, но сказал
по‑прежнему хрипло: — А здорово танцуют, сволочи! |
|
||||
|
|
9. Преображение
Преображение началось немедленно после
общего собрания и продолжалось часа три — срок для всякого преображения
рекордный. Когда Жорка махнул рукой в знак того, что
собрание закрывается, в клубе начался галдёж. Стоя на цыпочках, командиры
орали во всю глотку, призывая членов своих отрядов. В клубе возникло два
десятка течений, и несколько минут эти течения, сталкиваясь и пересекаясь,
бурлили в старых стенах архиерейской церкви. По отдельным углам клуба, за
печками, в нишах и на средине начались отдельные митинги, и каждый из них
представлял грязно‑серую толпу оборванцев, среди которых не спеша
поворачивались белые плечи горьковцев. Потом из дверей клуба повалили колонисты
во двор и к спальням. Ещё через пять минут и в клубе и во дворе стало тихо, и
только отрядные меркурии пролетали со срочными поручениями, трепеща
крылышками на ногах. Я могу немного отдохнуть. Я подошёл к группе женщин на церковной
паперти и с этого возвышения наблюдал дальнейшие события. Мне хотелось
молчать и не хотелось ни о чём думать. Екатерина Григорьевна и Лидочка,
радостные и успокоенные, слабо и лениво отбивались от каких‑то вопросов
товарища Зои. Брегель стояла у пыльной решетки паперти и говорила Гуляевой: — Я вижу, эта атрибутика создаёт
впечатление стройности. Ну, так что же? Ведь это всё внешнее. Гуляева оглянулась на меня: — Антон Семёнович, вы отвечайте, я
ничего не понимаю в этих вещах. — Я в теории тоже разбираюсь
слабо, — ответил я неохотно. Замолчали. Я всё же мог организовать
минимальную порцию отдыха и, оглянувшись, заметил тот прекрасный предмет,
который издавна называется миром. Было около двух часов дня. По ту сторону
пруда под солнцем нагревался соломенный лишайник села. На небе замерли белые
спокойные тучки, остановившиеся над Куряжем, вероятно, по специальному
расписанию, впредь до распоряжения: в какой‑то облачный резерв. Я знал, что сейчас делается в колонии. В
спальнях ребята складывают кровати, вытряхивают солому из матрацев и подушек,
связывают всё это в узлы. В узлах — одеяла, простыни, старые и новые ботинки,
всё. В каретном сарае Алёшка Волков принимает всё это барахло, записывает и
направляет в дезкамеру. Дезкамера приехала из города. Она устроена на
колёсах. Дезкамера работает на току, и распоряжается там Денис Кудлатый. На
противоположной паперти, с той стороны собора, Дмитрий Жевелий выдаёт
командирам отрядов или их уполномоченным по списку новую одежду и мыло. Из‑за стены собора вдруг выпорхнул
озабоченный Синенький и, протягивая свою трубу в сторону, заторопился: — Сказал Таранец сигналить сбор
командиров в столовой. — Давай! Синенький зашуршал невидимыми крылышками
и перепорхнул к дверям столовой. Остановившись в дверях, он несколько раз
проиграл короткий, из трёх звуков сигнал. Брегель внимательно рассмотрела
Синенького и обернулась ко мне: — Почему этот мальчик всё время спрашивает
вашего разрешения давать… эти самые… сигналы? Это ведь такой пустяк. — У нас есть правило: если сигнал
даётся вне расписания, меня должны поставить в известность. Я должен знать. — Это всё, конечно, довольно… я
всё-таки скажу… атрибутно! Но это же только внешность. Вы этого не думаете? Я начинал злиться. С какой стати они
пристали ко мне именно сегодня? И, кроме того, чего они, собственно, хотят?
Может быть, им жаль Куряжа? — Ваши знамёна, барабаны, салюты —
всё это ведь только внешне организует молодежь. Я хотел сказать: «Отстань!» — но сказал
немного вежливее: — Вы представляете себе молодежь
или, скажем, ребёнка в виде какой‑то коробочки: есть внешность,
упаковка, что ли, а есть внутренность — требуха. По вашему мнению, мы должны
заниматься только требухой? Но ведь без упаковки вся эта драгоценная требуха
рассыплется. Брегель злым взглядом проводила
пробежавшего к столовой Ветковского. — Всё-таки у вас очень похоже на
кадетский корпус… — Знаете что, Варвара
Викторовна, — по возможности приветливо сказал я, — давайте
прекратим. Нам очень трудно говорить с вами без… — Без чего? — Без переводчика. Массивная фигура Брегель тяжело
оттолкнулась от решетки и двинулась на меня. Я за спиной сжал кулаки, но она
откуда‑то из‑за воротника вытащила кустарно сделанную улыбку и не
спеша надела её на лицо, как близорукие надевают очки. — Переводчики найдутся, товарищ
Макаренко. — Подождём. От ворот подошёл первый отряд, и его
командир Гуд, быстро оглядев паперть, спросил громко: — Так ты говоришь, через эту дверь
не ходят, Устименко? Один из куряжан, смуглый мальчик лет
пятнадцати, протянул руку к дверям: — Нет, нет… Говорю тебе верно. Никто
не ходит. Они всегда заперты. Ходят на те двери и на те двери, а на эти не
ходят, верно тебе говорю. — У них там в середине шкафы стоят.
Свечи и всякое… — сказал кто‑то сзади. Гуд взбежал на паперть, повертелся на
ней, засмеялся: — Так чего нам нужно? Ого! Тут
шикарно будет. На чертей им такое шикарное крыльцо? И навес есть, если дождь…
А только твёрдо будет. Чи не очень твёрдо? Карпинский, старый горьковец и старый
сапожник отряда Гуда, весело присмотрелся к каменным плитам паперти: — Ничего не твёрдо: у нас шесть
тюфяков и шесть одеял. А может, ещё что‑нибудь найдём. — Правильно, — сказал Гуд. Он повернулся лицом к пруду и объявил: — Чтобы все знали: это крыльцо
занято первым отрядом. И никаких разговоров! Антон Семёнович, вы свидетель. — Добре! — Значит, приступайте… кто тут?..
Стой! Гуд вытащил из кармана список: — Слива и Хлебченко, какие вы
будете, покажитесь. Хлебченко — маленький, худенький,
бледный. Чёрные прямые волосы растут у него почему‑то не вверх, а
вперёд, а нос в чёрных крапинках. Грязная рубаха у него до колен, а
оторванная кромка рубахи спускается ещё ниже. Он улыбается неумело и
оглядывается. Гуд критически его рассматривает и переводит глаза на Сливу.
Слива такой же худой, бледный и оборванный, как и Хлебченко, но отличается от
него высоким ростом. На тонкой‑претонкой шее сидит у него торчком узкая
голова, и поражают полные румяные губы. Слива улыбается страдальчески и
посматривает на угол паперти. — Чёрт его знает, — говорит
Гуд, — чем вас тут кормят! Чего вы все такие худые… как собаки. Отряд
откормить нужно, Антон Семёнович! Какой же это отряд? Разве может быть такой
первый отряд? Не может! Пищи у нас хватит? Ну а как же! Лопать умеете? В отряде смеются. Гуд ещё раз недоверчиво
проводит взглядом по лицам Сливы и Хлебченко и говорит нежно: — Слушайте, голубчики, Слива и
Хлебченко. Сейчас это крыльцо нужно начисто вымыть. Понимаете, чем нужно
мыть? Водой. А куда воду наливать? В ведро. Карпинский, быстро, на носках:
получи у Митьки наше ведро и тряпку! И веник! Умеете мыть? Слива и Хлебченко кивают. Гуд
поворачивается к нам, стаскивает с головы тюбетейку и отводит руку далеко в
сторону: — Просим извинить, дорогие товарищи:
территория занята первым отрядом, и ничего не поделаешь. На том основании,
что здесь будет генеральная уборка, я вам покажу хорошее место, там есть и
скамейки. А здесь — первый отряд. Первый отряд с восхищением следит за этой
галантерейной процедурой. Я благодарю Гуда за хорошее место и скамейки и
отказываюсь. Прибежал, гремя вёдрами, Карпинский. Гуд
отдал последние распоряжения и махнул весело рукой: — А теперь стричься, бриться! Спускаясь с паперти, Брегель молчаливо‑внимательно
следит, как её собственные ноги ступают по ступеням. Мне страшно хочется,
чтобы гости скорее уехали. У той самой паперти, где работает магазин Жевелия
и где уже стоит очередь отрядных уполномоченных и группки их помощников и
носильщиков накладывают на плечи синие стопки трусиков и белые стопки рубах,
звенят вёдрами, зажимают под мышками коричневые коробки с мылом, стоит и фиат
окрисполкома. Сонный, скучный шофёр поглядывает на Брегель. Мы идём к воротам и молчим. Я не знаю,
куда нужно идти. Если бы я был один, я улёгся бы на травке возле соборной
стены и продолжал бы рассматривать мир и его прекрасные детали. До конца
нашей операции остаётся ещё больше часа, тогда меня снова захватят дела.
Одним словом, я хорошо понимаю тоскливые взгляды шофёра. Но из ворот выходит оживлённо‑говорливая,
смеющаяся группа, и на душе у меня снова радостно. Это восьмой отряд, потому
что впереди его я вижу прекрасной лепки фигуру Федоренко, потому что здесь
Корыто, Нечитайло, Олег Огнев. Мои глаза с невольным недоумением упираются в
совершенно новые фигуры, противоестественно несущие на себе непривычные для
меня одежды горьковцев. Наконец я начинаю соображать: здесь все бывшие
куряжане. Это и есть то самое преображение, на организацию которого мы
истратили две недели. Свежие, вымытые лица, ещё не потерявшие складок
бархатные тюбетейки на свежеостреньких головах мальчиков. И самое главное,
самое приятное: только что изготовленные весёлые и доверчивые взгляды, только
что зародившаяся грация чисто одетого, освободившегося от вшей человека. Федоренко со свойственной ему
величественно‑замедленной манерой отступает в сторону и говорит,
округлённо располагая солидные баритонные слова: — Антон Семёнович, можете принять
восьмой отряд Федоренко в полном, как полагается, порядке. Рядом с ним Олег Огнев растягивает
длинные, интеллигентно чуткие губы и сдержанно кланяется в мою сторону. — Крещение сих народов совершилось
при моём посильном участии. Отметьте где‑нибудь в записной книжке на
случай каких‑нибудь моих не столь удачных действий. Я дружески сжимаю плечи Олега, и делаю
это потому, что мне непростительно хочется его расцеловать и расцеловать
Федоренко и всех остальных моих замечательных, моих прекрасных пацанов.
Трудно мне что‑нибудь отмечать сейчас и в записной книжке, и в душе. В
душу мою вдруг налезло много всяких мыслей, соображений, образов,
торжественных хоралов и танцевальных ритмов. Я еле успеваю поймать что‑нибудь
за хвостик, как это пойманное исчезает в толпе, и что‑нибудь новое
кричит, привлекая нахально моё внимание. «Крещение и преображение, — по
дороге соображаю я, — всё какие‑то религиозные штуки». Но
улыбающееся лицо Короткова мгновенно затирает и эту оригинальную схему. Да,
ведь я сам настоял на зачислении Короткова в восьмой отряд. На лету поймав
мою остановку на Короткове, гениальный Федоренко обнимает его за плечи и
говорит, чуть‑чуть вздрагивая зрачками серых глаз: — Хорошего колониста дали нам в
отряд, Антон Семёнович. Я уже с ним говорил. Хороший командир по прошествии
некоторого времени. Коротков серьёзно смотрит мне в глаза и
говорит приветливо: — Я хочу потом с вами поговорить,
хорошо? Федоренко весело‑иронически
всматривается в лицо Короткова: — Какой ты чудак! Зачем тебе
говорить! Говорить не надо. Для чего это говорить? Коротков тоже внимательно приглядывается
к хитрому Федоренко: — Видишь… у меня особое дело… — Никакого у тебя особенного дела
нет. Глупости! — Я хочу, чтобы меня… тоже можно
было под арест… сажать. Федоренко хохочет: — О, чего захотел!.. Скоро, брат,
захотел!.. Это надо получить звание колониста, — видишь, значок? А тебя
ещё нельзя под арест. Тебе скажи: под арест, а ты скажешь: «За что? Я не
виноват». — А если и на самом деле не виноват? — Вот видишь, ты этого дела не
понимаешь. Ты думаешь: я не виноват, так это такое важное дело. А когда
будешь колонистом, тогда другое будешь понимать… как бы это сказать?..
Значит, важное дело — дисциплина, а виноват ты или, там, не виноват — это по‑настоящему
не такое важное дело. Правда ж, Антон Семёнович? Я кивнул Федоренко. Брегель рассматривала
нас, как уродцев в банке, и её щеки начинали принимать бульдожьи формы. Я
поспешил отвлечь её внимание от неприятных вещей: — А это что за компания? Кто же это? — А этот тот пацан… — говорит
Федоренко. — Боевой такой. Говорят, побили его крепко. — Верно, это отряд Зайченко, —
узнаю и я. — Кто его побил? — спрашивает
Брегель. — Избили ночью… здешние, конечно. — За что? Почему вы не сообщили?
Давно? — Варвара Викторовна, — сказал
я сурово, — здесь, в Куряже, на протяжении ряда лет издевались над
ребятами. Поскольку это мало вас интересовало, я имел основания думать, что и
этот случай недостоин вашего внимания… тем более что я заинтересовался им
лично. Брегель мою суровую речь поняла как
приглашение уезжать: Она сказала сухо: — До свидания. И направилась к машине, из которой уже
выглядывала голова товарища Зои. Я вздохнул свободно. Я пошёл навстречу
восемнадцатому отряду Вани Зайченко. Ваня вёл отряд торжественно. Мы
восемнадцатый отряд нарочно составили из одних куряжан; это придавало отряду
и Ваньке блеск особого значения. Ванька это понял. Федоренко громко
расхохотался: — Ах ты, шкеты такие!.. Восемнадцатый отряд приближался к нам,
щеголяя военной выправкой. Двадцать пацанов шли по четыре в ряд, держали ногу
и даже руками размахивали по‑военному. Когда это Зайченко успел
добиться такой милитаризации? Я решил поддержать военный дух восемнадцатого
отряда и приложил руку к козырьку фуражки: — Здравствуйте, товарищи! Но восемнадцатый отряд не был готов к
такому манёвру. Ребята загалдели как попало, и Ванька обиженно махнул рукой: — Вот ещё… граки! Федоренко в восторге хлопнул себя по
коленам: — Смотри ты, уже научился! Чтобы как‑нибудь разрешить
положение, я сказал: — Вольно, восемнадцатый отряд!
Расскажите, как купались… Пётр Маликов улыбнулся светло: — Купались? Хорошо купались. Правда
ж, Тимка? Одарюк отвернулся и сказал кому‑то
в плечо, сдержанно: — С мылом… Зайченко с гордостью посмотрел на меня: — Теперь каждый день с мылом будем.
У нас завхоз Одарюк, видите? Он показал на коричневую коробку в руках
Одарюка. — Два куска сегодня мыла вымазали:
аж два куска! Ну, так это для первого дня только. А потом меньше. А вот у нас
какой вопрос, понимаете… Конечно, мы не пищим… Правда ж, мы не пищим? —
обратился он к своим. — Ах ты, чёртовы пацаны! —
восхитился Федоренко. — Не пищим! Нет, мы не пищим! —
крикнули пацаны. Ваня несколько раз обернулся во все
стороны: — А только вопрос такой, понимаете? — Хорошо. Я понимаю: вы не пищите, а
только задаёте вопрос. Ваня вытянул губы и напружинил глаза: — Вот‑вот. Задаём вопрос: в
других отрядах есть старые горьковцы, хоть три, хоть пять. Так же? А у нас
нету. Нету, и всё! Когда Ваня произносил слово «нету», он
повышал голос до писка и делал восхитительное движение вытянутым пальцем от
правого уха в сторону. Вдруг Ваня звонко засмеялся: — Одеял нету! Нету, и все! И тюфяков.
Ни одного! Нету! Ваня ещё веселее захохотал, засмеялись и
члены восемнадцатого отряда. Я написал командиру восемнадцатого
записку к Алёшке Волкову: немедленно выдать шесть одеял и шесть матрацев. По дороге к речке началось большое
движение. Отряды колонистов заходили по ней, как на манёврах. За конюшней, среди зарослей бурьяна,
расположились четыре парикмахера, привезённые из города ещё утром. Куряжская
корка по частям отваливалась с организмов куряжан, подтверждая мою постоянную
точку зрения: куряжане оказались обыкновенными мальчиками, оживлёнными,
говорливыми и вообще «радостным народом». Я видел, с каким искренним восторгом
осматривают хлопцы свой новый костюм, с каким неожиданным кокетством
расправляют складки рубах, вертят в руках тюбетейки. Остроумный Алёшка
Волков, разобравшись в бесконечной ярмарке всяких вещей, расставленных вокруг
собора, прежде всего вытащил на поверхность единственное наше трюмо, и его в
первую очередь приладили два пацана на возвышении. И возле трюмо сразу
образовалась толпа желающих увидеть своё отражение в мире и полюбоваться им.
Среди куряжан нашлось очень много красивых ребят, да и остальные должны были
похорошеть в самом непродолжительном времени, ибо красота есть функция труда
и питания. У девочек было особенно радостно.
Горьковские девчата привезли для куряжских девчат специально для них сшитые
роскошные наряды: синяя сатиновая юбочка, заложенная в крупную складку,
хорошей ткани белая блузка, голубые носки и так называемые балетки. Кудлатый
разрешил девичьим отрядам затащить в спальню швейные машины, и там началась
обыкновенная женская вакханалия: перешивка, примерка, прилаживание. Куряжскую
прачечную на сегодняшний день мы отдали в полное распоряжение девчат. Я
встретил Переца и сказал ему строго: — Переоденься в спецовку и нагрей
девчатам котёл в прачечной. Только, пожалуйста, без волынки: одна нога здесь,
другая там. Перец вытянул ко мне поцарапанное своё
лицо, ткнул себя в грудь и спросил: — Это… чтобы я нагрел девчатам воды? — Да. Перец выпятил живот, надул щеки и заорал
на весь монастырь, козыряя рукой, как обыкновенно козыряют военные: — Есть нагреть воды! Вышло это у него достаточно нескладно, но
энергично. Но после такого парада Перец вдруг загрустил: — Так… А где ж я возьму спецовку?
Наш девятый отряд ещё не получил… Я сказал Перецу: — Детка! Может быть, нужно взять
тебя за ручку и повести переодеть? И, кроме того, скажи, сколько ещё времени
ты будешь здесь болтать языком? Окружающие нас ребята захохотали. Перец
завертел башкой и закричал уже без всякой парадности: — Сделаю!.. Сделаю, будьте покойны! И убежал. Лапоть снова трубил совет командиров, на
этот раз на паперти собора, где уже устраивал свою спальню отряд Гуда. Стоя на паперти, Лапоть сказал: — Командиры, усаживаться не будем,
на минутку только. Пожалуйста, сегодня же растолкуйте пацанам, как нужно носы
вытирать. Что это такое, ходят по всему двору, «сякаются». Потом другое:
насчёт уборной скажите, — говорил же Жорка на собрании. И дальше: Алёшка
ведь поставил сорные ящики, а бросают куда попало. — Да ты не спеши, раньше вон всякую
гадость прибрать нужно, какие там ящики! — улыбнулся Ветковский. — Брось, Костя! То прибрать, а то
порядок… А ещё путешественник! Да не забудьте, чтобы все знали наше правило,
а то потом скажут: «Не знали! Откуда мы знали?..» — Какое правило? — Наше правило насчёт плевать…
Повторите хором… Лапоть задирижировал рукой, и смеющиеся
командиры устроили хоровую декламацию: — «Раз плюнешь — три дня моешь». Ротозеи‑пацаны из куряжан,
внимавшие совету командиров со священным трепетом новоиспеченных масонов,
ойкнули и прикрыли рты ладонями. Лапоть распустил совет, а пацаны понесли
новый лозунг по временным отрядным логовам. Донесли его и до Халабуды,
который неожиданно для меня вылез из коровника, в соломе, в пыли, в каких‑то
кормовых налётах, и забасил: — Чёртовы бабы, бросили меня, теперь
пешком на станцию. Да. Раз плюнешь — три раза моешь! Здорово!.. Витька,
пожалей старика, ты здесь лошадиный хозяин, запряги какую клячонку, отвези на
станцию. Витька оглянулся на маститого Антона
Братченко, а Антон тоже мог похвастаться басом: — Какую там клячонку! Запряги
Молодца в кабриолет, отвези старика, он сегодня сам Зорьку вычистил. Давайте
вас теперь вычистим. Ко мне подошёл взволнованный Таранец в
повязке дежурного: — Там… агрономы какие‑то
живут… Отказались очистить спальни и говорят: никаких нам не нужно отрядов. — У них, кажется, чисто? — Был сейчас у них. Осмотрел кровати
и так… барахло на вешалке. Вшей много. И клопов. — Пойдём. В комнате агрономов был полный
беспорядок: видно, давно уже не убиралось. Воскобойников, назначенный
командиром отряда коровников, и ещё двое, зачисленные в его отряд,
подчинились постановлению, сдали свои вещи в дезинфекцию и ушли, оставив в
агрономическом гнезде зияющие дыры, брошенные обрывки и куски ликвидированной
осёдлости. В комнате было несколько человек. Они встретили меня угрюмо. Но я
и они знали, на чьей стороне победа, вопрос мог стоять только о форме
капитуляции. Я спросил: — Не желаете подчиниться
постановлению общего собрания? Молчание. — Вы были на собрании? Молчание. Таранец ответил: — Не были. — Я вам дал достаточно времени
думать и решать. Как вы себя считаете: колонистами или квартирантами? Молчание. — Если вы квартиранты, я могу вам
разрешить жить в этой комнате не больше десяти дней. Кормить не буду. — А кто нас будет кормить? —
сказал Святко. Таранец улыбнулся: — Вот чудаки! — Не знаю, — сказал я. — Я
не буду. — И сегодня обедать не дадите? — Нет. — Вы имеете право? — Имею. — А если мы будем работать? — Здесь будут работать только
колонисты. — Мы будем колонистами, только будем
жить в этой комнате. — Нет. — Так что ж нам делать? Я достал часы: — Пять минут можете подумать.
Скажете дежурному ваше решение. — Есть! — сказал Таранец. Через полчаса я снова проходил мимо
флигеля агрономов. Алёшка Волков запирал дверь флигеля на замок. Таранец
торчал тут ex officio. — Выбрались? — Ого! — засмеялся Таранец. — Они все в разных отрядах? — Да, по одному в разных отрядах. Через полтора часа за парадными столами,
накрытыми белыми скатертями, в неузнаваемой столовой, которую передовой
сводный ещё до зари буквально вылизал, украсив ветками и ромашками, и где,
согласно диспозиции, немедленно по прибытии с вокзала Алёшка Волков повесил
портреты Ленина, Сталина, Ворошилова и Горького, а Шелапутин с Тоськой
растянули под потолками лозунги и приветствия, между которыми неожиданным
торчком становилось в голове у зрителя: НЕ ПИЩАТЬ! Состоялся торжественный обед. Подавленные, вконец деморализованные
куряжане, все остриженные, вымытые, все в белых новых рубахах, вставлены в изящные
тоненькие рамки из горьковцев и выскочить из рамок уже не могут. Они тихонько
сидят у столов, сложив руки на коленях, и с глубоким уважением смотрят на
горки хлеба на блюдах и хрустально‑прозрачные графины с водой. Девочки в белых фартучках, Жевелий,
Шелапутин и Белухин в белых халатах, передвигаясь бесшумно, переговариваясь
шёпотом, поправляют последние ряды вилок и ножей, что‑то добавляют, для
кого‑то освобождают место. Куряжане подчиняются им расслабленно, как
больные в санатории, и Белухин поддерживает их, как больных, осторожно. Я стою на свободном пространстве, у
портретов, и вижу до конца весь оазис столовой, неожиданным чудом выросший
среди испачканной монастырской пустыни. В столовой стоит поражающая слух
тишина, но на румянце щек, на блеске глаз, на неловкой грации смущения она
отражается, как успокоенная правда, как таинство рождения чего‑то
нового. Так же бесшумно, почти незамеченные, в
двери входят один за другим трубачи и барабанщики и, тихонько оглядываясь,
озабоченно краснея, выравниваются у стены. Только теперь увидели их все, и
все неотрывно привязались к ним взглядом, позабыв об обеде. Таранец показался в дверях: — Под знамя встать! Смирно! Горьковцы привычно вытянулись.
Ошарашенные командой куряжане еле успевали оглянуться и упереться руками в
доски столов, чтобы встать, как были вторично ошарашены громом нашего
энергичного оркестра. Таранец ввёл наше знамя, уже без чехла,
уверенно играющее бодрыми складками алого шёлка. Знамя замерло у портретов,
сразу придав нашей столовой выражение нарядной советской торжественности. — Садитесь. Я сказал колонистам короткую речь, в
которой не поминал уже им ни о работе, ни о дисциплине, в которой не призывал
их ни к чему и не сомневался ни в чём. Я только поздравил их с новой жизнью и
высказал уверенность, что эта жизнь будет прекрасна, как только может быть
прекрасна человеческая жизнь. Я сказал колонистам: — Мы будем красиво жить, и радостно,
и разумно, потому что мы люди, потому что у нас есть головы на плечах и
потому что мы так хотим. А кто нам может помешать? Нет таких людей, которые
могли бы отнять у нас наш труд и наш заработок. Нет в нашем Союзе таких
людей. А посмотрите, какие люди есть вокруг нас. Смотрите, среди вас целый
день сегодня был старый рабочий, партизан, товарищ Халабуда. Он с вами
перекатывал поезд, разгружал вагоны, чистил лошадей. Посчитать трудно,
сколько хороших людей, больших людей, наших вождей, наших большевиков думают
о нас и хотят нам помочь. Вот я сейчас прочитаю вам два письма. Вы увидите,
что мы не одиноки, вы увидите, что вас любят, о вас заботятся: Письмо Максима
Горького председателю Харьковского исполкома Разрешите от души благодарить Вас за
внимание и помощь, оказанные Вами колонии имени Горького. Хотя я знаком с колонией только по
переписке с ребятами и заведующим, но мне кажется, что колония заслуживает
серьёзнейшего внимания и деятельной помощи. В среде беспризорных детей преступность
всё возрастает и наряду с превосходнейшими здоровыми всходами растёт и много
уродливого. Будем надеяться, что работа таких колоний, как та, которой Вы
помогли, покажет пути к борьбе с уродством, выработает из плохого хорошее,
как она уже научилась это делать. Крепко жму Ваш руку, товарищ. Желаю
здоровья, душевной бодрости и хороших успехов в вашей трудной работе. М. Горький Ответ
Харьковского исполкома Максиму Горькому Дорогой товарищ! Президиум Харьковского
окрисполкома просит Вас принять глубокую благодарность за внимание, оказанное
Вами детской колонии, носящей Ваше имя. Вопросы борьбы с детской беспризорностью
и детскими правонарушениями привлекают к себе наше особенное внимание и
побуждают нас принимать самые серьёзные меры к воспитанию и приспособлению их
к здоровой трудовой жизни. Конечно, задача эта трудна, она не может
быть выполнена в короткий срок, но к её разрешению мы уже подошли вплотную. Президиум исполкома убеждён, что работа
колонии в новых условиях прекрасно наладится, что в ближайшее же время эта
работа будет расширена и что общим дружным усилием её положение будет на
высоте, на которой должна стоять колония Вашего имени. Позвольте, дорогой товарищ, от всей души
пожелать Вам побольше сил и здоровья для дальнейшей благотворной
деятельности, для дальнейших трудов. Читая эти письма, я через верхний край
бумаги поглядывал на ребят. Они слушали меня, и душа их, вся целиком,
столпилась в глазах, удивлённых и обрадованных, но в то же время не способных
обнять всю таинственность и широту нового мира. Многие привстали за столом и,
опёршись на локти, приблизили ко мне свои лица. Рабфаковцы, стоя у стены,
улыбались мечтательно, девочки начинали уже вытирать глаза, и на них
потихоньку оглядывались мужественные пацаны. За правым столом сидел Коротков
и думал, нахмурив красивые брови. Ховрах смотрел в окно, страдальчески поджав
щеки. Я кончил. Пробежали за столами первые
волны движений и слов, но Карабанов поднял руку: — Знаете что? Что ж тут говорить?
Тут… чёрт его знает… тут спивать надо, а не говорить. А давайте мы двинем…
знаете, только так, по‑настоящему… «Интернационал». Хлопцы закричали, засмеялись, но я видел,
как многие из куряжан смутились и притихли, — я догадался, что они не
знали слов «Интернационала». Лапоть влез на скамью: — Ну! Девчата, забирайте звонче! Он взмахнул рукой, и мы запели. Может быть, потому, что каждая строчка
«Интернационала» сейчас так близка была к нашей сегодняшней жизни, пели мы
наш гимн весело и улыбаясь. Хлопцы косили глазами на Лаптя и невольно
подражали его живой, горячей мимике, в которой Лапоть умел отразить все
человеческие идеи. А когда мы пели: Чуешь, сурмы загралы, Час расплаты настав… Лапоть выразительно
показал на наших трубачей, вливающих в наше пение серебряные голоса корнетов. Кончили петь. Матвей Белухин махнул белым
платком и зазвенел по направлению к кухонному окну: — Подавать гусей‑лебедей,
мёд-пиво, водку‑закуску и мороженое по полной тарелке! Ребята громко засмеялись, глядя на Матвея
возбуждёнными глазами, и Белухин ответил им, осклабясь в шутке, сдержанно
расставленным тенором: — Водки‑закуски не привезли,
дорогие товарищи, а мороженое есть, честное слово! А сейчас лопайте борщ! По столовой пошли хорошие, дружеские
улыбки. Следя за ними, я неожиданно увидел открытые глаза Джуринской. Она
стояла в дверях столовой, и из‑за её плеча выглядывала улыбающаяся
физиономия Юрьева. Я поспешил к ним. Джуринская рассеянно подала мне руку, будучи
не в силах оторваться от линий остриженных голов, белых плеч и дружеских
улыбок. — Что это такое? Антон Семёнович…
Постойте!.. Да нет! — У неё задрожали губы. — Это всё ваши? А эти…
где? Да рассказывайте, что здесь у вас происходит? — Происходит? Чёрт его знает, что
здесь происходит… Кажется, это называется преображением. А впрочем… это всё
наши. |
|
||||
|
|
10. У подошвы Олимпа
Май и июнь в Куряже были нестерпимо
наполнены работой. Я не хочу сейчас об этой работе говорить словами восторга. Если к работе подходить трезво, то
необходимо признать, что много есть работ тяжёлых, неприятных, неинтересных,
многие работы требуют большого терпения, привычки преодолевать болевые
угнетающие ощущения в организме; очень многие работы только потому и
возможны, что человек привык страдать и терпеть. Преодолевать тяжесть труда, его
физическую непривлекательность люди научились давно, но мотивации этого
преодоления нас теперь не всегда удовлетворяют. Снисходя к слабости
человеческой природы, мы терпим и теперь некоторые мотивы личного
удовлетворения, мотивы собственного благополучия, но мы неизменно стремимся
воспитывать широкие мотивации коллективного интереса. Однако многие проблемы
в области этого вопроса очень запутаны, и в Куряже приходилось решать их
почти без помощи со стороны. Когда‑нибудь настоящая педагогика
разработает этот вопрос, разберёт механику человеческого усилия, укажет,
какое место принадлежит в нём воле, самолюбию, стыду, внушаемости,
подражанию, страху, соревнованию и как всё это комбинируется с явлениями
чистого сознания, убеждённости, разума. Мой опыт, между прочим, решительно
утверждает, что расстояние между элементами чистого сознания и прямыми
мускульными расходами довольно значительно и что совершенно необходима
некоторая цепь связующих более простых и более материальных элементов. В день приезда горьковцев в Куряже очень
удачно был разрешён вопрос о сознании. Куряжская толпа была в течение одного
дня приведена к уверенности, что приехавшие отряды привезли ей лучшую жизнь,
что к куряжанам прибыли люди с опытом и помощью, что нужно идти дальше с
этими людьми. Здесь решающими не были даже соображения выгоды, здесь
происходило, конечно, коллективное внушение, здесь решали не расчёты, а
глаза, уши, голоса и смех. Всё же в результате первого дня куряжане
безоглядно захотели стать членами горьковского коллектива хотя бы уже и
потому, что это был коллектив, ещё не испробованная сладость в их жизни. Но я приобрёл на свою сторону только
сознание, а этого было страшно мало. На другой же день это обнаружилось во
всей своей сложности. Ещё с вечера были составлены сводные отряды на разные
работы, намеченные в декларации комсомола, почти ко всем сводным были
прикреплены воспитатели или старшие горьковцы, настроение у куряжан с самого
утра было прекрасное, и всё-таки к обеду выяснилось, что работают очень
плохо. После обеда многие уже не вышли на работу, где‑то попрятались,
часть по привычке потянулась в город и на Рыжов. Я сам обошёл все сводные
отряды — картина была везде одинакова. Вкрапления горьковцев казались везде
очень незначительными, преобладание куряжан бросалось в глаза, и нужно было
опасаться, что начнёт преобладать и стиль их работы, тем более что среди
горьковцев было очень много новеньких, да и некоторые старики, растворившись
в куряжской пресной жидкости, грозили просто исчезнуть, как активная сила. Взяться за внешние дисциплинарные меры,
которые так выразительно и красиво действуют в сложившемся коллективе, было
опасно. Нарушителей было очень много, возиться с ними было делом сложным,
требующим много времени, и неэффективным, ибо всякая мера взыскания только
тогда производит полезное действие, когда она выталкивает человека из общих
рядов и поддерживается несомненным приговором общественного мнения. Кроме
того, внешние меры слабее всего действуют в области организации мускульного
усилия. Менее опытный человек утешил бы себя
такими соображениями: ребята не привыкли к трудовому усилию, не имеют
«ухватки», не умеют работать, у них нет привычки равняться по трудовому
усилию товарищей, нет той трудовой гордости, которая всегда отличает
коллективиста; всё это не может сложиться в один день, для этого нужно время.
К сожалению, я не мог ухватиться за такое утешение. В этом пункте давал себя
знать уже известный мне закон: в педагогическом явлении нет простых зависимостей,
здесь менее всего возможна силлогистическая формула, дедуктивный короткий
бросок. В майских условиях Куряжа постепенное и
медленное развитие трудового усилия грозило выработать общий стиль работы,
выраженный в самых средних формах, и ликвидировать пружинную, быструю и
точную ухватку горьковцев. Область стиля и тона всегда
игнорировалась педагогической «теорией», а между тем это самый существенный,
самый важный отдел коллективного воспитания. Стиль — самая нежная и
скоропортящаяся штука. За ним нужно ухаживать, ежедневно следить, он требует
такой же придирчивой заботы, как цветник. Стиль создаётся очень медленно,
потому что он немыслим без накопления, традиций, то есть положений и
привычек, принимаемых уже не чистым сознанием, а сознательным уважением к
опыту старших поколений, к великому авторитету целого коллектива, живущего во
времени. Неудача многих детских учреждений происходила оттого, что у них не
выработался стиль и не сложились привычки и традиции, а если они и начинали
складываться, переменные инспектора наробразов регулярно разрушали их,
побуждаемые к этому, впрочем, самыми похвальными соображениями. Благодаря
этому соцвосовские «ребёнки» всегда жили без единого намёка на какую бы то ни
было преемственность не только «вековую», но даже годовалую. Побеждённое сознание куряжан позволяло
мне стать в более близкие и доверчивые отношения к ребятам. Но этого было
мало. Для настоящей победы от меня требовалась теперь педагогическая техника.
В области этой техники я был так же одинок, как и в 1920 году, хотя уже не
был так юмористически неграмотен. Одиночество это было одиночеством в особом
смысле. И в воспитательском, и в ребячьем коллективе у меня уже были солидные
кадры помощников; располагая ими, я мог смело идти на самые сложные операции.
Но всё это было на земле. На небесах и поближе к ним, на вершинах
педагогического «Олимпа», всякая педагогическая техника в области собственно
воспитания считалась ересью. На «небесах» ребёнок рассматривался как
существо, наполненное особого состава газом, название которому даже не успели
придумать. Впрочем, это была всё та же старомодная душа, над которой
упражнялись ещё апостолы. Предполагалось (рабочая гипотеза), что газ этот
обладает способностью саморазвития, не нужно только ему мешать. Об этом было
написано много книг, но все они повторяли, в сущности, изречения Руссо: «Относитесь к детству с благоговением…» «Бойтесь помешать природе…» Главный догмат этого вероучения состоял в
том, что в условиях такого благоговения и предупредительности перед природой
из вышеуказанного газа обязательно должна вырасти коммунистическая личность.
На самом деле в условиях чистой природы вырастало только то, что естественно
могло вырасти, то есть обыкновенный полевой бурьян, но это никого не смущало
— для небожителей были дороги принципы и идеи. Мои указания на практическое
несоответствие получаемого бурьяна заданным проектам коммунистической
личности называли делячеством, а если хотели подчеркнуть мою настоящую
сущность, говорили: — Макаренко — хороший практик, но в
теории он разбирается очень слабо. Были разговоры и о дисциплине. Базой
теории в этом вопросе были два слова, часто встречающиеся у Ленина:
«сознательная дисциплина». Для всякого здравомыслящего человека в этих словах
заключается простая, понятная и практически необходимая мысль: дисциплина
должна сопровождаться пониманием её необходимости, полезности,
обязательности, её классового значения. В педагогической теории это выходило
иначе: дисциплина должна вырастать не из социального опыта, не из
практического товарищеского коллективного действия, а из чисто сознания, из
голой интеллектуальной убеждённости, из пара души, из идей. Потом теоретики
пошли дальше и решили, что «сознательная дисциплина» никуда не годится, если
она возникает вследствие влияния старших. Это уже не дисциплина по‑настоящему
сознательная, а натаскивание и, в сущности, насилие над паром души. Нужна не
сознательная дисциплина, а «самодисциплина». Точно так же не нужна и опасна
какая бы то ни была организация детей, а необходима «самоорганизация». Возвращаясь в своё захолустье, я начинал
думать. Я соображал так: мы все прекрасно знаем, какого нам следует воспитать
человека, это знает каждый грамотный сознательный рабочий и хорошо знает
каждый член партии. Следовательно, затруднения не в вопросе, что нужно
сделать, но как сделать. А этот вопрос педагогической техники. Технику можно
вывести только из опыта. Законы резания металлов не могли бы быть найдены,
если бы в опыте человечества никто никогда металлов не резал. Только тогда,
когда есть технический опыт, возможно изобретение, усовершенствование, отбор
и браковка. Наше педагогическое производство никогда
не строилось по технологической логике, а всегда по логике моральной
проповеди. Это особенно заметно в области собственного воспитания, в школьной
работе как‑то легче. Именно потому у нас просто отсутствуют
все важные отделы производства: технологический процесс, учёт операций,
конструкторская работа, применение кондукторов и приспособлений,
нормирование, контроль, допуски и браковка. Когда подобные слова я несмело произносил
у подошвы «Олимпа», боги швыряли в меня кирпичами и кричали, что это
механическая теория. А я, чем больше думал, тем больше находил
сходства между процессами воспитания и обычными процессами на материальном
производстве, и никакой особенно страшной механистичности в этом сходстве не
было. Человеческая личность в моём представлении продолжала оставаться
человеческой личностью со всей её сложностью, богатством и красотой, но мне
казалось, что именно потому к ней нужно подходить с более точными
измерителями, с большей ответственностью и с большей наукой, а не в порядке
простого тёмного кликушества. Очень глубокая аналогия между производством и
воспитанием не только не оскорбляла моего представления о человеке, но,
напротив, заражала меня особенным уважением к нему, потому что нельзя
относиться без уважения и к хорошей сложной машине. Во всяком случае, для меня было ясно, что
очень многие детали в человеческой личности и в человеческом поведении можно
было сделать на прессах, просто штамповать в стандартном порядке, но для
этого нужна особенно тонкая работа самих штампов, требующих скрупулёзной
осторожности и точности. Другие детали требовали, напротив, индивидуальной
обработки в руках высококвалифицированного мастера, человека с золотыми руками
и острым глазом. Для многих деталей необходимы были сложные специальные
приспособления, требующие большой изобретательности и полёта человеческого
гения. А для всех деталей и для всей работы воспитателя нужна особая наука.
Почему в технических вузах мы изучаем сопротивление металлов, а в
педагогических не изучаем сопротивление личности, когда её начинают
воспитывать? А ведь для всех не секрет, что такое сопротивление имеет место.
Почему, наконец, у нас нет отдела контроля, который мог бы сказать разным педагогическим
портачам: — У вас, голубчики, девяносто
процентов брака. У вас получилась не коммунистическая личность, а прямая
дрянь, пьянчужка, лежебока и шкурник. Уплатите, будьте добры, из вашего
жалованья. Почему у нас нет никакой науки о сырье и
никто толком не знает, что из этого материала следует делать — коробку спичек
или аэроплан? С вершин «олимпийских» кабинетов не
различают никаких деталей и частей работы. Оттуда видно только безбрежное
море безликого детства, а в самом кабинете стоит модель абстрактного ребёнка,
сделанная из самых лёгких материалов: идей, печатной бумаги, маниловской
мечты. Когда люди «Олимпа» приезжают ко мне в колонию, у них не открываются
глаза, и живой коллектив ребят им не кажется новым обстоятельством,
вызывающим, прежде всего техническую заботу. А я, провожая их по колонии, не
могу отделаться от какого‑нибудь технического пустяка. В спальне четвёртого отряда сегодня не
помыли полов, потому что ведро куда‑то исчезло. Меня интересует и
материальная ценность ведра, и техника его исчезновения. Вёдра выдаются в
отряды под ответственность помощника командира, который устанавливает очередь
уборки, а, следовательно, и очередь ответственности. Вот эта именно штука —
ответственность за уборку, и за ведро, и за тряпку — есть для меня
технологический процесс. Эта штука подобна самому захудалому,
старому, без фирмы и года выпуска, токарному станку на заводе. Такие станки
всегда помещаются в дальнем углу цеха, на самом замасленном участке пола и
называются козами. На них производится разная детальная шпана: шайбы,
крепёжные части, прокладки, какие‑нибудь болтики. И всё-таки, когда
такая «коза» начинает заедать, по заводу пробегает еле заметная рябь
беспокойства, в сборном цехе нечаянно заводится «условный выпуск», на
складских полках появляется досадная горка непринятой продукции —
«некомплект». Ответственность за ведро и тряпку для
меня такой же токарный станок, пусть и последний в ряду, но на нём
обтачиваются крепёжные части для важнейшего человеческого атрибута: чувства
ответственности. Без этого атрибута не может быть коммунистического человека,
будет «некомплект». «Олимпийцы» презирают технику. Благодаря
их владычеству давно захирела в наших педвузах педагогически‑техническая
мысль, в особенности в деле собственно воспитания. Во всей нашей советской
жизни нет более жалкого технического состояния, чем в области воспитания. И
поэтому воспитательское дело есть дело кустарное, а из кустарных производств
— самое отсталое. Именно поэтому до сих пор действительной остаётся жалоба
Луки Лукича Хлопова из «Ревизора»: «Нет хуже служить по учёной части, всякий
мешается, всякий хочет показать, что он тоже умный человек». И это не шутка, не гиперболический трюк,
а простая прозаическая правда. «Кому ума недоставало» решать любые
воспитательные вопросы? Стоит человеку залезть за письменный стол, и он уже
вещает, связывает и развязывает. Какой книжкой можно его обуздать? Зачем
книжка, раз у него у самого есть ребёнок? А в это время профессор педагогики,
специалист по вопросам воспитания, пишет записку в ГПУ или НКВД: «Мой мальчик несколько раз меня
обкрадывал, дома не ночует, обращаюсь к вам с горячей просьбой…» Спрашивается: почему чекисты должны быть
более высокими педагогическими техниками, чем профессора педагогики? На этот захватывающий вопрос я ответил не
скоро, а тогда, в 1926 году, я со своей техникой был не в лучшем положении,
чем Галилей со своей трубой. Передо мной стоял короткий выбор: или провал в
Куряже, или провал на «Олимпе» и изгнание из рая. Я выбрал последнее. Рай
блистал над моей головой, переливая всеми цветами теории, но я вышел к
сводному отряду куряжан и сказал хлопцам: — Ну, ребята, работа ваша дрянь…
Возьмусь за вас сегодня на собрании. К чертям собачим с такой работой! Хлопцы покраснели, и один из них, выше
ростом, ткнул сапкой в моём направлении и обиженно прогудел: — Так сапки тупые… Смотрите… — Брешешь, — сказал ему Тоська
Соловьёв, — брешешь. Признайся, что сбрехал. Признайся… — А что, острая? — А что, ты не сидел на меже целый
час? Не сидел? — Слушайте! — сказал я
сводному. — Вы должны к ужину закончить этот участок. Если не закончите,
будем работать после ужина. И я буду с вами. — Та кончим, — запел владелец
тупой сапки. — Что ж тут кончать? Тоська засмеялся: — Ну, и хитрый! В этом месте основания для печали не
было: если люди отлынивают от работы, но стараются придумать хорошие причины
для своего отлынивания, это, значит, что они проявляют творчество и
инициативу — вещи, имеющие большую цену на «олимпийском» базаре. Моей технике
оставалось только притушить это творчество, и всё, зато я с удовлетворением
мог отметить, что демонстративных отказов от работы почти не было. Некоторые
потихоньку прятались, смывались куда‑нибудь, но эти смущали меня меньше
всего: для них была всегда наготове своеобразная техника у пацанов. Где бы ни
гулял прогульщик, а обедать волей‑неволей приходил к столу своего
отряда. Куряжане встречали его сравнительно безмятежно, иногда только
спрашивали наивным голосом: — Разве ты не убежал с колонии? У горьковцев были языки и руки
впечатлительнее. Прогульщик подходит к столу и старается сделать вид, что
человек он обыкновенный и не заслуживает особенного внимания, но командир
каждому должен воздать по заслугам. Командир строго говорит какому‑нибудь
Кольке: — Колька, что же ты сидишь? Разве ты
не видишь? Криворучко пришёл, скорее место очисти! Тарелку ему чистую! Да
какую ты ложку даешь, какую ложку?! Ложка исчезает в кухонном окне. — Наливай ему самого жирного!..
Самого жирного!.. Петька, сбегай к повару, принеси хорошую ложку! Скорее!
Стёпка, отрежь ему хлеба… Да что ты режешь? Это граки едят такими скибками,
ему тоненькую нужно… Да где же Петька с ложкой?.. Петька, скорее там! Ванька,
позови Петьку с ложкой!.. Криворучко сидит перед полной тарелкой
действительно жирного борща и краснеет прямо в центр борщовской поверхности.
Из‑за соседнего стола кто‑нибудь солидно спрашивает: — Тринадцатый, что, гостя поймали? — Пришли, как же, пришли, обедать
будут… Петька, да давай же ложку, некогда!.. Дурашливо захлопотанный Петька врывается
в столовую и протягивает обыкновенную колонийскую ложку, держит её в двух
руках парадно, как подношение. Командир свирепствует: — Какую ты ложку принёс? Тебе какую
сказали? Принеси самую большую… Петька изображает оторопелую поспешность,
как угорелый, мечется по столовой и тычется в окна вместо дверей. Начинается
сложная мистерия, в которой принимают участие даже кухонные люди. Кое у кого
сейчас замирает дыхание, потому что и они, собственно говоря, случайно не
сделались предметом такого же горячего гостеприимства. Петька снова влетает в
столовую, держа в руках какой‑нибудь саженный дуршлаг или кухонный
половник. Столовая покатывается со смеху. Тогда из‑за своего стола
медленно вылезает Лапоть и подходит к месту происшествия. Он молча
разглядывает всех участников мелодрамы и строго посматривает на командира.
Потом его строгое лицо на глазах у всех принимает окраски растроганной
жалости и сострадания, то есть тех именно чувств, на которые Лапоть заведомо
для всех неспособен. Столовая замирает в ожидании самой высокой и тонкой игры
артистов! Лапоть орудует нежнейшими оттенками фальцета и кладёт руку на
голову Криворучко: — Детка, кушай, детка, не бойся…
Зачем издеваетесь над мальчиком? А? Кушай, детка… Что, ложки нет? Ах, какое
свинство, дайте ему какую‑нибудь… Да вон эту, что ли… Но детка не может кушать. Она ревёт на
всю столовую и вылезает из‑за стола, оставляя нетронутой тарелку самого
жирного борща. Лапоть рассматривает страдальца, и по лицу Лаптя видно, как
тяжело и глубоко он умеет переживать. — Это как же? — чуть не со
слезами говорит Лапоть. — Что же, ты и обедать не будешь? Вот до чего
довели человека! Лапоть оглядывается на хлопцев и
беззвучно хохочет. Он обнимает плечи Криворучко, вздрагивающие в рыданиях, и
нежно выводит его из столовой. Публика заливается хохотом. Но есть и
последний акт мелодрамы, которая публика видеть не может. Лапоть привёл гостя
на кухню, усадил за широкий кухонный стол и приказал повару подать и
накормить «этого человека» как можно лучше, потому что «его, понимаете,
обижают». И когда ещё всхлипывающий Криворучко доел борщ и у него находится
достаточно свободной души, чтобы заняться носом и слезами, Лапоть наносит
последний тихонький удар, от которого даже Иуда Искариотский обратился бы в
голубя: — Чего это они на тебя? Наверное, на
работу не вышел? Да? Криворучко кивает, вздыхает и вообще
больше сигнализирует, чем говорит. — Вот чудаки! Ну, что ты скажешь!..
Да ведь ты последний раз? Последний раз, правда? Так чего ж тут въедаться?
Мало ли что бывает? Я, как пришёл в колонию, так семь дней на работу не
ходил… А ты только два дня. А дай, я посмотрю твои мускулы… Ого! Конечно, с
такими мускулами надо работать… Правда ж? Криворучко снова кивает и принимается за
кашу. Лапоть уходит в столовую, оставляя Криворучко неожиданный комплимент: — Я сразу увидел, что ты свой парень… Достаточно было одной‑двух подобных
мистерий, чтобы уход из рабочего отряда сделался делом невозможным. Этот
институт вывелся в Куряже очень быстро. Труднее было с такими симулянтами,
как Ховрах. Уже на третий день у него начались солнечные удары, он со стонами
залезал под кусты и укладывался отдыхать. С такими умел гениально
расправляться Таранец. Он выпрашивал у Антона линейку и Молодца, и с целой
группой санитаров, украшенный флагами и крестами, выезжал в поле. Наиболее
сильным средством у Таранца был Кузьма Леший, вооружённый настоящим кузнечным
мехом. Не успеет Ховрах разнежиться в роще, как на него налетает «скорая
помощь» для несчастных случаев, Леший мгновенно устанавливает против больного
свой мех, и несколько человек работают мехом с искренним увлечением. Они
обдувают Ховраха во всех местах, где предполагается притаившийся солнечный
удар, а потом влекут к карете. Но Ховрах уже здоров, и карета спокойно
уезжает в колонию. Как ни тяжело было для Ховраха подвергнуться описанной
медицинской процедуре, ещё тяжелее возвратиться в сводный и в молчании
принимать дозы новых лекарств в виде самых простых вопросов: — Что, Ховрах, помогло? Хорошее
средство, правда? Разумеется, это были партизанские
действия, но они вытекали из общего тона и из общего стремления коллектива
наладить работу. А тон и стремление — это были настоящие предметы моей
технической заботы. Основным технологическим моментом
оставался, конечно, отряд. Что такое отряд, на «Олимпе» так и не разобрали до
самого конца нашей истории. А между тем я изо всех сил старался растолковать
олимпийцам значение отряда и его определяющую полезность в педагогическом
процессе. Но ведь мы говорили на разных языках, ничего нельзя было
растолковать. Я привожу здесь почти полностью один разговор, который произошел
между мною и профессором педагогики, заехавшим в колонию, очень аккуратным
человеком в очках, в пиджаке, в штанах, человеком мыслящим и добродетельным.
Он пристал ко мне с вопросом, почему столы в столовой между отрядами
распределяет дежурный командир, а не педагог. — Серьёзно, товарищ, вы, вероятно,
просто шутите. Я прошу вас серьёзно со мной говорить. Как это так: дежурный
мальчик распределяет столовую, а вы спокойно здесь стоите. Вы уверены, что он
всё сделает правильно, никого не обидит? Наконец… он может просто ошибиться. — Распределить столовую не так
трудно, — ответил я профессору, — кроме того, у нас есть старый и
очень хороший закон. — Интересно. Закон? — Да, закон. Такой: всё приятное и
всё неприятное или трудное распределяется между отрядами по очереди, по
порядку их номеров. — Как это? Что т‑такое? Не
понимаю… — Это очень просто. Сейчас первый
отряд получает самое лучшее место в столовой, после него через месяц — второй
и так далее. — Хорошо. А «неприятное» — что это
такое? — Бывает очень часто так называемое
неприятное. Ну, вот, например, если сейчас нужно будет проделать срочную
внеплановую работу, то будет вызван первый отряд, а в следующий раз — второй.
Когда будут распределять уборку, первому отряду дадут чистить уборные. Это,
конечно, относится только к работам очередного типа. — Это вы придумали такой ужасный
закон? — Нет, почему я? Это хлопцы. Для них
так удобнее: ведь такие распределения делать очень трудно, всегда будут
недовольные. А теперь это делается механически. Очередь передвигается через
месяц. — Так, значит, ваш двадцатый отряд
будет убирать уборную через двадцать месяцев? — Конечно, но и лучшее место в
столовой он тоже займёт через двадцать месяцев. — Кошмар! Но ведь через двадцать
месяцев в двадцатом отряде будут новые люди. Ведь так же? — Нет, состав отрядов почти не
меняется. Мы — сторонники длительных коллективов. Конечно, кое‑кто
уйдёт, будут два‑три новичка. Но если даже и большинство отряда
обновится, в этом нет ничего опасного. отряд — это коллектив, у которого есть
свои традиции, история, заслуги, слава. Правда, теперь мы значительно
перемешали отряды, но всё же ядра остались. — Не понимаю. Всё это какие‑то
выдумки. Всё это несерьёзно. Какое значение имеет отряд, если там новые люди.
На что это похоже? — Это похоже на Чапаевскую
дивизию, — сказал я, улыбаясь. — Ах, вы опять с вашей военизацией…
Хотя… что же тут, так сказать, чапаевского? — В дивизии уже нет тех людей, что
были раньше. И нет Чапаева. Новые люди. Но они несут на себе славу и честь
Чапаева и его полков, понимаете или нет? Они отвечают за славу Чапаева. А
если они опозорятся, через пятьдесят лет новые люди будут отвечать за их
позор. — Не понимаю, для чего это вам
нужно? Так он и не понял, этот профессор. Что я
мог сделать? В первые дни Куряжа в отрядах совершалась
очень большая работа. К двум‑трём отрядам издавна был прикреплён
воспитатель. На ответственности воспитателей лежало возбуждать в отрядах
представление о коллективной чести и лучшем, достойном месте в колонии. Новые
благородные побуждения коллективного интереса приходили, конечно, не в один
день, но всё же приходили сравнительно быстро, гораздо быстрее, чем если бы
мы надеялись только на индивидуальную обработку. Вторым нашим весьма важным институтом
была система перспективных линий. Есть, как известно, два пути в области
организации перспективы, а, следовательно, и трудового усилия. Первый
заключается в оборудовании личной перспективы, между прочим, при помощи
воздействия на материальные интересы личности. Это последнее, впрочем,
решительно запрещалось тогдашними педагогическими мыслителями. Когда дело
доходило до самого незначительного количества рублей, намечаемых к выдаче
ребятам в виде зарплаты или премии, на «Олимпе» подымался настоящий скандал.
Педагогические мыслители были убеждены, что деньги от дьявола, недаром же они
слышали в «Фаусте»: Люди гибнут за металл… Их отношение к зарплате и к деньгам было
настолько паническое, что не оставалось места ни для какой аргументации.
Здесь могло помочь только окропление святой водой, но я этим средством не обладал. А между тем зарплата — очень важное дело.
На получаемой зарплате воспитанник вырабатывает умение координировать личные
и общественные интересы, попадает в сложнейшее море советского промфинплана,
хозрасчёта и рентабельности, изучает всю систему советского заводского
хозяйства и принципиально становится на позиции, общие со всяким другим
рабочим. Наконец приучается просто ценить заработок и уже не выходит из
детского дома в образе беспризорной проститутки, не умеющей жить, а
обладающей только «идеалами». Но ничего нельзя было поделать, на этом
лежало табу (запрещение). Я имел возможность пользоваться только
вторым путём — методом повышения коллективного тона и организации сложнейшей
системы коллективной перспективы. От этого метода не так пахло нечистой
силой, и «олимпийцы» терпели здесь многое, хотя и ворчали иногда
подозрительно. Человек не может жить на свете, если у
него нет впереди ничего радостного. Истинным стимулом человеческой жизни
является завтрашняя радость. В педагогической технике эта завтрашняя радость
является одним из важнейших объектов работы. Сначала нужно организовать самую
радость, вызвать её к жизни и поставить как реальность. Во‑вторых,
нужно настойчиво претворять более простые виды радости в более сложные и
человечески значительные. Здесь проходит интересная линия: от примитивного
удовлетворения каким‑нибудь пряником до глубочайшего чувства долга. Самое важное, что мы привыкли ценить в
человеке, — это сила и красота. И то и другое определяется в человеке
исключительно по типу его отношения к перспективе. Человек, определяющий своё
поведение самой близкой перспективой, сегодняшним обедом, именно сегодняшним,
есть человек самый слабый. Если он удовлетворяется только перспективой своей
собственной, хотя бы и далёкой, он может представляться сильным, но он не
вызывает у нас ощущения красоты личности и её настоящей ценности. Чем шире
коллектив, перспективы которого являются для человека перспективами личными,
тем человек красивее и выше. Воспитать человека — значит воспитать у
него перспективные пути, по которым располагается его завтрашняя радость.
Можно написать целую методику этой важной работы. Она заключается в
организации новых перспектив, в использовании уже имеющихся, в постепенной
подстановке более ценных. Начинать можно и с хорошего обеда, и с похода в
цирк, и с очистки пруда, но надо всегда возбуждать к жизни и постепенно
расширять перспективы целого коллектива, доводить их до перспектив всего
Союза. Ближайшей коллективной перспективой после
завоевания Куряжа сделался праздник первого снопа. Но я должен отметить один исключительный
вечер, сделавшийся почему‑то переломным в трудовом усилии куряжан. Я,
впрочем, не рассчитывал на такой результат, я хотел сделать только то, что
необходимо было сделать, вовсе не из практических намерений. Новые колонисты не знали, кто такой
Горький. В ближайшие дни по приезде мы устроили вечер Горького. Он был сделан
очень скромно. Я сознательно не хотел придавать ему характер концерта или
литературного вечера. Мы не пригласили гостей. На скромно убранной сцене
поставили портрет Алексея Максимовича. Я рассказал ребятам о жизни и творчестве
Горького, рассказал подробно. Несколько старших ребят прочитали отрывки из
«Детства». Новые колонисты слушали меня, широко открыв глаза: они не
представляли себе, что в мире возможна такая жизнь. Они не задавали мне
вопросов и не волновались до той минуты, пока Лапоть не принёс папку с
письмами Горького. — Это он написал? Сам писал? А ну,
покажите… Лапоть бережно обнёс по рядам развернутые
письма Горького. Кое‑кто задержал руку Лаптя и постарался глубже
проникнуть в содержание происходящего. — Вот видишь, вот видишь: «Дорогие
мои товарищи». Так и написано… Все письма были прочитаны на собрании. Я
после этого спросил: — Может, есть желающие что‑нибудь
сказать? Минуты две не было желающих. Но потом,
краснея, на сцену вышел Коротков и сказал: — Я скажу новым горьковцам… вот, как
я. Только я не умею говорить. Ну, всё равно. Хлопцы! Жили мы тут, и глаза у
нас есть, а ничего мы не видели… Как слепые, честное слово. Аж досадно —
сколько лет пропало! А сейчас нам показали одного Горького… Честное слово, у
меня всё на душе перевернулось… не знаю, как у вас… Коротков придвинулся к краю сцены, чуть‑чуть
прищурил серьёзные красивые глаза: — Надо, хлопцы, работать… По‑другому
нужно работать… Понимаете! — Понимаем! — закричали горячо
пацаны и крепко захлопали, провожая со сцены Короткова. На другой день я их не узнал. Отдуваясь,
кряхтя, вертя головами, они честно, хотя и с великим трудом, пересиливали
известную человеческую лень. Они увидели перед собой самую радостную
перспективу: ценность человеческой личности. |
|
||||
|
|
11. Первый сноп
Последние дни мая по очереди приносили
нам новые подарки: новые площадки двора, новые двери и окна, новые запахи во
дворе и новые настроения. Последние припадки лени теперь легко уже
сбрасывались. Всё сильнее начинал блестеть впереди праздник нашей победы. Из
недр монастырской стены, из глубин бесчисленных келий выходил на поверхность
последний час прошлого, и его немедленно подхватывал летний услужливый ветер
и уносил куда‑то далеко, на какие‑то свалки истории. Ветру теперь нетрудно было работать:
упорные ломы сводных за две недели своротили к чёрту вековую саженную стену.
Коршун, Мэри и посвежевшие кони Куряжа, получившие в совете командиров
приличные имена: Василек, Монах, Орлик — развезли кирпичный прах куда
следует: что покрупнее и что поцелее — на постройку свинарни, что помельче —
на дорожки, овражки, ямы. Другие сводные с лопатами, тачками, носилками
расширили, расчистили, утрамбовали крайние площадки нашей горы, раскопали
спуски в долину, уложили ступени, а бригада Борового уже наладила десяток
скамеек, чтобы поставить их на специальных террасках и поворотах. В нашем
дворе стало светло и просторно, прибавилось неба, и зелёные украшения и
привольные дали горизонта расположились вокруг нас широчайшей рамой. И во дворе и вокруг горы давно уничтожили
останки соцвосовских миллионов, и наш садовник Мизяк, человек молчаливый и
сумрачный, какими часто бывают некрасивые мужья у красавиц, уже вскапывал с
ребятами обочины двора и дорожек и складывал в аккуратные кучки износившиеся
кирпичики монашеских тротуаров. На северном краю двора делали фундамент
для свинарни. Свинарня делалась настоящая, с хорошими станками. Шере уже не
похож на погорельца, сейчас и он почувствовал архимедовский восторг:
ежедневно выходили на работу больше тридцати сводных отрядов, в наших руках
ощущалась огромная сила. И я увидел, какие страшные запасы рабочего аппетита
заложены в Шере. Он ещё больше похудел от жадности: работы много, рабочей
силы много, только в нём самом имеют пределы силы организатора. Эдуард
Николаевич уменьшил сон, удлинил как будто ноги, вычеркнул из распорядка дня
разные излишества вроде завтраков, обедов и ужинов — и всё-таки не успевал
всего сделать. На нашей сотне гектаров Шере хотел в
полтора месяца пройти тот путь, который на старом месте мы проходили в шесть
лет. Он бросал большие сводные на прополку полей, на выщипывание самой
ничтожной травки, он без малейшего содрогания перепахивал неудачные участки и
прилаживал к ним какие‑то особенные поздние культуры. По полям прошли
прямые, как лучи, межи, очищенные от сорняка и украшенные, как и раньше,
визитными карточками «королей андалузских» и «принцесс» разных сортов. На
центральном участке, у самой полевой дороги, Шере раскинул баштан, снисходя к
моим педагогическим перспективам. В совете командиров отметили это начинание
как весьма полезное, и Лапоть немедленно приступил к учёту разной заслуженной
калечи, чтобы из её элементов составить специальный отряд баштанников. Как ни много было работы у Шере, а
хватило сил наших и на сводный отряд для очистки пруда. Командиром сводного
назначили Карабанова. Сорок голых хлопцев, опоясав бедра самыми негодными
трусиками, какие только нашлись у Дениса Кудлатого, приступили к спуску воды.
На дне пруда нашлось много интересных вещей: винтовки, обрезы, револьверы.
Карабанов говорил: — Если тут хорошо поискать, то и
штаны найдутся. Я так думаю, что сюда и штаны бросили, бо без штанов тикать
легче… Оружие из грязи вытащить было нетрудно,
но вытащить самую грязь оказалось очень тяжёлым делом. Пруд был довольно
большой, выносить грязь вёдрами и носилками — когда кончишь работу? Только
когда приспособили к делу четверку лошадей и специально изобретённые дощатые
лопасти, толща грязи начала заметно уменьшаться. «Особый второй сводный» Карабанова во
время работы был исключительно красив. Вымазанные до самой макушки, хлопцы
сильно походили на чернокожих, их трудно было узнавать в лицо, их толпа
казалась прибывшей из неизвестной далёкой страны. Уже на третий день мы
получили возможность любоваться зрелищем, абсолютно невозможным в наших
широтах: хлопцы вышли на работу, украсив бедра стильными юбочками из листьев
акации, дуба и подобных тропических растений. На шеях, на руках, на ногах у
них появились соответствующие украшения из проволоки, полосок листового
железа, жести. Многие ухитрились пристроить к носам поперечные палочки, а на
ушах развесить серьги из шайб, гаек, гвоздиков. Чернокожие, конечно, не знали ни
русского, ни украинского языка и изъяснялись исключительно на неизвестном
колонистам туземном наречии, отличающемся крикливостью и преобладанием
непривычных для европейского уха гортанных звуков. К нашему удивлению, члены
особого второго сводного не только понимали друг друга, но и отличались
чрезвычайной словоохотливостью, и над всей огромной впадиной пруда целый день
стоял невыносимый гомон. Залезши по пояс в грязь, чернокожие с криком
прилаживают Стрекозу или Коршуна к нескладному дощатому приспособлению в
самой глубине ила и орут благим матом. Карабанов, блестящий и чёрный, как и все,
сделавший из своей шевелюры какой‑то выдающегося безобразия кок,
вращает огромными белыми глазами и скалит страшные зубы: — Каррамба! Десятки пар таких же диких и таких же
белых глаз устремляются в одну точку, куда показывает вся в браслетах
экзотическая рука Карабанова, кивают головами и ждут. Карабанов орёт: — Пхананяй, пхананяй! Дикари стремглав бросаются на
приспособление и тесной дикой толпой с напряжением и воплем помогают Стрекозе
вытащить на берег целую тонну густого, тяжёлого ила. Эта этнографическая возня особенно
оживляется к вечеру, когда на склоне нашей горы рассаживается вся колония, и
голоногие пацаны с восхищением ожидают того сладкого момента, когда Карабанов
заорёт: «Горлы резыты!..» и чернокожие с свирепыми лицами кровожадно бросятся
на белых. Белые в ужасе спасаются во двор колонии, из дверей и щелей
выглядывают их перепуганные лица. Но чернокожие не преследуют белых, и вообще
дело до каннибальства не доходит, ибо хотя дикари и не знают русского языка,
тем не менее прекрасно понимают, что такое домашний арест за принос грязи в
жилое помещение. Только один раз счастливый случай
позволил дикарям действительно покуражиться над белым населением в
окрестностях столичного города Харькова. В один из вечеров после сухого жаркого
дня с запада пришла грозовая туча. Заворачивая под себя клокочущий серый
гребень, туча поперёк захватила небо, зарычала и бросилась на нашу гору.
Особый второй сводный встретил тучу с восторгом, дно пруда огласилось торжествующими
криками. Туча заколотила по Куряжу из всех своих батареей тяжёлыми
тысячетонными взрывами и вдруг, не удержавшись на шатких небесных качелях,
свалилась на нас, перемешав в дымящемся вихре полосы ливня, громы, молнии и
остервенелый гнев. Особый второй сводный ответил на это душераздирающим
воплем и исступленно заплясал в самом центре хаоса. Но в этот приятный момент на край горы в
сетке дождя вынесся строгий, озабоченный Синенький и заиграл закатисто‑разливчатый
сигнал тревоги. Дикари потушили пляски и вспомнили русский язык: — Чего дудишь? А? У нас?.. Где? Синенький ткнул трубой на Подворки, куда
уже спешили в обход пруда вырвавшиеся из двора колонисты. В сотне метров от
берега жарким обильным костром полыхала хата, и возле неё торжественно ползли
какие‑то элементы процессии. Все сорок чернокожих во главе с вождём
бросились к хате. Десятка полтора испуганных баб и дедов в этот момент
наладили против прибежавших раньше колонистов заграждение из икон, и один из
бородачей кричал: — Какое ваше дело? Господь бог
запалил, господь бог и потушит… Но, оглянувшись, и бородач и другие
верующие убедились, что не только господь бог не проявляет никакой пожарной
заботы, но попустительством Божиим решающее участие в катастрофе
предоставлено нечистой силе: на них с дикими криками несётся толпа
чернокожих, потрясая мохнатыми бедрами и позванивая железными украшениями.
Черномазые лица, исковерканные носовыми платками и увенчанные безобразными
коками, не оставляли никакого места для сомнений: у этих существ не могло быть,
конечно, иных намерений, как захватить всю процессию и утащить её в пекло.
Деды и бабы пронзительно закричали и затопали по улице в разные стороны,
прижимая иконы под мышками. Ребята бросились к конюшне и к коровнику, но было
уже поздно: животные погибли. Разгневанный Семён первым попавшимся в руки
поленом высадил окно и полез в хату. Через минуту в окне вдруг показалась
седая бородатая голова, и Семён закричал из хаты: — Принимай дида, хай ему… Ребята приняли деда, а Семён выскочил в
другое окно и запрыгал по зелёному мокрому двору, спасаясь от ожогов. Один из
чернокожих понесся в колонию за линейкой. Туча уже унеслась на восток, растянув по
небу чёрный широкий хвост. Из колонии прилетел на Молодце Антон Братченко: — Линейка сейчас будет… А граки ж
где? Чего тут одни хлопцы? Мы уложили деда на линейку и потянулись
за ним в колонию. Из‑за ворот и плетней на нас смотрели неподвижные
лица и одними взглядами предавали нас анафеме. Село отнеслось к нам холодно, хотя и
доходили до нас слухи, что народившаяся в колонии дисциплина жителями
одобряется. По субботам и воскресеньям наш двор
наполнялся верующими. В церковь обычно заходили только старики, молодежь
предпочитала прогуливаться вокруг храма. Наши сторожевые сводные и этим
формам общения — с нами или с богами? — положили конец. На время
богослужения выделялся патруль, надевал голубые повязки и предлагал верующим
такую альтернативу: — Здесь вам не бульвар. Или
проходите в церковь, или вычищайтесь со двора. Нечего здесь носиться с вашими
предрассудками. Большинство верующих предпочитало
вычищаться. До поры до времени мы не начинали наступления против религии.
Напротив, намечался даже некоторый контакт между идеалистическим и
материалистическим мировоззрением. Церковный совет иногда заходил ко мне для
разрешения мелких погранвопросов. И однажды я не удержался и выразил
некоторые свои чувства церковному совету: — Знаете что, деды! Может быть, вы
выберетесь в ту церковь, что над этим самым… чудотворным источником, а? Там
теперь всё очищено, вам хорошо будет… — Гражданин начальник, — сказал
староста, — как же мы можем выбраться, если то не церковь, а часовня
вовсе? Там и престола нет… А разве мы вам мешаем? — Мне двор нужен. У нас повернуться
негде. И обратите внимание: у нас всё покрашено, побелено, в порядке, а ваш
этот собор стоит ободранный, грязный… Вы выбирайтесь, а я собор этот в два
счёта раскидаю, через две недели цветник на том месте будет. Бородатые улыбаются, мой план им по душе,
что ли… — Раскидать не штука, — говорит
староста. — А построить как? Хе‑хе! Триста лет тому строили,
трудовую копейку на это дело не одну положили, а вы теперь говорите:
раскидаю. Это вы так считаете, значит: вера как будто умирает. А вот увидите,
не умирает вера… народ знает… Староста основательно уселся в
апостольское кресло, и даже голос у него зазвенел, как в первые века
христианства, но другой дед остановил старосту: — Ну, зачем вы такое говорите, Иван
Акимович? Гражданин заведующий своё дело наблюдает, он, как советская власть,
выходит, ему храм, можно так сказать, что и без надобности. А только внизу,
как вы сказали, так то часовня. Часовня, да. И к довершению, место
осквернённое, прямо будем говорить… — А вы святой водой
побрызгайте, — советует Лапоть. Старик смутился, почесал в бороде: — Святая вода, сынок, не на каждом
месте пользует. — Ну… как же не на каждом!.. — Не на каждом, сынок. Вот, если,
скажем, тебя покропить, не поможет ведь, правда? — Не поможет, пожалуй, —
сомневается Лапоть. — Ну вот видишь, не поможет. Тут с
разбором нужно. — Попы с разбором делают? — Священники наши? Они понимают,
конечно. Понимают, сынок. — Они‑то понимают, что им
нужно, — сказал Лапоть, — а вы не понимаете. Пожар вчера был… Если
бы не хлопцы, сгорел бы дед. Как тёпленький, сгорел бы. — Значит, господу угодно так.
Сгореть такому старому, может, уготовано было от господа бога. — А хлопцы впутались и помешали… Старик крякнул: — Молодой ты, сынок, об этих делах
размышлять. — Ага? — А только под горой часовня.
Часовня, да, и престола не имеет. Деды ушли, смиренно попрощавшись, а на
другой день нацепили на стены собора верёвки и петли, и на них повисли
мастера с вёдрами. Потому ли, что устыдились ободранных стен храма, потому
ли, что хотели доказать живучесть веры, но церковный совет ассигновал на
побелку собора четыреста рублей. Контакт. Колонисты до поры до времени к собору
относились без вражды, скорее с любопытством. Пацаны обратились ко мне с
просьбой: — Ведь можно же нам посмотреть, что
они там делают в церкви? — Посмотрите. Жорка предупредил пацанов: — Только, смотрите, не хулиганить.
Мы боремся с религией убеждением и перестройкой жизни, а не хулиганством. — Да что мы, хулиганы, что
ли? — обиделись пацаны. — И вообще нужно, понимаете, не
оскорблять никого, там… Как‑нибудь так, понимаете, деликатнее… Так… Хотя Жорка делал это распоряжение больше
при помощи мимики и жестов, пацаны его поняли. — Да знаем, всё хорошо будет. Но через неделю ко мне подошёл старенький
сморщенный попик и зашептал: — Просьба к вам, гражданин
начальник. Нельзя, конечно, ничего сказать, ваши мальчики ничего такого не
делают, только знаете… всё-таки соблазн для верующих, неудобно как‑то…
Они, правда, и стараются, боже сохрани, ничего такого не можем сказать, а
всё-таки распорядитесь, пусть не ходят в церковь. — Хулиганят, значит, понемножку? — Нет, боже сохрани, не хулиганят, нет.
Ну а приходят в трусиках, в шапочках этих… как они… А некоторые крестятся,
только, знаете, левой рукой крестятся и вообще не умеют. И смотрят в разные
стороны, не знают, в какую сторону смотреть, повернётся, знаете, то боком к
алтарю, то спиной. Ему, конечно, интересно, но всё-таки дом молитвы, а
мальчики они же не знают, как это молитва, и благолепие, и страх божий. В
алтарь заходят, скромно, конечно, смотрят, ходят, иконы трогают, на престоле
всё наблюдают, а один даже стал, понимаете, в царских вратах и смотрит на
молящихся. Неудобно, знаете. Я успокоил попика, сказал, что мешать ему
больше не будем, а на собрании колонистов объявил: — Вы ребята, в церковь не ходите,
поп жалуется. Пацаны возмутились: — Что? Ничего такого не было. Кто
заходил, не хулиганил: пройдёт, там это, и домой. Это он врёт, водолаз! — А для чего вы там крестились?
Зачем тебе понадобилось креститься? Что ты, в бога веришь, что ли? — Так говорили же не оскорблять. А
кто их знает, как с ними нужно? Там все какие‑то психические. Стоят,
стоят, а потом бах на колени и крестятся. Ну, и наши думают, чтобы не
оскорблять. — Так вот, не ходите, не надо. — Да что ж? Мы и не пойдём… А и
смешно ж там! Говорят как‑то чудно. И все стоят, а чего стоят? А в этой
загородке… как она… ага, алтарь, так там чисто, коврики, пахнет так, а
только, ха, поп там здорово работает, руки вверх так задирает… Здорово! — А ты и в алтаре был? — Я так зашёл, а водолаз как раз
задрал руки и лопочет что‑то. А я стою и не мешаю ему вовсе, а он
говорит: иди, иди, мальчик, не мешай. Ну, я и ушёл, что мне… Ребята были очень заинтересованы, как
Густоиван относится к церкви, и он, действительно, один раз отправился в
церковь, но возвратился оттуда очень разочарованный. Лапоть спрашивает его: — Скоро будешь дьяконом? — Не‑е… — говорит, улыбаясь,
Густоиван. — Почему? — Та… это, хлопцы говорят, контра… и
в церкви там ничего нет… одни картины… В середине июня колония была приведена в
полный порядок. Десятого июня электростанция дала первый ток, керосиновые
лампочки отправили в кладовку. Водопровод заработал несколько позже. В середине же июня колонисты перебрались
в спальни. Кровати были сделаны почти наново в нашей кузнице, положили новые
тюфяки и подушки, но на одеяла у нас не хватило, а покрыть постели разным
старьём не хотелось. На одеяла нужно было истратить до десяти тысяч рублей.
Совет командиров несколько раз возвращался к этому вопросу, но решение всегда
получалось одинаковое, которое Лапоть формулировал так: — Одеяла купить — свинарни не
кончим. Ну их к свиньям, одеяла! В летнее время одеяла были нужны только
для парада, очень хотелось всем, до зарезу хотелось на праздник первого снопа
приготовить нарядные спальни. А теперь спальни стояли белым пятном на нашем
радужном бытии. Но нам везло. Халабуда часто приезжал в колонию, ходил
по спальням, ремонтам, постройкам, гуторил с хлопцами, был очень польщён, что
его жито собирались снимать с торжеством. Колонисты полюбились Халабуде, он
говорил: — Там наши бабы болтают языками: то
понимаете, не так, то неправильно, я никак не разберу, хоть бы мне кто-нибудь
объяснил, какого им хрена нужно? Работают ребята, стараются, ребята хорошие,
комсомольцы. Ты их там дразнишь, что ли? Но, отзываясь горячо на все злобы дня,
Халабуда холодел, как только разговор заходил об одеялах. Лапоть с разных
сторон подъезжал к Сидору Карповичу. — Да, — вздыхает Лапоть, —
у всех людей есть одеяла, а у нас нет. Хорошо, что Сидор Карпович с нами. Вот
увидите, он нам подарит… Халабуда отворачивается и недовольно
рокочет: — Тоже хитрые, подлецы… «Сидор
Карпович подарит…» На другой день Лапоть прибавляет в ключе
один бемоль: — Выходит так, что и Сидор Карпович
не поможет. Бедные горьковцы! Но и бемоль не помогает, хотя мы и видим,
что на душе у Сидора Карповича становится «моторошно», как говорят украинцы. Однажды под вечер Халабуда приехал в
хорошем настроении, хвалил поля, горизонты, свинарню, свиней. Порадовался в
спальне отшнурованным постелям, прозрачности вымытых оконных стёкол, свежести
полов и пухлому уюту взбитых подушек. Постели, правда, резали глаза ослепительной
наготой простынь, но я уже не хотел надоедать старику одеялами. Халабуда по
собственному почину загрустил, выходя из спален, и сказал: — Да, чёрт его дери… Одеяло нужно…
тот, кто его… достать. Когда мы с Халабудой вышли во двор, все
четыреста колонистов стояли в строю: был час гимнастики. Пётр Иванович
Горович в полном соответствии со строевыми правилами колонии подал команду: — Товарищи колонисты, смирно! Салют! Четыреста рук вспыхнули движением и
замерли над рядами повернувшихся к нам серьёзных лиц. Взвод барабанщиков
закатил далеко к горизонтам четыре такта частой дроби приветствия. Горович
подошёл с рапортом и вытянулся перед Халабудой: — Товарищ председатель комиссии
помощи детям! В строю колонистов имени Горького на занятиях триста
восемьдесят девять, отсутствуют на дежурстве три, в сторожевом сводном шесть,
больных два. Бывалый кавалерист Пётр Иванович сделал
шаг в сторону и открыл глазам Сидора Карповича раздвинутый на широкие
спортивные интервалы, замерший в салюте очаровательный строй горьковцев. Сидор Карпович взволнованно дёрнул ус,
посерьёзнел раз в десять против обычного, стукнул суковатой палкой о землю и
сказал громко неизменным своим басом: — Здорово, хлопцы! Сидору Карповичу пришлось основательно
хлопнуть глазами, когда звонкий хор четырёхсот молодых глоток ответил: — Дра!.. Халабуда не выдержал, улыбнулся,
оглянулся и смущённо рокотнул: — Ишь, стервецы. До чего
насобачились! Это… я вот скажу им… одну вещь скажу. — Вольно стоять! Колонисты отставили правую ногу,
забросили руки за спину, колыхнули талией и улыбнулись Сидору Карповичу. Сидор Карпович ещё раз стукнул палкой о
землю, ещё раз дёрнул за ус. — Я, знаете, ребята, речей не люблю
говорить, а сейчас скажу, что ж. Вот видите — молодцы, прямо в глаза вам
говорю: молодцы. И всё это у вас идёт по‑нашему, по‑рабочему,
хорошо идёт, прямо скажу: был бы у меня сын, пусть будет такой, как вы, пусть
такой будет. А что там бабы разные говорят, не обращайте внимания. Я вам
прямо скажу: вы свою линию держите, потому, я старый большевик и рабочий тоже
старый, я вижу. У вас это всё по‑нашему. Если кто скажет не так, не
обращайте внимания, вы себе прите вперёд. Понимаете, вперёд. Вот! А я в знак
того прямо вам говорю: одеяла я вам дарю, укрывайтесь одеялами! Хлопцы рассыпали кристаллы строя и бросились
к нам. Лапоть выскочил вперёд, присел, взмахнул руками, крикнул: — Что? Так значит… Сидор Карпович,
ура! Мы с Горовичем еле успели отскочить в
сторону. Халабуду подняли на руках, подбросили несколько раз и потащили в
клуб, торчала только над толпой его суковатая палка. У дверей клуба Халабуду опустили на
землю. Встрёпанный, покрасневший и взволнованный, он смущённо поправлял
пиджак и уже удивлённо зацепился за какой‑то карман, когда к нему
подошёл Таранец и скромно сказал: — Вот ваши часы, а вот кошелек и ещё
ключи. — Всё выпало? — спросил удивлённо
Халабуда. — Не выпало, — сказал
Таранец, — а я принял, а то могло выпасть и потеряться… бывает, знаете… Халабуда взял из рук Таранца свои
ценности, и Таранец отошёл в толпу. — Народ, я тебе скажу!.. Честное
слово! И вдруг расхохотался: — Ах, вы… Ну, что это такое, в самом
деле… Где этот самый… который «принял»? Он уехал в город растроганный. Я был поэтому прямо уничтожен на другой
день, когда Сидор Карпович в собственном богатом кабинете встретил меня
недоступно холодно и не столько говорил со мной, сколько рылся в ящиках
стола, перелистывал блокноты и сморкался. — Одеял у нас нет, — сказал
он, — нет! — Давайте деньги, мы купим. — И денег нет… денег нет… И потом,
сметы такой тоже нет? — А как же вчера? — Ну, мало ли что? Что там…
разговоры. Если нет ничего, что ж… Я представил себе среду, в которой живёт
Халабуда, вспомнил Чарльза Дарвина, приложил руку к козырьку и вышел. В колонии известие об измене Сидора
Карповича встретили с раздражением. Даже Галатенко возмущался: — Дывысь, какой человек! Ну, так
теперь же ему в колонию нельзя приехать. А он говорил: «На баштан буду
приезжать. И сторожить буду…» На другой день я отвёз в арбитражную
комиссию жалобу на председателя помдета, в которой напирал не на юридическую
сторону вопроса, а на политическую: не можем допустить, чтобы большевик не
держал слово. К нашему удивлению, на третий день
вызвали в арбитраж меня и Лаптя. Перед судейским красным столом стал Халабуда
и начал что‑то доказывать. За его спиной притаились представители
окружающей среды, в очках, с гофрированными затылками, с американскими
усиками, и о чём-то перешёптывались между собой. Председатель, в чёрной
косоворотке, лобастый и кареглазый, положил растопыренную пятерню на какую‑то
бумажку и перебил Халабуду: — Подожди, Сидор. Скажи прямо:
обещал одеяла? Халабуда покраснел и развёл руками: — Ну… разговор был такой… Мало ли
что! — Перед строем колонистов? — Это верно… в строю были мальчишки? — Качали? — Да, мальчишки!.. Качали… что ты им
сделаешь? — Плати. — Как? — Плати, говорю. Одеяла нужно дать,
так и постановили. Судьи улыбнулись. Халабуда повернулся к
окружающей среде и что‑то забубнил угрожающе. Мы подождали несколько дней, и Задоров
поехал к Халабуде получать одеяла или деньги. Сидор Карпович не пустил
Задорова к себе, а его управляющий разъяснил: — Не понимаю, как могло прийти в
голову вам судиться с нами? Что это за порядок? Ну вот, пожалуйста, у меня
лежит постановление арбитражной комиссии. Видите, лежит? — Ну? — Ну и всё. И пожалуйста, сюда не ходите.
Может быть, мы ещё решим обжаловать. В крайнем случае, мы внесём в смету
будущего года. Вы думаете, как: поехали на базар и купили четыреста одеял?
Это вам серьёзное учреждение… Задоров возвратился из города очень
расстроенный. В совете командиров кипели и бурлили целый вечер и решили
обратиться с письмом к Григорию Ивановичу Петровскому. Но на другой день
нашёлся выход, такой простой и естественный, такой даже весёлый, что вся
колония от неожиданности хохотала и прыгала и мечтала о той счастливой минуте,
когда в колонию приедет Халабуда и колонисты будут с ним разговаривать. Выход
состоял в том, что судебный исполнитель наложил арест на текущий счёт
помдета. Прошло ещё два дня: меня вызвали в тот самый высокий кабинет, и тот
же бритый товарищ, который в своё время интересовался, почему мне не нравятся
сорокарублёвые воспитатели, сидел в широком кресле и наливался весёлой
кровью, наблюдая за шагающим по кабинету Халабудой, тоже налитым кровью, но
уже другого сорта. Я молча остановился у дверей, и бритый
поманил меня пальцем, с трудом удерживая смех: — Иди сюда… Как же это? Как же это
ты, брат, осмелился, а? Это не годится, надо снять арест, а то… вот он ходит
тут, а его в собственный карман не пускают. Он пришёл на тебя жаловаться.
Говорит: не хочу работать, меня обижает заведующий горьковской. Я молчал, потому что не понимал, какая
спираль закручивается бритым. — Арест надо снять, — сказал
серьёзно хозяин. — Что это ещё за новости, аресты какие‑то! Он вдруг снова не удержался и закатился в
своём кресле. Халабуда заложил руки в карманы и смотрел на площадь. — Прикажете снять арест? —
спросил я. — Да ведь вот в чём дело:
приказывать не имею права. Слышишь, Сидор Карпович, не имею права! Я ему
скажу: сними арест, а он скажет: не хочу! У тебя, я вижу, в кармане чековая
книжка. Выпиши чек, на сколько там: на десять тысяч? Ну вот… Халабуда отвалился от окна, вытащил руку
из кармана, тронул рыжий ус и улыбнулся: — Ну, и народ же сволочной, что ты
скажешь? Он подошёл ко мне, хлопнул меня по плечу: — Молодец, так с нами и нужно! Ведь
мы кто? Бюрократы! Так и нужно! Бритый снова взорвался смехом и даже
платок вытащил. Халабуда, улыбаясь, достал книжку и написал чек. Первый сноп праздновался пятого июля. Это был наш старый праздник, для которого
давно был выработан порядок и который давно сделался важнейшей вехой в нашем
годовом календаре. Но сейчас в нём преобладала идея сдачи колонии после
военной операции. Эта идея захватила самого последнего колониста, и поэтому
подготовка к празднику проходила «без сигналов», в глубоком захвате страсти и
крепкого решения: всё должно быть прекрасно. Недоделанных мест почти что и не
было: на кроватях теперь лежали красные новые одеяла, пруд блестел чистым
зеркалом, на склоне горы протянулись семь новых террас для будущего сада. Было
сделано всё. Силантий резал кабанов, сводный отряд Буцая развешивал гирлянды
и лозунги. Над воротами на белом фоне свода Костя Ветковский старательно
расположил: И ВОДРУЗИМ НАД ЗЕМЛЁЮ КРАСНОЕ ЗНАМЯ
ТРУДА! а на внутренней стороне ворот коротко: ЕСТЬ! Второго числа разряженный тринадцатый
сводный под командой Жевелия развёз по городу приглашения. В день праздника с утра намеченный к
жатве полугектар ржи обнесён рядами красных флагов, дорога к этому месту
украшена также флагами и гирляндами. У въездных ворот маленький столик
гостевой комиссии. Над обрывом у пруда поставлены столы на шестьсот мест, и
праздничный заботливый ветерок шевелит углы белых скатертей, лепестки букетов
и халаты столовой комиссии. За воротами, внизу на дороге, дежурят
верхом на Молодце и Мэри одетые в красные трусики и рубашки, в белых
кавказских шляпах Синенький и Зайченко. За плечами у них развеваются белые
полуплащи с красной звездой, отороченные настоящим кроличьим мехом. Ваня
Зайченко в неделю изучил все наши девятнадцать сигналов, и командир бригады
сигналистов Горьковский признал его заслуживающим чести быть дежурным
трубачом на празднике. Трубы повешены у них через плечо на атласной ленте. В десять часов показались первые гости —
пешеходы с Рыжовской станции. Это представители харьковских комсомольских
организаций. Всадники подняли трубы, развесив по плечам атласные ленты,
крепче уперлись в стремена и три раза протрубили привет. Начался праздник. В воротах гостей
встречает гостевая комиссия в голубых повязках, каждому прикалывает на груди
три колоска ржи, перевязанные красной ленточкой, и передаёт особый билетик,
на котором написано, к примеру: 11‑й отряд колонистов приглашает
вас обедать за его столом. К‑р отряда Д. Жевелий Гостей ведут осматривать колонию, а снизу
уже раздаются новые звуки привета наших великолепных всадников. Двор и помещения колонии наполняются
гостями. Приходят представители харьковских заводов, сотрудники окрисполкома
и наробраза, сельсоветов соседних сел, корреспонденты газет, на машинах
подъезжают к воротам Джуринская, Юрьев, Клямер, Брегель, и товарищ Зоя, члены
партийных организаций, приезжает и бритый товарищ. Приезжает на своём форде и
Халабуда. Халабуду встречает специально для этого собравшийся совет
командиров, вытаскивает из машины и сразу же бросает в воздух. С другой
стороны машины стоит и хохочет бритый. Когда Халабуду поставили на землю,
бритый спрашивает: — Что они из тебя сейчас выкачали? Халабуда обозлился: — А ты думаешь, не выкачали? Они
всегда выкачают. — Да ну? А что? — Трактор выкачали! Дарю трактор —
фордзон… Ну, чёрт с вами, качайте, только теперь уже всё. Пришлось Халабуде ещё полетать по
воздуху, и его немедленно куда‑то утащили хлопцы. Во дворе колонии становится людно, как на
главной улице города. Колонисты, украшенные бутоньерками, широкими нарядными
рядами ходят по дорожкам с приезжими, улыбаются им алыми губами, освещают их
лица то смущённым, то открытым сиянием глаз, на что‑то указывают, куда‑то
увлекают. В двенадцать часов во двор въехали
Синенький и Зайченко, наклонившись с седел, пошептались с дежурным командиром
Наташей Петренко, и Синенький, разгоняя смеющихся гостей и колонистов,
галопом ускакал на хозяйственный двор. Через минуту оттуда раздались
поднебесные звуки общего сбора, который всегда играется на октаву выше всякого
другого сигнала. Ваня Зайченко подхватил. Колонисты, бросив гостей, сбегались
к главной площадке, и, не успел улететь к Рыжову последний трубный речитатив,
они уже вытянулись в одну линию, и на левый фланг, высоко подбрасывая пятки и
умиляя гостей, пронесся с зелёным флажком Митя Нисинов. Я начинаю каждым
нервом ощущать своё торжество. Этот радостный мальчишеский строй, сине‑белой
лентой вдруг выросший рядом с линией цветников, уже ударил по глазам, по
вкусам и по привычкам собравшихся людей, уже потребовал к себе уважения. Лица
гостей, до этого момента доброжелательно‑покровительственные, какие
бывают обыкновенно у взрослых, великодушно относящихся к ребятам, вытянулись
вдруг и заострились вниманием. Юрьев, стоящий сзади меня, сказал громко: — Здорово, Антон Семёнович! Так
их!.. Колонисты озабоченно заканчивали
равнение, то и дело поглядывая на меня. Я уверен, что везде всё готово, и не
задерживаю следующей команды: — Под знамя, смирно! Из‑за стены собора, строго подчиняя
своё движение темпам салюта, вышла Наташа и повела к правому флангу знамённую
бригаду. Я обратился к колонистам с двумя словами,
поздравил с праздником, поздравил с победой. — А теперь отдадим честь лучшим
нашим товарищам, восьмому сводному первого снопа отряду Буруна. Снова заиграли трубы привет. Из далёких,
широко открытых ворот хозяйственного двора вышел восьмой сводный. О, дорогие
гости, я понимаю ваше волнение, я понимаю ваши неотрывные, поражённые
взгляды, потому что уже не в первый раз в жизни я сам поражён и восхищен
высокой торжественной прелестью восьмого сводного отряда! Пожалуй, я имею
возможность больше вашего видеть и чувствовать. Впереди отряда Бурун, маститый,
заслуженный Бурун, не впервые водящий вперёд рабочие отряды колонии. У него
на богатырских плечах высоко поднята сияющая отточенная коса с грабельками,
украшенная крупными ромашками. Бурун величественно красив сегодня, особенно
красив для меня, потому что я знаю: это не только декоративная фигура впереди
живой картины, это не только колонист, на которого стоит посмотреть, это,
прежде всего действительный командир, который знает, кого ведёт за собой и
куда ведёт. В сурово‑спокойном лице Буруна я вижу мысль о задаче: он
должен сегодня в течение тридцати минут убрать и заскирдовать пол гектара
ржи. Гости не видят этого. Гости не видят и другого: этот сегодняшний
командир косарей — студент медицинского института, в этом сочетании особо
убедительно струятся линии нашего советского стиля. Да мало ли чего не видят
гости и даже не могут видеть, потому хотя бы, что не только же на Буруна
смотреть. За Буруном идут по четыре в ряд шестнадцать косарей в таких же
белых рубахах, с такими же расцветшими косами. Шестнадцать косарей! Так легко
их пересчитать! Но из этих сколько славных имен: Карабанов, Задоров, Белухин,
Шнайдер, Георгиевский! Только последний ряд составлен из молодых горьковцев:
Воскобойников, Сватко, Перец и Коротков. За косарями шестнадцать девушек. На
голове у каждой венок из цветов, и в душе у каждой венок из прекрасных наших
советских дней. Это вязальщицы. Восьмой сводный отряд подходит уже к нам,
когда из ворот на рысях выносятся две жатки, запряжённые каждая двумя парами
лошадей. И у каждой в гриве и на упряжи цветы, цветами убраны и крылья жаток.
На правых конях ездовые в седлах, на сиденье первой машины сам Антон Братченко,
на второй — Горьковский. За жатками конные грабли, за граблями бочка с водой,
а на бочке Галатенко, самый ленивый человек в колонии, но совет командиров,
не моргнув глазом, премировал Галатенко участием в восьмом сводном отряде.
Сейчас можно видеть, с каким старанием, как не лениво украсил цветами свою
бочку Галатенко. Это не бочка, а благоухающая клумба, даже на спицах колёс
цветы, и, наконец, за Галатенко линейка под красным крестом, на линейке Елена
Михайловна и Смена — всё может быть на работе. Восьмой сводный остановился против нашего
строя. Из строя выходит Лапоть и говорит: — Восьмой сводный! За то, что вы
хорошие комсомольцы, колонисты и хорошие товарищи, колония наградила вас
большой наградой: вы будете косить наш первый сноп. Сделайте это, как
полагается, и покажите ещё раз всем пацанам, как нужно работать и как нужно
жить. Совет командиров поздравляет вас и просит вашего командира товарища
Буруна принять командование над всеми нами. Эта речь, как и все последующие речи,
неизвестно кем сочинена. Она произносится из года в год в одних и тех же
словах, записанных в совете командиров. И именно потому они выслушиваются с
особенным волнением, и с особым волнением все колонисты затихают, когда
подходит ко мне Бурун, пожимает руку и говорит тоже традиционно необходимое: — Товарищ заведующий, разрешите
вести восьмой сводный отряд на работу и дайте нам на помощь этих хлопцев. Я должен отвечать так, как я и отвечаю: — Товарищ Бурун, веди восьмой
сводный на работу, а хлопцев этих бери на помощь. С этого момента командиром колонии
становится Бурун. Он даёт ряд команд к перестроению, и через минуту колония
уже в марше. За барабанщиками и знаменем идут косари и жатки, за ними вся
колония, а потом гости. Гости подчиняются общей дисциплине, строятся в ряды и
держат ногу. Халабуда идёт рядом со мной и говорит бритому: — Чёрт!.. С этими одеялами!.. А то и
я был бы в строю… вот, с косой! Я киваю Силантию, и Силантий летит на
хозяйственный двор. Когда мы подходим к намеченному полугектару, Бурун
останавливает колонну и, нарушая традиции, спрашивает колонистов: — Поступило предложение назначить в
восьмой сводный отряд в бригаде Задорова пятым косарем Сидора Карповича
Халабуду. Чи есть возражения? Колонисты смеются и аплодируют. Бурун
берёт из рук Силантия украшенную косу и передаёт её Халабуде. Сидор Карпович
быстро, по‑юношески, снимает с себя пиджак, бросает его на межу,
потрясает косой: — Спасибо! Халабуда становится в ряд косарей пятым у
Задорова. Задоров грозит ему пальцем: — Смотрите же, не воткните в землю!
Позор нашей бригаде будет. — Отстань, — говорит
Халабуда, — я ещё вас научу… Строй колонистов выравнивается на одной
стороне поля. В рожь выносится знамя — здесь будет связан первый сноп. К
знамени подходят Бурун, Наташа, и наготове держится Зорень, как самый младший
член колонии. — Смирно! Бурун начинает косить. В несколько
взмахов косы он укладывает к ногам Наташи порцию высокой ржи. У Наташи из
первого накоса готово перевесло. Сноп она связывает двумя‑тремя ловкими
движениями, двое девчат надевают на сноп цветочную гирлянду, и Наташа,
розовая от работы и удачи, передаёт сноп Буруну. Бурун подымает сноп на плечо
и говорит курносому, серьёзному Зореню, высоко задравшему носик, чтобы
слышать, что говорит Бурун: — Возьми этот сноп из моих рук,
работай и учись, чтобы, когда вырастешь, был комсомольцем, чтобы и ты добился
той чести, которой добился я, — косить первый сноп. Ударил жребий Зореня. Звонко‑звонко,
как жаворонок над нивой, отвечает Зорень Буруну: — Спасибо тебе, Грицько! Я буду
учиться и буду работать. А когда вырасту и стану комсомольцем, добуду и себе
такую честь — косить первый сноп и передать его младшему пацану. Зорень берёт сноп и весь утопает в нём.
Но уже подбежали к Зореню пацаны с носилками, и на цветочное ложе их
укладывает Зорень свой богатый подарок. Под гром салюта знамя и первый сноп
переносятся на правый фланг. Бурун подаёт команду: — Косари и вязальщицы — по местам! Колонисты разбегаются по намеченным
точкам и занимают все четыре стороны поля. Поднявшись на стременах, Синенький трубит
сигнал на работу. По этому знаку все семнадцать косарей пошли кругом поля,
откашивая широкую дорогу для жатвенных машин. Я смотрю на часы. Проходит пять минут, и
косари подняли косы вверх. Вязальщицы довязывают последние снопы и относят их
в сторону. Наступает самый ответственный момент работы. Антон и Витька и
откормленные, отдохнувшие кони готовы. — Рысью… ма‑а‑арш! Жатки с места выносятся на прокошенные
дорожки. Ещё две‑три секунды, и они застрекотали по житу, идя уступом
одна за другой. Бурун с тревогой прислушивается к их работе. За последние дни
много они передумали с Антоном и Шере, много повозились над жатками, два раза
выезжали в поле. Будет большим скандалом, если кони откажутся от рыси, если
нужно будет на них кричать, если жатка заест и остановится. Но лицо Буруна постепенно светлеет. Жатки
идут с ровным механическим звуком, лошади свободно набирают рысь, даже на
поворотах не задерживаются, хлопцы неподвижно сидят в седлах. Один, два
круга. В начале третьего жатки так же красиво проносятся мимо нас, и
серьёзный Антон бросает Буруну: — Всё благополучно, товарищ командир! Бурун повернулся к строю колонистов и
поднял косу: — Готовься! Смирно! Колонисты опустили руки, но внутри у них
всё рвётся вперёд, мускулы уже не могут удержать задора. — На поле… бегом! — Бурун опустил косу. Три с
половиной сотни ребят ринулись в поле. На рядах скошенной ржи замелькали их
руки и ноги. С хохотом, опрокидываясь друг через друга, как мячики,
отскакивая в сторону, они связали скошенный хлеб и погнались за жатками, по трое,
по четверо наваливаясь животами на каждую порцию колосьев: — Чур пятнадцатого отряда!.. Гости хохочут, вытирая слёзы, и Халабуда,
уже вернувшийся к нам, строго смотрит на Брегель: — А ты говоришь… Ты посмотри!.. Брегель улыбнулась: — Ну, что же… я смотрю: работают
прекрасно и весело. Но ведь это только работа… Халабуда произнёс какой‑то звук,
что‑то среднее между "б" и "д", но дальше ничего не
сказал Брегель, а посмотрел на бритого свирепо и заворчал: — Поговори с нею… Возбуждённый, счастливый Юрьев жал мне
руку и уговаривал Джуринскую: — Нет, серьёзно… вы подумайте!..
Меня это трогает, и я не знаю почему. Сегодня это, конечно, праздник, это не
рабочий день… Но знаете, это… это мистерия труда. Вы понимаете? Бритый внимательно смотрит на Юрьева: — Мистерия труда? Зачем это? По‑моему,
тут что хорошо: они счастливы, они организованны, и они умеют работать. На
первое время, честное слово, довольно. Как вы думаете, товарищ Брегель? Брегель не успела подумать, потому что
перед нами осадил Молодца Синенький и пропищал: — Бурун прислал… Копны кладём!
Собираться всем к копнам. У копен под знаменем мы пели
«Интернационал». Потом говорили речи, и удачные и неудачные, но все одинаково
искренние, и говорили их люди, чуткие, хорошие люди, граждане страны
трудящихся, растроганные и праздником, и пацанами, и близким небом, и
стрекотаньем кузнечиков в поле. Возвратившись с поля, обедали вперемежку,
забыв, кто кого старше и кто кого важнее. Даже товарищ Зоя сегодня шутила и
смеялась. Праздник продолжался долго. Ещё играли в
лапту, и в «довгои лозы», и в «масло». Халабуде завязали глаза, дали в руки
жгут и заставили безуспешно ловить юркого пацана с колокольчиком. Ещё водили
гостей купаться в пруде, ещё пацаны представляли феерию на главной площадке.
Феерия начиналась хоровой декламацией: Что у нас будет через пять лет? Тогда у нас будет городской совет, Новый цех во дворе, Новый сад по всей нашей горе, И мы очень бы хотели, Чтобы у нас были электрические качели. А заканчивалась феерия пожеланием: И колонист будет как пружина, А не как резиновая шина. После фейерверка на берегу пруда пошли
провожать гостей на Рыжов. На машинах уехали раньше и, прощаясь со мной,
бритый — «хозяин» — сказал: — Ну что ж? Так держать, товарищ
Макаренко! — Есть так держать, — ответил
я. |
|
||||
|
|
12. Жизнь покатилась дальше
И снова пошли один за одним строгие и
радостные рабочие дни, полные забот, маленьких удач и маленьких провалов, за
которыми мы не видим часто крупных ступеней и больших находок, надолго вперёд
определяющих нашу жизнь. И, как и раньше, в эти рабочие дни, а больше
поздними затихшими вечерами складывались думы, подытоживались быстрые дневные
мысли, прощупывались неуловимо‑нежные контуры будущего. Но приходило будущее, и обнаруживалось,
что вовсе оно не такое нежное и можно было бы обращаться с ним бесцеремоннее.
Мы недолго скорбели об утраченных возможностях, кое‑чему учились и
снова жили уже с более обогащённым опытом, чтобы совершать новые ошибки и
жить дальше. Как и раньше, на нас смотрели строгие
глаза, ругали нас и доказывали, что ошибок мы не должны совершать, что мы
должны жить правильно, что мы не знаем теории, что мы должны… вообще, мы были
кругом должны. В колонии скоро завелось настоящее
производство. Разными правдами и неправдами мы организовали деревообделочную
мастерскую с хорошими станками: строгальным, фуговальным, пилами, сами
изобрели и сделали шипорезный станок. Мы заключили договоры, получили авансы
и дошли до такого нахальства, что открыли в банке текущий счёт. Делали мы дадановские ульи. Эта штука
оказалась довольно сложной, требующей большой точности, но мы насобачились на
этом деле и стали ульи выпускать сотнями. Делали мебель, зарядные ящики и ещё
кое‑что. Открыли мы и металлообрабатывающую мастерскую, но в этой
отрасли не успели добиться успехов, нас настигла катастрофа. Так проходили месяцы. Отбиваясь направо и
налево, приспособляясь, прикидываясь, иногда рыча и показывая зубы, иногда
угрожая настоящим ядовитым жалом, а часто даже хватая за штаны чью‑нибудь
подвернувшуюся ногу, мы продолжали жить и богатеть. Богатели мы и друзьями. Кроме Джуринской
и Юрьева в самом Наркомпросе нашлось много людей, обладающих реальным умом,
естественным чувством справедливости, положительным хотением задуматься над
деталями нашего трудного дела. Но ещё больше было друзей в широком обществе,
в партийных и окружных органах, в печати, в рабочей среде. Только благодаря
им для нашей работы хватало кислорода. Пошла вглубь культурная работа. Школа
доходила до шестого класса. Появился в колонии и Василий Николаевич Перский,
человек замечательный. Это был Дон‑Кихот, облагороженный веками
техники, литературы и искусства. У него и рост и худоба были сделаны по
Сервантесу, и это очень помогало Перскому «завинтить» и наладить клубную
работу. Он был большой выдумщик и фантазер, и я не ручаюсь, что в его
представлении мир не был населён злыми и добрыми духами. Но я всем рекомендую
приглашать для клубной работы только дон‑кихотов. Они умеют в каждой
щепке увидеть будущее, они умеют из картона и красок создавать феерии, с ними
хлопцы научатся выпускать стенгазеты длиной в сорок метров, в бумажной модели
аэроплана различить бомбовоза и разведчика и до последней капли крови
отстаивать преимущество металла перед деревом. Такие дон‑кихоты
сообщают клубной работе необходимую для неё страсть, горение талантов и
рождение творцов. Я не стану здесь описывать всех подвигов Перского, скажут
коротко, что он переродил наши вечера, наполнил их стружкой, точкой, клеем,
спиртовыми лампами и визгом пилы, шумом пропеллеров, хоровой декламацией и
пантомимой. Много денег стали мы тратить на книги. На
алтарном возвышении уже не хватало места для шкафов, а в читальном зале — для
читающих. И было ещё кое‑что. Первое — оркестр! На Украине, а может
быть и в Союзе, наша колония первой завела эту хорошую вещь. Товарищ Зоя
потеряла последние сомнения в том, что я — бывший полковник, но зато совет
командиров был доволен. Правда, заводить оркестр в колонии — очень большая
нагрузка для нервов, потому что в течение четырёх месяцев вы не можете найти
ни одного угла, где бы не сидели на стульях, столах, подоконниках баритоны,
басы, тенора и не выматывали вашу душу и души всех окружающих непередаваемо
отвратительными звуками. Но Первого мая мы вошли в город с собственной
музыкой. Сколько в этот день было ярких переживаний, слёз умиления и удивлённых
восторгов у харьковских интеллигентов, старушек, газетных работников и
уличных мальчишек! Вторым достижением было кино. Оно
позволило нам по‑настоящему вцепиться в работу капища, стоявшего
посреди нашего двора. Как ни плакал церковный совет, сколько ни угрожал, мы
начинали сеансы точно по колокольному перезвону к вечерне. Никогда этот
старый сигнал не собирал столько верующих, сколько теперь. И так быстро.
Только что звонарь слёз с колокольни, батюшка только что вошёл в ворота, а у
дверей нашего клуба уже стоит очередь в две‑три сотни человек. Пока
батюшка нацепит ризы, в аппаратной киномеханик нацепит ленту, батюшка заводит
«Благословенно царство…», киномеханик заводит своё. Полный контакт! Этот контакт для Веры Березовской
кончился скорбно. Вера — одна из тех моих воспитанниц, себестоимость которых
в моём производстве очень велика, сметным начертаниям они никогда даже не
снилась. В первое время после «болезни почек» Вера
притихла и заработалась. Но чуть‑чуть порозовели у неё щеки, чуть‑чуть
на какой‑нибудь миллиметр прибавилось подкожного жирка, Вера заиграла
всеми красками, плечами, глазами, походкой, голосом. Я часто ловил её в
темноватых углах рядом с какой‑нибудь неясной фигурой. Я видел, каким
убегающим и неверным сделался серебряный блеск её глаз, каким отвратительно‑неискренним
тоном она оправдывалась: — Ну что вы, Антон Семёнович! Уже и
поговорить нельзя. В деле перевоспитания нет ничего труднее
девочек, побывавших в руках. Как бы долго не болтался на улице мальчик, в
каких бы сложных и незаконных приключениях он ни участвовал, как бы ни
топорщился он против нашего педагогического вмешательства, но если у него
есть — пусть самый небольшой — интеллект, в хорошем коллективе из него всегда
выйдет человек. Это потому, что мальчик этот, в сущности, только отстал, его
расстояние от нормы можно всегда измерить и заполнить. Девочка, рано почти в
детстве начавшая жить половой жизнью, не только отстала — и физически, и
духовно, она несёт на себе глубокую травму, очень сложную и болезненную. Со
всех сторон на неё направлены «понимающие» глаза, то трусливо‑пахабные,
то нахальные, то сочувствующие, то слезливые. Всем этим взглядам одна цена,
всем одно название: преступление. Они не позволяют девочке забыть о своём
горе, они поддерживают вечное самовнушение в собственной неполноценности. И в
одно время с усекновением личности у этих девочек уживается примитивная
глупая гордость. Другие девушки — зелень против неё, девчонки, в то время
когда она уже женщина, уже испытавшая то, что для других тайна, уже имеющая над
мужчинами особую власть, знакомую ей и доступную. В этих сложнейших
переплётах боли и чванства, бедности и богатства, ночных слёз и дневных
заигрываний нужен дьявольский характер, чтобы наметить линию и идти по ней,
создать новый опыт, новые привычки, новые формы осторожности и такта. Такой трудной для меня оказалась Вера
Березовская. Она много огорчала меня после нашего переезда, и я подозревал,
что в это время она прибавила много петель и узлов на нитке своей жизни.
Говорить с Верой нужно было с особой деликатностью. Она легко обижалась,
капризничала, старалась скорее от меня убежать куда‑нибудь на сено,
чтобы там наплакаться вдоволь. Это не мешало ей попадаться всё в новых и
новых парах, разрушать которые только потому было нетрудно, что мужские их
компоненты больше всего на свете боялись стать на середине в совете
командиров и отвечать на приглашение Лаптя: — Стать смирно и давай объяснения,
как и что! Вера, наконец, сообразила, что колонисты
неподходящий народ для романов, и перенесла свои любовные приключения на
менее уязвимую почву. Возле неё завертелся молоденький телеграфист из Рыжова,
существо прыщеватое и угрюмое, глубоко убеждённое, что высшее выражение
цивилизации на земном шаре — его жёлтые канты. Вера начала ходить на свидания
с ним в рощу. Хлопцы встречали их там, протестовали, но нам уже надоело
гоняться за Верой. Единственное, что можно было сделать, сделал Лапоть. Он
захватил в уединённом месте телеграфиста Сильвестрова и сказал ему: — Ты Верку с толку сбиваешь. Смотри:
женим! Телеграфист отвернул в сторону прыщавую
подушку лица: — Чего там «женим»! — Смотри, Сильвестров, не женишься,
вязы свернём на сторону, ты ведь нас знаешь… Ты от нас и в своей аппаратной
не спрячешься, и в другом городе найдём. Вера махнула рукой на все этикеты и улетела
на свидание в первую свободную минуту. При встрече со мной она краснела,
поправляла что‑то в причёске, и убегала в сторону. Наконец пришёл час и для Веры. Поздно
вечером она пришла в мой кабинет, развязно повалилась на стул, положила нога
на ногу, залилась краской и опустила веки, но сказала громко, высоко держа
голову, сказала неприязненно: — У меня есть к вам дело. — Пожалуйста, — ответил я ей
так же официально. — Мне необходимо сделать аборт. — Да? — Да. И прошу вас: напишите записку
в больницу. Я молчал, глядя на неё. Она опустила
голову. — Ну… и всё. Я ещё чуточку помолчал. Вера пробовала
посматривать на меня из‑за опущенных век, и по этим взглядам я понял,
что она сейчас бесстыдна: и взгляды эти, и краска на щеках, и манера
говорить. — Будешь рожать, — сказал я ей
сухо. Вера посмотрела на меня кокетливо‑косо
и завертела головой: — Нет, не буду. Я не ответил ей ничего, запер ящики
стола, надел фуражку. Она встала, смотрела на меня по‑прежнему боком,
неудобно. — Идём! Спать пора, — сказал я. — Так мне нужно… записку. Я не могу
ожидать! Вы же должны понимать! Мы вышли в тёмную комнату совета
командиров и остановились. — Я тебе сказал серьёзно и своего
решения не изменю. Никаких абортов! У тебя будет ребёнок! — Ах! — крикнула Вера, убежала,
хлопнула дверью. Дня через три она встретила меня за
воротами, когда поздно вечером я возвращался из села, и пошла рядом, начиная
мирным, искусственно‑кошачьим ходом: — Антон Семёнович, вы всё шутите, а
мне вовсе не до шуток. — Что тебе нужно? — У, не понимают будто!.. Записка
нужна, чего вы представляетесь? Я взял её под руку и повёл на полевую
дорогу: — Давай поговорим. — О чём там говорить!.. Вот ещё,
господи! Дайте записку, и все! — Слушай, Вера, — сказал
я, — я не представляюсь и не шучу. Жизнь — дело серьёзное, играть в
жизни не нужно и опасно. В твоей жизни случилось серьёзное дело: ты полюбила
человека… Вот выходи замуж. — На чертей он мне сдался, ваш
человек? Замуж я буду выходить, такое придумали!.. И ещё скажете: детей
нянчить! Дайте мне записку!.. И никого я не полюбила! — Никого не полюбила? Значит, ты
развратничала? — Ну, и пускай развратничала! Вы,
конечно, всё можете говорить! — Я вот и говорю: я тебе
развратничать не позволю! Ты сошлась с мужчиной, ты будешь матерью! — Дайте записку, я вам
говорю! — крикнула Вера уже со слезами. — И чего вы издеваетесь
надо мною? — Записки я не дам. А если ты будешь
просить об этом, я поставлю вопрос в совете командиров. — Ой, господи! — вскрикнула она
и, опустившись на межу, принялась плакать, жалобно вздрагивая плечами и захлёбываясь. Я стоял над ней и молчал. С баштана к нам
подошёл Галатенко, долго рассматривал Веру на меже и произнёс не спеша: — Я думал, что это тут скиглит? А
это Верка плачет… А то всё смеялась… А теперь плачет… Вера затихла, встала с межи, аккуратно отряхнула
платье, так же деловито последний раз всхлипнула и пошла к колонии,
размахивая рукой и рассматривая звёзды. Галатенко сказал: — Пойдёмте, Антон Семёнович, в
курень. От кавуном угощу! Царь‑кавун называется! Там и хлопцы сидят. Прошло два месяца. Наша жизнь катилась,
как хорошо налаженный поезд: кое‑где полным ходом, на худых мостах
потихоньку, под горку — на тормозах, на подъёмах — отдуваясь и фыркая. И
вместе с нашей жизнью катилась по инерции и жизнь Веры Березовской, но она
ехала зайцем на нашем поезде. Что она беременна, не могло укрыться от
колонистов, да, вероятно, и сама Вера с подругами поделилась секретом, а
какие бывают секреты у ихнего брата, всем известно. Я имел случай отдать
должное благородству колонистов, в котором, впрочем, и раньше был уверен.
Веру не дразнили и не травили. Беременность и рождение ребёнка в глазах ребят
не были ни позором, ни несчастьем. Ни одного обидного слова не сказал Вере ни
один колонист, не бросил ни одного презрительного взгляда. Но о Сильвестрове
— телеграфисте — шёл разговор особый. В спальнях и в «салонах», в сводном
отряде, в клубах, на току, в цехе, видимо, основательно проветрили все детали
вопроса, потому что Лапоть предложил мне эту тему, как совсем готовую: — Сегодня в совете поговорим с
Сильвестровым. Не возражаете? — Я не возражаю, но, может быть,
Сильвестров возражает? — Его приведут. Пускай не
прикидывается комсомольцем! Сильвестрова вечером привели Жорка
Волохов, и, при всей трагичности вопроса, я не мог удержаться от улыбки,
когда поставили его на середину и Лапоть завинтил последнюю гайку: — Стань смирно! Сильвестров до холодного пота боялся
совета командиров. Он не только вышел на середину, не только стал смирно, он
готов был совершать какие угодно подвиги, разгадывать какие угодно загадки,
только бы вырваться целым и невредимым из этого ужасного учреждения.
Неожиданно всё повернулось таким боком, что загадки пришлось разгадывать
самому совету, ибо Сильвестров мямлил на середине: — Товарищи колонисты, разве я какой
оскорбитель… или хулиган?.. Вы говорите — жениться. Я готов с удовольствием,
так что я сделаю, если она не хочет? — Как не хочет? — подскочил
Лапоть. — Кто тебе сказал? — Да она ж сама и сказала… Вера. — А ну, давай её в совет! Зорень! — Есть! Зорень с треском вылетел в дверь и через
две минуты снова ворвался в кабинет и закивал носиком на Лаптя, правым ухом
показывая на какие‑то дальние области, где сейчас находилась Вера: — Не хочет!.. Понимаешь, я говорю… а
она говорит, иди ты! Лапоть обвёл взглядом совет и остановился
на Федоренко. Федоренко солидно поднялся с места, дружески‑небрежно
подбросил руку, сочно и негромко сказал «есть» и двинулся к дверям. Под его
рукой прошмыгнул в двери Зорень и с паническим грохотом скатился с лестницы.
Сильвестров бледнел и замирал на середине, наблюдая, как на его глазах
колонисты сдирали кожу с поверженного ангела любви. Я поспешил за Федоренко и остановил его
во дворе: — Иди в совет, я пойду к Вере. Федоренко молча уступил мне дорогу. Вера сидела на кровати и терпеливо
ожидала пыток и казней, перебирая в руках белые большие пуговицы. Зорень
делал перед ней настоящую охотничью стойку и вякал дискантом: — Иди! Верка, иди!.. А то Федоренко…
Иди!.. Лучше иди! — Он зашептал: — Иди! А то Федоренко… на руках
понесёт. Зорень увидел меня и исчез, только на том
месте, где он стоял, подскочил синенький вихрик воздуха. Я присел на кровать Веры, кивнул двум‑трём
девочкам, чтобы вышли. — Ты не хочешь выходить замуж за
Сильвестрова? — Не хочу. — И не надо. Это правильно. Продолжая перебирать пуговицы, Вера
сказала не мне, а пуговицам: — Все хотят меня замуж выдать! А
если я не хочу!.. И сделайте мне аборт! — Нет! — А я говорю: сделайте! Я знаю: если
я хочу, не имеете права. — Уже поздно! — Ну и пусть поздно! — Поздно. Ни один врач не может это
сделать. — Может! Я знаю! Это только
называется кесарево сечение. — Ты знаешь, что это такое? — Знаю. Разрежут, и всё. — Это очень опасно. Могут зарезать. — И пусть лучше зарежут, чем с
ребёнком! Не хочу! Я положил руку на её пуговицы. Она
перевела взгляд на подушку. — Видишь, Вера. Для врачей тоже есть
закон. Кесарево сечение можно делать только тогда, если мать не может родить. — Я тоже не могу! — Нет, ты можешь. И у тебя будет
ребёнок! Она сбросила мою руку, поднялась с
постели, с силой швырнула пуговицы на кровать: — Не могу! И не буду рожать! Так и
знайте! всё равно — повешусь или утоплюсь, а рожать не буду! Она повалилась на кровать и заплакала. В спальню влетел Зорень: — Антон Семёнович, Лапоть говорит,
чи ожидать Веру или как? И Сильвестрова как? — Скажи, что Вера не выйдет за него
замуж. — А Сильвестрова? — А Сильвестрова гоните в шею! Зорень молниеносно трепыхнул невидимым
хвостиком и со свитом пролетел в двери. Что мне было делать? Сколько десятков
веков живут люди на свете, и вечно у них беспорядок в любви! Ромео и Джульетта,
Отелло и Дездемона, Онегин и Татьяна, Вера и Сильвестров. Когда это кончится?
Когда, наконец, на сердцах влюблённых будут поставлены манометры, амперметры,
вольтметры и автоматические быстродействующие огнетушители? Когда уже не
нужно будет стоять над ними и думать: повеситься или не повеситься? Я обозлился и вышел. Совет уже выпроводил
жениха. Я попросил остаться девочек‑командиров, чтобы поговорить с ними
о Вере. Полная краснощёкая Оля Ланова выслушала меня приветливо‑серьёзно
и сказала: — Это правильно. Если бы сделали ей
это самое, совсем пропала бы. Наташа Петренко, следившая за Олей
спокойными умными глазами, молчала. — Наташа, какое твоё мнение? — Антон Семёнович, — сказала
Наташа, — если человек захочет повеситься, ничего не сделаешь. И уследить
нельзя. Девочки говорят: будем следить. Конечно, будем, но только не уследим. Мы разошлись. Девчата пошли спать, а я —
думать и ожидать стука в окно. В этом полезном занятии я провёл
несколько ночей. Иногда ночь начиналась с визита Веры, которая приходила
растрёпанная, заплаканная и убитая горем, усаживалась против меня и несла
самую возмутительную чушь о пропащей жизни, о моей жестокости, о разных
удачных случаях кесарева сечения. Я пользовался возможностью преподать Вере
некоторые начала необходимой жизненной философии, которых она была лишена в
вопиющей степени. — Ты страдаешь потому, —
говорил я, — что ты очень жадная. Тебе нужны радости, развлечения,
удовольствия, утехи. Ты думаешь, что жизнь — это бесплатный праздник. Пришёл
человек на праздник, его все угощают, с ним танцуют, всё для его
удовольствия? — А, по‑вашему, человек должен
всегда мучиться? — По‑моему жизнь — это не
вечный праздник. Праздники бывают редко, а больше бывает труд, разные у
человека заботы, обязанности, так живут все трудящиеся. И в такой жизни
больше радости и смысла, чем в твоём празднике. Это раньше были такие люди,
которые сами не трудились, а только праздновали, получали всякие
удовольствия. Ты же знаешь: мы этих людей просто выгнали. — Да, — всхлипывает
Вера, — по‑вашему, если трудящийся, так он должен всегда страдать. — Зачем ему страдать? Работа и
трудовая жизнь — это тоже радость. Вот у тебя родится сын, ты его полюбишь,
будет у тебя семья и забота о сыне. Ты будешь, как и все, работать и иногда
отдыхать, в этом и заключается жизнь. А когда твой сын вырастет, ты будешь
часто меня благодарить за то, что я не позволил его уничтожить. Очень, очень медленно Вера начинала
прислушиваться к моим словам и посматривать на своё будущее без страха и
отвращения. Я мобилизовал все женские силы колонии, и они окружили Веру
специальной заботой, а ещё больше специальным анализом жизни. Совет
командиров выделил для Веры отдельную комнату. Кудлатый возглавил комиссию из
трёх человек, которая стаскивала в эту комнату обстановку, посуду, разную
житейскую мелочь. Даже пацаны начали проявлять интерес к этим сборам, но,
разумеется, они не способны были отделаться от своего постоянного легкомыслия
и несерьёзного отношения к жизни. Только поэтому я однажды поймал Синенького
в только что сшитом детском чепчике: — Это что такое? Ты почему это
нацепил? Синенький стащил с головы чепчик и тяжело
вздохнул. — Где ты это взял? — Это… Вериного ребёнка… чепа…
Девчата шили… — Чепа! Почему она у тебя? Я там проходил… Ну? — Проходил, а она лежит… — Это ты в швейной мастерской…
проходил? Синенький понимает, что «не надо больше
слов», и поэтому молча кивает, глядя в сторону. — Девочки пошили для дела, а ты
изорвёшь, испачкаешь, бросишь… Что это такое? Нет, это обвинение выше слабых сил
Синенького: — Та нет, Антон Семёнович, вы
разберите… Я взял, а Наташа говорит: «До чего ты распустился». Я говорю: «Это
я отнесу Вере». А она сказала: «Ну, хорошо, отнеси». Я побежал к Вере. А Вера
пошла в больничку. А вы говорите — порвёшь… Ещё прошёл месяц, и Вера примирилась с
нами и с такой же самой страстью, с какой требовала от меня кесарева сечения,
она бросилась в материнскую заботу. В колонии снова появился Сильвестров, и
Галатенко, на что уж человек расторопный, и тот развёл руками: — Ничего нельзя понять: обратно
женятся! Наша жизнь катилась дальше. В нашем
поезде прибавилось жизни, и он летел вперёд, обволакивая пахучим весёлым
дымом широкие поля советских бодрых дней. Советские люди смотрели на нашу
жизнь и радовались. По воскресеньям к нам приезжали гости: студенты вузов, рабочие
экскурсии, педагоги, сотрудники газет и журналов. На страницах газет и
двухнедельников они печатали о нас простые дружеские рассказы, портреты
пацанов, снимки свинарни и деревообделочной мастерской. Гости уходили от нас
чуточку растроганные скромным нашим блеском, жали руки новым друзьям и на
приглашение ещё приходить салютоварили и говорили «есть». Всё чаще и чаще начали привозить к нам
иностранцев. Хорошо одетые джентльмены вежливо щурились на примитивное наше
богатство, на древние монастырские своды, на бумажные спецовки ребят.
Коровником нашим мы тоже не могли их удивить. Но живые хлопчачьи морды,
деловой сдержанный гомон и чуть‑чуть иронические молнии взглядов,
направленные на рябые чулки и куцые куртки, на выхоленные лица и крошечные
записные книжечки, удивляли гостей. К переводчикам они приставали с вредными
вопросами и ни за что не хотели верить, что мы разобрали монастырскую стену,
хотя стены и на самом деле уже не было. Просили разрешения поговорить с
ребятами, и я разрешал, но категорически требовал, чтобы никаких вопросов о
прошлом ребят не было. Они настораживались и начинали спорить. Переводчик мне
говорил, немного смущаясь: — Они спрашивают, для чего вы
скрываете прошлое воспитанников? Если оно было плохое, тем больше вам чести. И уже с полным удовольствием переводчик
переводил мой ответ: — Нам эта честь не нужна. Я требую
самой обыкновенной деликатности. Мы же не интересуемся прошлым наших гостей. Гости расцветали в улыбках и кивали
дружелюбно. — Иес, иес! Гости уезжали в дорогих авто, а мы
продолжали жить дальше. Осенью ушла от нас новая группа
рабфаковцев. Зимою в классных комнатах, кирпич за кирпичом, мы снова
терпеливо складывали строгие пролёты школьной культуры. И вот снова весна! Да ещё и ранняя. В три
дня всё было кончено. На твёрдой аккуратной дорожке тихонько доживает
рябенькая сухая корочка льда. По шляху кто‑то едет, и на телеге весело
дребезжит пустое ведро. Небо синее, высокое, нарядное. Алый флаг громко
полощется под весенним тёплым ветром. Парадные двери клуба открыты настежь, в
непривычной прохладе вестибюля особенная чистота и старательно разостлан
после уборки половик. В парниках давно уже кипит работа.
Соломенные маты днём сложены в сторонке, стеклянные крыши косят на подпорках.
На краях парников сидят пацаны и девчата, вооружённые острыми палочками,
пикируют рассаду и неугомонно болтают о том, о сём. Женя Журбина, человек
выпуска тысяча девятьсот двадцать четвёртого года, первый раз в жизни
свободно бродит по земле, заглядывая в огромные ямы парников, опасливо
посматривает на конюшню, потому что там живёт Молодец, и тоже лепечет по
интересующим её вопросам: — А кто будет пахать? Хлопцы, да? И
Молодец будет пахать? С хлопцами? Да? А как это пахать? Селяне праздновали пасху. Целую ночь они
толкались на дворе, носились с узлами, со свечками. Целую ночь тарабанили на
колокольне. Под утро разошлись, разговелись и забродили пьяные по селу и
вокруг колонии. Но тарабанить не перестали, лазили на колокольню по очереди и
трезвонили. Дежурный командир, наконец, тоже полез на колокольню и высыпал
оттуда на село целую кучу музыкантов. Приходили в праздничных пиджаках члены
церковного совета, их сыновья и братья, размахивали руками, смелее были, чем
всегда раньше, и вопили: — Не имеете права! Советская власть
дозволяет святой праздник! Открывай колокольню! Праздников праздник! Кто
может запретить звонить? — Ты и без звона мокрый, —
говорит Лапоть. — Не твоё дело, что мокрый, а почему
нельзя звонить? — Папаша, — отвечает
Кудлатый, — собственно говоря, надоело, понимаешь? По какому случаю торжество? Христов
воскрес? А тебе какое до этого дело? На Подворках никто не воскресал? Нет!
Так чего вы мешаетесь не в своё дело! Члены церковного совета шатаются на
месте, подымают руки и галдят: — Всё равно! Звони! И всё дело! Хлопцы, смеясь, составили цепь и вымели
эту пасхальную пену в ворота. На эту сцену издали смотрит Козырь и
неодобрительно гладит бородёнку: — До чего народ разбаловался! Ну и
празднуй себе потихоньку. Нет, ходит и ругается, господи, прости! Вечером по селу забегали с ножами,
закричали, завертели подворскими конфликтами перед глазами друг друга и
повезли к нам в больничку целые гроздья порезанных и избитых. Из города
прискакал наряд конной милиции. У крыльца больнички толпились родственники
пострадавших, свидетели и сочувствующие, всё те же члены церковного совета,
их сыновья и братья. Колонисты окружают их и спрашивают с ироническими
улыбками: — Папаша, звонить не надо? …После пасхи долетели к нам слухи: по
другую сторону Харькова ГПУ строит новый дом, и там будет детская колония, не
наробразовская, а ГПУ. Ребята отметили это известие как признак новой эпохи: — Строят новый дом, понимаете!
Совсем новый! В середине лета в колонию прикатил
автомобиль, и человек в малиновых петлицах сказал мне: — Пожалуйста, если у вас есть время,
поедем. Мы заканчиваем дом для коммуны имени Дзержинского. Надо посмотреть… с
педагогической точки зрения. Поехали. Я был поражён. Как? Для беспризорных?
Просторный солнечный дворец? Паркет и расписные потолки? Но недаром я мечтал семь лет. Мне снились
будущие дворцы педагогики. С тяжёлым чувством зависти и обиды я развернул
перед чекистом «педагогическую точку зрения». Он доверчиво принял её за плод
моего педагогического опыта и поблагодарил. Я возвращался в колонию, скомканный
завистью. Кому‑то придётся работать в этом дворце? Нетрудно построить
дворец, а есть кое‑что и потруднее. Но я грустил недолго. Разве мой
коллектив не лучше любого дворца? В сентябре Вера родила сына. Приехала в
колонию товарищ Зоя, закрыла двери и вцепилась в меня: — У вас девочки рожают? — Почему множественное число? И чего
вы так испугались? — Как — «чего испугались»? Девочки
рожают детей? — Разумеется, детей… Что же они ещё
могут рожать? — Не шутите, товарищ! — Да я и не шучу! — Надо немедленно составить акт. — Загс уже составил всё, что нужно. — То загс, а то мы. — Вас никто не уполномочил
составлять акты рождения. — Не рождения, а… хуже! — Хуже рождения? Кажется, ничего не
может быть хуже. Шопенгауэр или кто‑то другой говорит… — Товарищ, оставьте этот тон! — Не оставлю! — Не оставите? Что это значит? — Сказать вам серьёзно? Это значит,
что надоело, понимаете, вот надоело, и всё! Уезжайте, никаких актов вы
составлять не будете! — Хорошо! — Пожалуйста! Она уехала, и из её «хорошо» так ничего и
не вышло. Вера обнаружила незаурядные таланты матери, заботливой, любящей и
разумной. Что мне ещё нужно? Она получила работу в нашей бухгалтерии. Давно убрали поля, обмолотились, закопали
что нужно, набили цехи материалом, приняли новеньких. Рано‑рано выпал первый снег.
Накануне было ещё тепло, а ночью неслышно и осторожно закружились над Куряжем
снежинки. Женя Журбина вышла утром на крыльцо, тараща глазёнки на белую
площадку двора, и удивилась: — Кто это посолил землю?.. Мама!..
Это, наверное, хлопцы! |
|
||||
|
|
13. «Помогите мальчику»
Здание коммуны имени Дзержинского было
закончено. На опушке молодого дубового леса, лицом к Харькову, вырос
красивый, серый, искрящийся терезитом дом. В доме высокие светлые спальни,
нарядные залы, широкие лестницы, гардины, портреты. Всё в коммуне было
сделано с умным вкусом, вообще не в стиле наробраза. Для мастерских предоставлено два зала. В
углу одного из них я увидел сапожную мастерскую и очень удивился. В деревообделочной мастерской коммуны
были прекрасные станки. Всё же в этом отделе чувствовалось некоторая неуверенность
организаторов. Строители коммуны поручили мне и колонии
Горького подготовку нового учреждения к открытию. Я выделил Киргизова с
бригадой. Они по горло вошли в новые заботы. Коммуна имени Дзержинского рассчитана
была всего на сто детей, но это был памятник Феликсу Эдмундовичу, и
украинские чекисты вкладывали в это дело не только личные средства, но и всё
свободное время, все силы души и мысли. Только одного они не могли дать новой
коммуне. Чекисты слабы были в педагогической теории. Но педагогической практики
они почему‑то не боялись. Меня очень интриговал вопрос, как
товарищи чекисты вывернутся из трудного положения. Они‑то, пожалуй,
могут игнорировать теорию, но согласится ли теория игнорировать чекистов? В
этом новом, таком основательном деле, не уместно ли будет применить последние
открытия педагогической науки, например, подпольное самоуправление? Может
быть, чекисты согласятся пожертвовать в интересах науки расписными потолками
и хорошей мебелью? Ближайшие дни показали, что чекисты не согласны пожертвовать
ничем. Товарищ Б. усадил меня в глубокое кресло в своём кабинете и сказал: — Видите, какая у меня к вам
просьба: нельзя допустить, чтобы всё это испортили, разнесли. Коммуна,
конечно, нужна, и долго ещё будет нужна. Мы знаем, у вас дисциплинированный
коллектив. Вы нам дайте для начала человек пятьдесят, а потом уже будем
пополнять с улицы. Вы понимаете? У них сразу и самоуправление и порядок.
Понимаете? Ещё бы я не понимал! Я прекрасно понял,
что этот умный человек никакого представления не имеет о педагогической
науке. Собственно говоря, в этот момент я совершил преступление: я скрыл от
товарища Б., что существует педагогическая наука, и ни словом не обмолвился о
«подпольном самоуправлении». Я сказал «есть» и тихими шагами удалился,
оглядываясь по сторонам и улыбаясь коварно. Мне было приятно, что горьковцам поручили
основать новый коллектив, но в этом вопросе были и трагические моменты.
Отдавать лучших — как же это можно? Разве горьковский коллектив не
заинтересован в каждом лучшем? Работа бригады Киргизова заканчивалась. В
наших мастерских делали для коммуны мебель, в швейной начали шить для будущих
коммунаров одежду. Чтобы сшить её по мерке, надо было сразу выделить
пятьдесят «дзержинцев». В совете командиров к задаче отнеслись
серьёзно. Лапоть сказал: — В коммуну нужно послать хороших
пацанов, а только старших не нужно. Пускай старшие, как были горьковцами, так
и останутся. Да им скоро и в жизнь выходить, всё равно. Командиры согласились с Лаптем, но когда
подошли к спискам, начались крупные разговоры. Все старались выделить
коммунаров из чужих отрядов. Мы просидели до глубокой ночи и, наконец,
составили список сорока мальчиков и десяти девочек. В список вошли оба
Жевелия, Горьковский, Ванька Зайченко, Маликов, Одарюк, Зорень, Нисинов,
Синенький, Шаровский, Нардинов, Оля Ланова, Смена, Васька Алексеев, Марк
Шейнгауз. Исключительно для солидности прибавили Мишу Овчаренко. Я ещё раз
просмотрел список и остался им очень доволен: хорошие и крепкие пацаны, хоть
и молодые. Назначенные в коммуну начали готовиться к
переходу. Они не видели своего нового дома, тем больше грустили, расставаясь
с товарищами. Кое‑кто даже говорил: — Кто его знает, как там будет? Дом
хороший, а люди смотря какие будут. К концу ноября всё было готово к
переводу. Я приступил к составлению штата новой коммуны. В виде хороших
дрожжей направлял туда Киргизова. Все это происходило на фоне почти полного
моего разрыва с «мыслящими педагогическими кругами» тогдашнего Наркомпроса
Украины. В последнее время отношение ко мне со стороны этих кругов было не
только отрицательное, но и почти презрительное. И круги эти были как будто
неширокие, и люди там были как будто понятные, а всё же как‑то так
получалось, что спасения для меня не было. Не проходило дня, чтобы то по
случайным, то по принципиальным поводам мне не показывали, насколько я низко
пал. У меня самого начинало уже складываться подозрение к самому себе. Самые хорошие, приятные события вдруг
обращались в конфликты. Может быть, действительно я кругом виноват? В Харькове происходит съезд «Друзей
детей», колония идёт их приветствовать. Условились, что мы подходим к месту
съезда ровно в три часа. Нужно пройти маршем десять километров. Мы
идём не спеша, я по часам проверяю скорость нашего движения, задерживаю
колонну, позволяю ребятам отдохнуть, напиться воды, поглазеть на город. Такие
марши для колонистов — приятная вещь. На улицах нам оказывают внимание, во
время остановок окружают нас, расспрашивают, знакомятся. Нарядные, весёлые
колонисты шутят, отдыхают, чувствуют красоту своего коллектива. Всё хорошо, и
только немного волнует нас цель нашего похода. На моих часах стрелки
показывают три, когда наша колонна с музыкой и развернутым знаменем подходит
к месту съезда. Но навстречу нам выбегает разгневанная интеллигентка и
вякает: — Почему вы так рано пришли? Теперь
детей будете держать на улице? Я показываю часы: — Мало ли что!.. Надо же
приготовиться. — Было условленно в три. — У вас, товарищ, всегда с фокусами. Колонисты не понимают, в чём они
виноваты, почему на них посматривают с презрением. — А зачем взяли маленьких? — Колония пришла в полном составе. — Но разве можно, разве это
допустимо — тащить таких малышей десять километров! Нельзя же быть такими
жестокими только потому, что вам хочется блеснуть! — Малыши были рады прогуляться… А
после встречи мы идём в цирк, — как же можно было оставить их дома? — В цирк? Из цирка когда? — Ночью. — Товарищ, немедленно отпустите
малышей! — «Малыши» — это там, где Зайченко,
Маликов, Зорень, Синенький, — бледнеют в строю, и их глаза смотрят на
меня с последней надеждой. — Давайте их спросим, —
предлагаю я. — И спрашивать нечего, вопрос ясен.
Немедленно отправляйте их домой. — Извините меня, но я не подчиняюсь
вашему распоряжению. — В таком случае, я сама
распоряжусь. Кое‑как скрывая улыбку, я говорю: — Пожалуйста. Она подходит вплотную к нашему левому
флангу: — Дети!.. Вот эти!.. Сейчас же идите
домой!.. Вы устали, наверное… Её ласковый голос никого не обманывает.
Кто‑то говорит: — Как же домой? Не‑е… — И в цирк вы не пойдёте. Будет
поздно… «Малыши» смеются. Зорень играет глазами,
как на танцевальном вечере: — Ох, и хитрая, смотри ты!.. Антон
Семёнович, вы смотрите, какая хитрая! Ваня Зайченко одному ему свойственным
движением торжественно протягивает руку по направлению к знамени: — Вы не так говорите… В строю не так
надо говорить… Надо так: раз, два… Видите, у нас строй и знамя… Видите? Она смотрит с сожалением на этих
окончательно заказарменных детей и уходит. Такие столкновения не имели, конечно,
никаких горестных результатов для текущего дела, но они создавали вокруг меня
невыносимое организационное одиночество, к которому, впрочем, можно и
привыкнуть. Я уже научился понемножку каждый новый случай встречать с угрюмой
готовностью перетерпеть, как‑нибудь пережить. Я старался не вступать в
споры, а если и огрызался, то, честное слово, из одной вежливости, ибо нельзя
же с начальством просто не разговаривать. В октябре случилось несчастье с Аркадием
Ужиковым, которое положило между мной и «ими» последнюю, непроходимую
пропасть. На выходной день приехали к нам погостить
рабфаковцы. Мы устроили для них спальню в одной из классных комнат, а днём
организовали гулянье в лесу. Пока ребята развлекались, Ужиков проник в их
комнату и утащил портфель, в котором рабфаковцы сложили только что полученную
стипендию. Колонисты любили рабфаковцев, «как сорок
тысяч братьев любить не могут». Нам всем было нестерпимо стыдно. До поры до
времени похититель оставался неизвестным, но для меня это обстоятельство было
самым важным. Кража в тесном коллективе не потому ужасна, что пропадает вещь,
и не потому, что один бывает обижен, и не потому, что другой продолжает
воровской опыт, а главным образом потому, что она разрушает общий тон
благополучия, уничтожает доверие товарищей друг к другу, вызывает к жизни
самые несимпатичные инстинкты подозрительности, беспокойства за личные вещи,
осторожный, притаившийся эгоизм. Если виновник кражи не разыскан, коллектив
раскалывается сразу в нескольких направлениях: по спальням ходят шёпоты, в
секретных беседах называют имена подозреваемых, десятки характеров
подвергаются самому тяжёлому испытанию, и как раз таких характеров, которые
хочется беречь, которые и так еле‑еле налажены. Пусть через несколько
дней вор будет найден, пусть он понесёт заслуженное возмездие, — всё
равно, это не залечит ран, не уничтожит обиды, не возвратит многим покойного
места в коллективе. В такой, казалось бы, одинокой краже лежат начала
печальнейших затяжных процессов вражды, озлоблённости, уединения и настоящей
мизантропии. Кража принадлежит к тем многочисленным явлениям в коллективе, в
которых нет субъекта влияния, в которых больше химических реакций, чем
зловредной воли. Кража не страшна только там, где нет коллектива и
общественного мнения; в этом случае дело разрешается просто: один украл,
другой обокраден, остальные в стороне. Кража в коллективе вызывает к жизни
раскрытие тайных дум, уничтожает необходимую деликатность и терпеливость
коллектива, что особенно гибельно в обществе, состоящем из
«правонарушителей». Преступление Ужикова было раскрыто только
на третий день. Я немедленно посадил Ужикова в канцелярии и дверях поставил
стражу, чтобы предотвратить самосуд. Совет командиров постановил передать
дело товарищескому суду. Такой суд собирался у нас очень редко, так как
хлопцы обычно доверяли решению совета. От товарищеского суда Ужиков ничего
хорошего не мог ожидать. Выборы судей происходили в общем собрании, которое
единодушно остановилось на пяти фамилиях: Кудлатый, Горьковский, Зайченко,
Ступицын и Перец. Переца выбрали, чтобы не обижать куряжан, Ступицын славился
справедливостью, а первые три обещали полную невозможность мягкости или
снисхождения. Суд начался вечером, при полном зале. В
зале были Брегель и Джуринская, приехавшие нарочно к этому делу. Ужиков сидел на отдельной скамейке. Все
эти дни он держался нахально, грубил мне и колонистам, посмеивался и вызывал
к себе настоящее отвращение. Аркадий прожил в колонии больше года и за это
время, несомненно, эволюционировал, но направление этой эволюции всегда
оставалось сомнительным. Он стал более аккуратен, прямее держался, нос у него
уже не так сильно перевешивал всё на лице, он научился даже улыбаться. И всё
же это был прежний Аркадий Ужиков, человек без малейшего уважения к кому бы
то ни было и тем более к коллективу, человек, живущий только своей
сегодняшней жадностью. Раньше Ужиков побаивался отца или
милиции. В колонии же ему ничто не грозило, кроме совета командиров или
общего собрания, а эта категория явлений Ужиковым просто не ощущалась.
Инстинкт ответственности у Ужикова ещё более притупился, а отсюда пошли и новая
его улыбка, и новая нахальная мина. Но сейчас Ужиков бледен: очевидно,
товарищеский суд ему несколько импонирует. Дежурный командир приказал встать, вошёл
суд. Кудлатый начал допрос свидетелей и потерпевших. Их показания были полны
сурового осуждения и насмешки. Миша Овчаренко сказал: — Вот тут, понимаете, говорят
хлопцы, что Аркадий этот позорит колонию. Я так скажу, дорогие мои, не может
этого быть, он не может такое — позорить колонию. Он не колонист, куда там
ему, а разве можно сказать такое, что он человек? Посудите сами, разве он
человек? Вот, скажем, собака или кошка — так, честное слово, лучше. Ну, а
если спросить, что ему сделать? Нельзя же его взять и выгнать, это ему не
поможет. А что я предлагаю: нужно построить ему будку и научить гавкать. Если
дня три не покормить, честное слово, научится. А в комнаты его пускать
нельзя. Это была оскорбительная и уничтожающая
речь. Ваня Зайченко хохотал за судейским столом. Аркадий серьёзно повёл
глазом на Мишу, покраснел и отвернулся. Попросила слова Брегель. Кудлатый
предложил ей: — Может быть, вы после хлопцев? Брегель настаивала, и Денис уступил.
Брегель вышла на сцену и сказала пламенную речь. Некоторые места этой речи я
сейчас помню: — Вы судите этого мальчика за то,
что украл деньги. Все здесь говорят, что он виноват, что его нужно крепко
наказать, а некоторые требуют увольнения. Он, конечно, виноват, но ещё больше
виноваты все колонисты. Колонисты затихли в зале и вытянули шеи,
чтобы лучше рассмотреть человека, который утверждает, что они виноваты в
краже Ужикова. — Он у вас прожил больше года и
всё-таки крадёт. Значит, вы плохо его воспитывали, вы не подошли к нему, как
следует, по‑товарищески, вы не объяснили ему, как нужно жить. Здесь
говорят, что он плохо работает, что и раньше крал у товарищей. Это всё
доказывает, что вы не обращали на Аркадия должного внимания. Зоркие глаза пацанов, наконец, увидели
опасность и беспокойно заходили по лицам товарищей. Необходимо признать, что
пацаны не напрасно тревожились, ибо в этот момент коллектив стал перед угрозой.
Но Брегель не увидела тревоги в собрании. С настоящим пафосом она закончила: — Наказывать Аркадия — значит
мстить, а вы не должны унижаться до мести. Вы должны понять, что Аркадий
сейчас нуждается в вашей помощи, он в тяжёлом положении, потому что вы поставили
его против всех, здесь приравнивали его к животному. Надо выделить хороших
парней, которые должны взять Аркадия под свою защиту и помочь ему. Когда Брегель сошла со сцены, в рядах
завертелись, загалдели, заулыбались пацаны. Кто‑то серьёзно‑звонко
спросил: — Чего это она говорила? А? А другой голос ответил немного
сдержаннее, но в форме довольно ехидной: — Дети, помогите Ужикову! В зале засмеялись. Судья Ваня Зайченко
отвалился на спинку стула и стукнул ногами в ящик стола. Кудлатый сказал ему
строго: — Ванька, собственно говоря, какой
ты судья? Ужиков сидел, сидел, склонившись к
коленям, и вдруг прыснул смехом, но немедленно же взял себя в руки и ещё ниже
опустил голову. Кудлатый что‑то хотел сказать ему, но не сказал,
покачал только головой и поколол немного Ужикова взглядом. Брегель, кажется, не заметила этих мелких
событий, она о чём-то оживлённо говорила с Джуринской. Кудлатый объявил, что суд удаляется на
совещание. Мы знали, что меньше часа судьи не истратят на юридические
препирательства и писание приговора. Я пригласил гостей в кабинет. Джуринская забилась в угол дивана,
спряталась за плечо Гуляевой и тайком рассматривала остальных, видимо, искала
правду. Брегель была уверена, что сегодня она преподала нам урок «настоящей
воспитательной работы». Я чувствовал в себе страшное упрямство, не упрямство
прямоты, не упрямство торжества, нет, упрямство горечи и какой‑то
неопределённой беспросветной моей работы. Брегель спросила: — Вы, конечно, не согласны со мной? Я ответил ей: — Хотите чаю? У этих людей гипертрофия силлогизма. Это
средство хорошо, это плохо, следовательно, нужно всегда употреблять первое
средство. Сколько нужно времени, чтобы научить их диалектической логике? Как
им доказать, что моя работа состоит из непрерывного ряда операций, более или
менее длительных, иногда растягивающихся на целые годы и при этом всегда
имеющих характер коллизий, в которых интересы коллектива и отдельных лиц
запутаны в сложные узлы. Как их убедить, что за семь лет моей работы в
колонии не было случаев, совершенно схожих? Как им растолковать, что нельзя
приучать коллектив переживать неясную напряжённость действия, опыт
общественного бессилия, что в сегодняшнем суде объектом воспитательной работы
является не Ужиков и не четыреста отдельных колонистов, а именно коллектив? Дежурный пригласил нас в зал. В полной
тишине, стоя, колонисты выслушали приговор. Приговор: "Как врага трудящихся и вора,
Ужикова нужно с позором выгнать из колонии. Но, принимая во внимание, что за
него просит Наркомпрос, товарищеский суд постановил: 1. Оставить Ужикова в колонии. 2. Не считать его членом колонии на один
месяц, исключить из отряда, не назначать в сводные отряды, запретить всем
колонистам разговаривать с ним, помогать ему, есть за одним столом, спать в
одной спальне, играть с ним, сидеть рядом и ходить рядом. 3. Считать его под командой прежнего
командира Дмитрия Жевелия, и он может говорить с командиром только по делу, а
также, если заболеет, — с врачом. 4. Спать Ужикову в коридоре спален, а
есть за отдельным столом, где укажет ССК, а работать, если захочет, в
одиночку, по наряду командира. 5. Всякого, кто нарушит это
постановление, немедленно выгнать из колонии по приказу ССК. 6. Приговор начинает действовать сразу
после утверждения заведующим колонией". Приговор был одобрен аплодисментами
собрания. Кузьма Леший обратился к нам: — От‑то здорово! Вот это
поможет. А то говорят: помогите бедному мальчику, сделайте ему отмычки, хе! Простодушный Кузьма говорил всё это в
лицо Брегель и не соображал, что говорит дерзости. Брегель с осуждением
посмотрела на лохматого Лешего и сказала мне официально: — Вы, конечно, не утвердите это
постановление? — Надо утвердить, — ответил я. В пустой комнате совета командиров
Джуринская отозвала меня в сторону: — Я хочу с вами поговорить. Что это
за постановление? Как вы на это смотрите? — Постановление хорошее, —
сказал я. — Конечно, бойкот — опасное средство, и его нельзя
рекомендовать как широкую меру, но в данном случае он будет полезен. — Вы не сомневаетесь? — Нет. Видите ли, этого Ужикова в
колонии очень не любят, презирают. Бойкот, во‑первых, на целый месяц
вводит новую, узаконенную форму отношений. Если Ужиков бойкот выдержит,
уважение к нему должно повыситься. Для Ужикова достойная задача. — А если не выдержит? — Ребята его выгонят. — И вы поддержите? — Поддержу. — Но как же это можно? — А как же можно иначе? Коллектив
имеет право защищать себя? — Ценою Ужикова? — Ужиков поищет другое общество. И
это для него будет полезно. Джуринская улыбнулась грустно: — Как назвать такую педагогику? Я не ответил ей. Она вдруг сама
догадалась: — Может быть, педагогикой борьбы? — Может быть. В кабинете Брегель собралась уезжать.
Лапоть пришёл с приказом. — Утверждаем, Антон Семёнович? — Конечно. Прекрасное постановление. — Вы доведёте мальчика до
самоубийства, — сказала Брегель. — Кого? Ужикова? — удивился
Лапоть. — До самоубийства? Ого! Если бы он повесился, не плохо было бы…
Только он не повесится. — Кошмар какой‑то! —
процедила Брегель и уехала. Эти женщины плохо знали Ужикова и
колонию. И колония и Ужиков приступили к бойкоту с увлечением. Действительно,
колонисты прекратили всякое общение с Аркадием, но ни гнева, ни обиды, ни
презрения у них уже не осталось к этому дрянному человеку. Как будто приговор
суда всё это взял на свои плечи. Колонисты издали посматривали на Ужикова с
большим интересом и между собою без конца судачили обо всём происшедшем и обо
всём будущем, ожидающем Ужикова. Многие утверждали, что наказание, наложенное
судом, никуда не годится. Такого мнения держался и Костя Ветковский. — Разве это наказание? Ужиков героем
ходит. Подумаешь, вся колония на него смотрит! Стоит она того! Ужиков действительно ходил героем. На его
лице появилось явное выражение тщеславия и гордости. Он проходил между
колонистами, как король, к которому никто не имеет права обратиться с
вопросом или с беседой. В столовой Ужиков сидел за отдельным маленьким
столиком, и этот столик казался ему троном. Но увлекательная поза героя скоро
израсходовалась. Прошло несколько дней, и Аркадий почувствовал тернии
позорного венца, надетого на его голову товарищеским судом. Колонисты быстро
привыкли к исключительности его положения, а изолированность всё-таки
осталась. Аркадий начал переживать тяжёлые дни совершенного одиночества, дни
эти тянулись пустой, однообразной очередью, целыми десятками часов, не
украшенных даже ничтожной теплотой человеческого общения, А в это время
вокруг Ужикова, как всегда, горячо жил коллектив, звенел смех, плескались
шутки, искрились характеры, мелькали огни дружбы и симпатии. Как ни беден был
Ужиков, а эти радости для него уже были привычны. Через семь дней его командир Жевелий
сказал мне: — Ужиков просит разрешения
поговорить с вами. — Нет, — сказал я, —
говорить с ним я буду тогда, когда он с честью выдержит испытание. Так ему и
передай. И скоро я увидел с радостью, что брови
Аркадия, до того времени неподвижные, научились делать на его челе еле
заметную, но выразительную складку. Он начал подолгу заглядываться на ребят,
задумываться и мечтать о чём-то. Все отметили разительную перемену в его
отношении к работе. Жевелий назначал его большею частью на уборку двора.
Аркадий с неуязвимой точностью выходил на работу, подметал наш большой двор,
очищал сорные ящики, поправлял изгороди у цветников. Часто и по вечерам он
появлялся во дворе со своим совком, поднимая случайные бумажки и окурки,
проверяя чистоту клумб. Целый вечер однажды он просидел в классе над большим
листом бумаги, а наутро он выставил этот лист на видном месте: КОЛОНИСТ, УВАЖАЙ ТРУД ТОВАРИЩА, НЕ БРОСАЙ БУМАЖКИ НА ЗЕМЛЮ. — Смотри ты, — сказал Горьковский, —
товарищем себя считает… На половине испытания Ужикова в колонию
приехала товарищ Зоя. Был как раз обед. Зоя прямо подошла к столику Ужикова и
в затихшей столовой спросила его с тревогой: Вы Ужиков? Скажите, как вы себя
чувствуете? Ужиков встал за столом, серьёзно
посмотрел в глаза Зои и сказал приветливо: — Я не могу с вами говорить: нужно
разрешение командира. Товарищ Зоя бросилась искать Митьку.
Митька пришёл, оживлённый, бодрый, чёрноглазый. — А что такое? — Разрешите мне поговорить с Ужиковым. — Нет, — ответил Жевелий. — Как это — «нет»? — Ну… не разрешаю, и все! Товарищ Зоя поднялась в кабинет и
наговорила мне разного вздора: — Как это так? А вдруг он имеет
жалобу? А вдруг он стоит над пропастью? Это пытка, да? — Ничего не могу сделать, товарищ
Зоя. На другой день на общем собрании
колонистов Наташа Петренко взяла слово: — Хлопцы, давайте уж простим
Аркадия. Он хорошо работает и наказание выдерживает с честью, как полагается
колонисту. Я предлагаю амнистировать. Общее собрание сочувственно зашумело: — Это можно… — Ужиков здорово подтянулся… — Ого! — Пора, пора… — Поможем мальчику! Потребовали отзыва командира. Жевелий
сказал. — Прямо говорю: другой человек стал.
И вчера приехала… эта самая… Да знаете ж! — Знаем! — Она к нему: мальчик, мальчик, а он
— молодец, не поддался. Я сам раньше думал, что с Аркадия толку не будет, а
теперь скажу: у него есть… есть что‑то такое… наше… Лапоть осклабился: — Выходит так: амнистируем. — Голосуй, — сказал колонисты.
А Ужиков в это время притаился у печки и опустил голову. Лапоть оглянул
поднятые руки и сказал весело: — Ну что ж… единогласно, выходит.
Аркадий, где ты там? Поздравляю, свободен! Ужиков вышел на середину, посмотрел на
собрание, открыл рот и… заплакал. В зале заволновались. Кто‑то
крикнул: — Он завтра скажет… Но Ужиков провёл по глазам рукавом
рубахи, и, приглядевшись к нему, я увидел, что он страдает. Аркадий, наконец,
сказал: — Спасибо, хлопцы… И девчата… И
Наташа… Я… тот… всё понимаю, вы не думайте… Пожалуйста. — Забудь, — сказал строго
Лапоть. Ужиков покорно кивнул головой. Лапоть
закрыл собрание, и на сцену к Ужикову бросились хлопцы. Их сегодняшние
симпатии были оплачены чистым золотом. Я вздохнул свободно, как врач после
трепанации черепа. В декабре открылась коммуна имени
Дзержинского. Это вышло очень торжественно и очень тепло. Незадолго до этого пухлым снежным днём
назначенные в коммуну первые пятьдесят воспитанников оделись в новые костюмы,
в пушистые бобриковые пальто, простились в товарищами и потопали через город
в своё новое жилище. Собранные в кучку, они казались нам очень маленькими и
похожими на хороших чёрненьких цыплят. Они пришли в коммуну, покрытые
хлопьями снега, как пухом, радостные и румяные. Так же как цыплята, они бодро
забегали по коммуне и застучали клювами по различным оргвопросам. Уже через
пятнадцать минут у них был совет командиров, и третий сводный отряд приступил
к переноске кроватей. На открытие коммуны горьковцы пришли
строем, с музыкой и знаменем. Они теперь были в гостях у товарищей, которые с
этого дня стали носить новое, непривычно торжественное имя коммунаров. Среди
собравшихся четырёхсот бывших беспризорных группа чекистов, самых
ответственных, самых занятых, самых заслуженных деятелей, вовсе не казалась
группой благотворителей. Между теми и другими сразу установились отношения
дружеские и тёплые, но в этих отношениях ярко была видна и разница поколений,
и наше особенное уважение, советское уважение ребят к старшим. Но в то же
время ребята эти выступали не просто как подопечная мелочь — у них была своя
организация, свои законы и своя деловая сфера, в которых были и достоинство,
и ответственность, и долг. Само собой как‑то вышло, что
заведование коммуной поручалось мне, хотя об этом не было ни договорено, ни
объявлено. По сравнению с коммуной Горьковская
колония казалась и более сложным, и более трудным делом. Потеряв пятьдесят
товарищей, горьковцы приняли пятьдесят новых, людей столичных и видавших
виды. Как и раньше бывало, новые быстро усваивали дисциплину колонии и её
традиции, но настоящая культура и настоящее лицо коллективистов делалось
гораздо медленнее. Всё это было уже привычно. Впереди у нас были хорошие дали: мы
начинали мечтать о собственном рабфаке, о новом корпусе машинного отделения,
о новых выпусках в жизнь. А скоро мы прочитали в газетах, что наш Горький
приезжает в Союз. |
|
||||
|
|
14. Награды
Это время — от декабря до июля — было
замечательным временем. В это время мой корабль сильно швыряло в шторме, но
на этом корабле было два коллектива, и каждый из них по‑своему был
прекрасен. Дзержинцы очень быстро довели свой состав
до полутораста человек. К ним пришли тремя группами по тридцать человек новые
силы, все беспризорные первого сорта, все народ на подбор. Жизнь коммунаров
была культурной, чистой жизнью, и со стороны казалось, что коммунарам можно
только завидовать. Многие и в самом деле завидовали, и при этом отнюдь не
беспризорные. Дзержинцы появлялись на людях в хороших
суконных костюмах, украшенных широкими белыми воротниками. У них был оркестр
духовых инструментов из белого металла, и на их трубах стояли знаки знаменитой
пражской фабрики. Коммунары были желанными гостями в рабочих клубах и в клубе
чекистов, куда они приходили солидно‑элегантные, розовые и приветливые.
Их коллектив имел всегда такой высококультурный вид, что многие головы,
обладающие мозговым аппаратом облегчённого образца, даже возмущались. — Набрали хороших детей, одели и
показывают. Вы беспризорных возьмите! Но у меня не было времени скорбеть по
этому поводу. Я еле успевал в течение суток проделать все необходимые дела. Я
переносился из одного коллектива в другой на паре лошадей, и истраченный на
дорогу час казался мне обидным прорывом в моём бюджете времени. Несмотря на
то, что ребячьи ряды нигде не шатались и мы не выходили из берегов полного
благополучия, воспитательские кадры тоже выбивались из сил. В это время я
пришёл к тезису, который исповедую и сейчас, каким бы парадоксальным он ни
казался. Нормальные дети или дети, приведённые в нормальное состояние,
являются наиболее трудным объектом воспитания. У них тоньше натуры, сложнее
запросы, глубже культура, разнообразнее отношения. Они требуют от вас не
широких размахов воли и не бьющей в глаза эмоции, а сложнейшей тактики. И колонисты и коммунары давно перестали
быть группами людей, уединённых от общества. У тех и у других сложные
общественные связи: комсомольские, пионерские, спортивные, военные, клубные.
Между хлопцами и городом проложено множество путей и тропинок, по ним
передвигаются не только люди, но и мысли, идеи и влияния. И поэтому общая картина педагогической
работы приобрела новые краски. Дисциплина и бытовой порядок давно перестали
быть только моей заботой. Они сделались традицией коллектива, в которой он
разбирается уже лучше меня и который наблюдает не по случаю, не по поводу
скандалов и истерик, а ежеминутно, в порядке требований коллективного
инстинкта, я бы сказал. Как ни трудно было мне, моя жизнь в это
время была счастливой жизнью. Нельзя описать совершенно исключительное
впечатление счастья, которое испытываешь в детском обществе, выросшем вместе
с вами, доверяющем вам до конца, идущем с вами вперёд. В таком обществе даже
неудача не печалит, даже огорчение и боль кажутся высокими ценностями. Коллектив горьковцев был для меня роднее
коммунаров. В нём были крепче и глубже дружеские связи, больше людей с
высокой себестоимостью, острее борьба. И горьковцам я был нужнее. Дзержинцам
с первого дня выпало счастье иметь таких шефов, как чекисты, а у горьковцев,
кроме меня и небольшой группы воспитателей, близких людей не было. И поэтому
я никогда не думал, что настанет время, и я уйду от горьковцев. Я вообще
неспособен был представить себе такое событие. Оно могло быть только
предельным несчастьем в моей жизни. Приезжая в колонию, я приезжал домой, и в
общем собрании колонистов, и в совете командиров, даже в тесноте сложнейших
коллизий и трудных решений я отдыхал по‑настоящему. В это время
закрепилась надолго одна из моих привычек: я потерял умение работать в
тишине. Только когда рядом, у самого моего стола звенел ребячий галдёж, я
чувствовал себя по‑настоящему уютно, моя мысль оживала и веселее
работало воображение. И за это в особенности я был благодарен горьковцам. Но коммуна Дзержинского требовала от меня
всё больше и больше. И забота здесь была новее, и новее были педагогические
перспективы. Особенно новым и неожиданным для меня
было общество чекистов. Чекисты — это, прежде всего, коллектив, чего уже
никак нельзя сказать о сотрудниках наробраза. И чем больше я присматривался к
этому коллективу, чем больше входил в рабочие отношения, тем ярче открывалась
передо мною одна замечательная новость. Как это вышло, честное слово, не
знаю, но коллектив чекистов обладал теми самыми качествами, которые я в
течение восьми лет хотел воспитать в коллективе колонии. Я вдруг увидел перед
собой образец, который до сих пор заполнял только моё воображение, который я
логически и художественно выводил из всех событий и всей философии революции,
но которого я никогда не видел и потерял надежду увидеть. Мое открытие было настолько для меня
дорого и значительно, что больше всего я боялся разочароваться. Я держал его
в глубокой тайне, ибо я не хотел, чтобы мои отношения к этим людям сделались
сколько‑нибудь искусственными. Это обстоятельство сделалось точкой
отправления для моего нового педагогического мышления. Меня особенно
радовало, что качества коллектива чекистов очень легко и просто разъясняли
многие неясности и неточности в том воображаемом образце, который до сих пор
направлял мою работу. Я получил возможность в мельчайших деталях представить
себе многие, до сих пор таинственные для меня области. У чекистов очень
высокий интеллект в соединении с образованием и культурой никогда не принимал
ненавистного для меня выражения российского интеллигента. Я и раньше знал,
что это должно быть так, но как это выражается в живых движениях личности,
представить было трудно. А теперь я получил возможность изучить речь, пути
логических ходов, новую форму интеллектуальной эмоции, новые диспозиции
вкусов, новые структуры идеала. И — самое главное — новую форму использования
идеала. Как известно, у наших интеллигентов идеал похож на нахального
квартиранта: он занял чужую жилплощадь, денег не платит, ябедничает,
въедается всем в печенки, все пищат от его соседства и стараются выбраться
подальше от идеала. Теперь я видел другое: идеал не квартирант, а хороший
администратор, он уважает соседский труд, он заботится о ремонте, об
отоплении, у него всем удобно и приятно работать. Во‑вторых, меня
заинтересовала структура принципиальности. Чекисты очень принципиальные люди,
но у них принцип не является повязкой на глазах, как у некоторых моих
«приятелей». У чекистов принцип — измерительный прибор, которым они
пользуются так же спокойно, как часами, без волокиты, но и без поспешности
угорелой кошки. Я увидел, наконец, нормальную жизнь принципа и убедился
окончательно, что моё отвращение к принципиальности интеллигентов было
правильное. Ведь давно известно: когда интеллигент что‑нибудь делает из
принципа, это значит, что через полчаса и он сам, и все окружающее должны
принимать валерьянку. Увидел я и много других особенностей: и
всепроникающую бодрость, и немногословие, и отвращение к штампам,
неспособность разваливаться на диване или укладывать живот на стол, наконец,
весёлую, но безграничную работоспособность, без жертвенной мины и ханжества,
без намёка на отвратительную повадку «святой жертвы». И, наконец, я увидел и
ощутил осязанием то драгоценное вещество, которое не могу назвать иначе, как
социальным клеем: это чувство общественной перспективы, умение в каждый
момент работы видеть всех членов коллектив, это постоянное знание о больших всеобщих
целях, знание, которое всё же никогда не принимает характера доктринёрства и
болтливого, пустого вяканья. И этот социальный клей не покупался в киоске на
пять копеек только для конференций и съездов, это не форма вежливого,
улыбающегося трения с ближайшим соседом, это действительно общность, это
единство движения и работы, ответственности и помощи, это единство традиций. Становясь предметом особой заботы
чекистов, дзержинцы попадали в счастливые условия: им оставалось только
смотреть. А мне уже не нужно было с разгону биться головой о стену, чтобы
убеждать начальство в необходимости и пользе носового платка. Моё удовлетворение было высоким
удовлетворением. Стараясь привести его к краткой формуле, я понял: я близко
познакомился с настоящими большевиками, я окончательно уверил в том, что моя
педагогика — педагогика большевистская, что тип человека, который всегда
стоял у меня как образец, не только моя красивая выдумка и мечта, но и
настоящая реальная действительность, тем более для меня ощутимая, что она
стала частью моей работы. А моя работа в коммуне, не отравленная
никаким кликушеством, была работа хоть и трудная, но посильная человеческому
рассудку. Жизнь коммунаров оказалась вовсе не такой
богатой и беззаботной, как думали окружающие. Чекисты отчисляли из своего
жалованья известный процент на содержание коммунаров, но это было неприемлемо
и для нас, и для чекистов. Уже через три месяца коммуна начала
испытывать настоящую нужду. Мы задерживали жалованье, затруднялись даже в
расходах на питание. Мастерские давали незначительные доходы, потому что по
сути были мастерскими учебными. Правда, сапожную мастерскую мы с хлопцами в
первые же дни затащили в тёмный угол и удушили, навалившись на неё с
подушками. Чекисты сделали вид, будто они не заметили этого убийства. Но в
других мастерских мы никак не могли раскачаться на работу, приносящую доход. Однажды меня пригласил наш шеф,
нахмурился, задумался, положил на стол чек и сказал: — Всё. Я понял: — Сколько здесь? — Десять тысяч. Это последнее. Это
вперёд взяли за год. Больше не будет, понимаете? Используйте этого… он
человек энергичный… Через несколько дней по коммуне забегал
человек отнюдь не педагогического типа — Соломон Борисович Коган. Соломон
Борисович уже стар, ему под шестьдесят, у него больное сердце, и одышка, и
нервы, и грудная жаба, и ожирение. Но у этого человека внутри сидит демон
деятельности, и Соломон Борисович ничего с этим демоном поделать не может.
Соломон Борисович не принёс с собой ни капиталов, ни материалов, ни изобретательности,
но в его рыхлом теле без устали носятся и хлопочут силы, которые ему не
удалось истратить при старом режиме: дух предприимчивости, оптимизма и
напора, знание людей и маленькая, простительная беспринципность, странным
образом уживавшаяся с растроганностью чувств и преданностью идее. Очень
вероятно, что всё это объединялось обручами гордости, потому что Соломон
Борисович любил говорить: — Вы ещё не знаете Когана! Когда вы
узнаете Когана, тогда вы скажете. Он был прав. Мы узнали Когана, и мы
говорим: это человек замечательный. Мы очень нуждались в его жизненном опыте.
Правда, проявлялся этот опыт иногда в таких формах, что мы только холодели и
не верили своим глазам. Соломон Борисович из города привёз воз
бревен. Зачем это? — Как зачем? А складочные помещения?
Я взял заказ на мебель для строительного института, так надо же её куда‑нибудь
складывать. — Никуда её не надо складывать.
Сделаем мебель и отдадим её строительному институту. — Хе‑хе! Вы думаете, что в
самом деле институт? Это фигели‑мигели, а не институт. Если бы это был
институт, стал бы я с ним связываться! — Это не институт? — Что такое институт? Пускай себе он
как хочет называется. Важно, что у них есть деньги. А раз есть деньги, так им
хочется иметь мебель. А для мебели нужна крыша. Вы ж знаете. А крышу они
будут ещё строить, потому что у них ещё и стен нет. — Всё равно, мы не будем строить никаких
складочных помещений. — Я им тоже самое говорил. Они
думают, коммуна Дзержинского — это так себе… Это образцовое учреждение. Оно
будет заниматься какими‑то складами?! Есть у нас для этого время! — А они что? — А они говорят: стройте! Ну, если
им так хочется, так я сказал: это будет стоит двадцать тысяч. А если вы
говорите: не нужно строить, пусть будет по‑вашему. Для чего мы будем
строить складочные помещения, если нам нужен вовсе сборный цех?.. Через две недели Соломон Борисович
начинает строить сборный цех. Закопали столбы, начали плотники складывать
стены. — Соломон Борисович, откуда у нас
деньги на этот самый сборный цех? — Как откуда? Разве я вам не
говорил? Нам перевели двадцать тысяч… — Кто перевел? — Да этот самый институт… — Почему? — Как почему? Им хочется, чтобы были
складочные помещения… Ну, так что? Мне жаль, что ли? — Постойте, Соломон Борисович, но
ведь вы строите не складочные помещения, а сборный цех… Соломон Борисович начинает сердиться: — Мне очень нравится! А кто это
сказал, что не нужны складочные помещения? Это же вы сказали? — Надо возвратить деньги. Соломон Борисович брезгливо морщится: — Послушайте, нельзя же быть таким
непрактичным человеком. Кто же возвращает наличные деньги? Может быть, у вас
такие здоровые нервы, так вы можете, а я человек больной, я не могу рисковать
своими нервами… Возвращать деньги! — Но ведь они узнают. — Антон Семёнович, вы же умный
человек. Что они могут узнать? Ну, пожалуйста, пускай себе завтра приезжают:
люди строят, видите? А разве где написано, что это сборный цех? — А начнёте работать? — Кто мне может запретить работать?
Строительный институт может запретить мне работать? А если я хочу работать на
свежем воздухе или в складочном помещении? Есть такой закон? Нет такого
закона. Логика Соломона Борисовича не знала
никаких пределов. Это был сильнейший таран, пробивающий все препятствия. До
поры до времени мы ей не сопротивлялись, ибо попытки к сопротивлению были с
самого начала подавлены. Весной, когда наша пара лошадей стала
ночевать на лугу, Витька Горьковский спросил меня: — А что это Соломон Борисович строит
в конюшне? — Как строит? — Уже строит! Какой‑то котёл
поставил и трубу делает. — Зови его сюда! Приходит Соломон Борисович, как всегда,
измазанный, потный, запыхавшийся. — Что вы там строите? — Как что строю? Литейную, вы же
хорошо знаете. — Литейную? Ведь литейную решили
делать за баней. — Зачем за баней, когда есть готовое
помещение? — Соломон Борисович! — Ну, что такие — Соломон Борисович? — А лошади? — спрашивает
Горьковский. — А лошади побудут на свежем
воздухе. Вы думаете, только вам нужен свежий воздух, а лошади, пускай дышут
всякой гадостью? Хорошие хозяева! Мы, собственно говоря, уже сбиты с
позиций. Витька всё-таки топорщится: — А когда будет зима? Но Соломон Борисович обращает его в
пепел: — Как вы хорошо знаете, что будет
зима! — Соломон Борисович! — кричит
поражённый Витька. Соломон Борисович чуточку отступает: — А если даже будет зима, так что?
Разве нельзя построить конюшню в октябре? Вам разве не всё равно? Или вам
очень нужно, чтобы я истратил сейчас две тысячи рублей? Мы печально вздыхаем и покоряемся.
Соломон Борисович из жалости к нам поясняет, загибая пальцы: — Май, июнь, июль, тот, как его…
август, сентябрь… Он на секунду сомневается, но потом с
нажимом продолжает: — Октябрь… Подумайте, шесть месяцев!
За шесть месяцев две тысячи рублей сделают ещё две тысячи рублей. А вы
хотите, что конюшня стояла пустая шесть месяцев. Мёртвый капитал, разве это
можно допустить? Мёртвый капитал даже в самых невинных
формах для Соломона Борисовича был невыносим. — Я не могу спать, — говорил
он. — Как это можно спать, когда столько работы, каждая минута — это же
операция. Кто это придумал столько спать? Мы диву давались: только недавно мы были
так бедны, а сейчас у Соломона Борисовича горы леса, металла, станки; в нашем
рабочем дне только мелькает: авизовка, чек, аванс, фактура, десять тысяч,
двадцать тысяч. В совете командиров Соломон Борисович с сонным презрением
выслушивал речи хлопцев о трёхстах рублях на штаны и говорил: — Какой может быть вопрос? Мальчикам
же нужны штаны… И не нужно за триста, это плохие штаны, а нужно за тысячу… — А деньги? — спрашивают
хлопцы. — У вас же есть руки и головы. Вы
думаете, для чего у вас головы? Для того, чтобы фуражку надевать? Ничего
подобного! Прибавьте четверть часа в день в цехе, я вам сейчас достану тысячу
рублей, а может, и больше, сколько там заработаете. Старыми, дешёвыми станками заполнил
Соломон Борисович свои лёгкие цехи, очень похожие на складочные помещения,
заполнил их самым бросовым материалом, связал всё верёвками и уговорами, но
коммунары с восторгом окунулись в этот рабочий хлам. Делали всё: клубную
мебель, кроватные углы, маслёнки, трусики, ковбойки, парты, стулья, ударники
для огнетушителей, но делали всё в несметном количестве, потому что в
производстве Соломона Борисовича разделение труда доведено до апогея: — Разве ты будешь столяром? Ты же
всё равно не будешь столяром, ты же будешь доктором, я знаю. Так делай себе
проножку, для чего тебе делать целый стул? Я плачу за две проножки копейку,
ты в день заработаешь пятьдесят копеек. Жены у тебя нет, детей нет… Коммунары хохотали на совете командиров и
ругали Соломона Борисовича за «халтуру», но у нас уже был промфинплан, а
промфинплан — дело священное. Зарплата у коммунаров была введена с
такой миной, как будто нет никакой педагогики, нет никакого дьявола и его
соблазнов. Когда воспитатели предлагали вниманию Соломона Борисовича
педагогическую проблему зарплаты, Соломон Борисович говорил: — Мы же должны воспитывать, я
надеюсь, умных людей. Какой же он будет умный человек, если он работает без
зарплаты! — Соломон Борисович, а идеи, по‑вашему,
ничего не стоят? — Когда человек получает жалованье,
так у него появляется столько идей, что их некуда девать. А когда у него нет
денег, так у него одна идея: у кого бы занять? Это же факт. Соломон Борисович оказался очень
полезными дрожжами в нашем трудовом коллективе, Мы знали, что его логика —
чужая и смешная логика, но в своём напоре она весело и больно била по многим
предрассудкам и в порядке сопротивления вызывала потребность иного
производственного стиля. Полный хозрасчёт коммуны Дзержинского
пришёл просто и почти без усилий и для нас самих уже не казался такой
значительной победой. Соломон Борисович недаром говорил: — Что такое? Сто пятьдесят
коммунаров не могут заработать себе на суп? А как же может быть иначе? Разве
им нужно шампанское? Или, может, у них жены любят наряжаться? Наши квартальные промфинпланы брали один
за другим широким общим усилием. Чекисты бывали у нас ежедневно. Они вместе с
ребятами въедались в каждую мелочь, в каждый маленький прорывчик, в халтурные
тенденции Соломона Борисовича, в низкое качество продукции, в брак. С каждым
днём осложняясь, производственный опыт коммунаров начал критически покусывать
Соломона Борисовича, и он возмущался: — Что это такое за новости! Они уже
всё знают? Они мне говорят, как делается на ХПЗ, — они что‑нибудь
понимают в ХПЗ? Впереди вдруг засветился общепризнанный
лозунг: «Нам нужен настоящий завод». О заводе стали говорить всё чаще. По мере
того как на нашем текущем счёту прибавлялась одна тысяча за другой, общие
мечты о заводе разделились на более близкие и более возможные подробности. Но
это уже происходило в более позднюю эпоху. Дзержинцы часто встречались с
горьковцами. По выходным дням они ходили в гости друг к другу целыми
отрядами, сражались в футбол, волейбол, городки, вместе купались, катались на
коньках, гуляли, ходили в театр. Очень часто колония и коммуна
объединялась для разных походов — комсомольских, пионерских манёвров,
посещений, приветствий, экскурсий. Я особенно любил эти дни, они были днями
моего настоящего торжества. А я уже хорошо знал, что это торжество последнее. В такие дни по колонии и по коммуне
отдавался общий приказ, указывались форма одежда, место и время встречи. У
горьковцев и у дзержинцев была одинаковая форма: полугалифе, гамаши, широкие
белые воротники и тюбетейки. Обыкновенно я с вечера оставался у горьковцев,
поручив коммуну Киргизову. Мы выходили из Куряжа с расчётом истратить на
дорогу три часа. Спускались с Холодной горы в город. Встреча всегда
назначалась на площади Тевелева, на широком асфальте у здания ВУЦИКа. Как всегда, колонна горьковцев в городе
имела вид великолепный. Наш широкий строй по шести занимал почти всю улицу,
захватывая и трамвайные пути. Сзади нас становились в очередь десятки
вагонов, вагоновожатые нервничали, и неутомимо звенели звонки, но малыши
левого фланга всегда хорошо знали свои обязанности: они важно маршируют,
немного растягивая шаг, бросают иногда хитрый взгляд на тротуары, но ни
трамваев, ни вагоновожатых, ни звонков не удостаивают вниманием., Сзади всех
идёт с треугольным флажком Петро Кравченко. На него с особенным любопытством
и симпатией смотри публика, вокруг него с особенным захватом вьются
мальчишки, поэтому Петро смущается и опускает глаза. Его флажок трепыхается
перед самым носом вагоновожатого, и Петро не идёт, а плывёт в густой волне
трамвайного оглушительного трезвона. На площади Розы Люксембург колонна
наконец, освобождает трамвайные пути. Вагоны один за одним обгонят нас, из
окон смотрят люди, смеются и грозят пальцами пацанам. Пацаны, не теряя
равнения и ноги, улыбаются вредной мальчишеской улыбкой. Почему бы им и не
улыбаться? Неужели нельзя пошутить с городской публикой, устроить ей
маленькую каверзу? Публика своя, хорошая, не ездят по нашим улицам бояре и
дворяне, не водят барынь под ручку раскрашенные офицеры, не смотрят на нас с
осуждением лабазники. И мы идём, как хозяева, по нашему городу, идём не
«приютские мальчики» — колонисты‑горьковцы. Недаром впереди плывёт наше
красное знамя, недаром медные трубы наши играют «Марш Будённого». Мы поворачиваем на площадь Тевелева, чуть‑чуть
подымаемся в горку и уже видим верхушку знамени дзержинцев. А вот и длинный
ряд белых воротников, и внимательные родные лица, команда Киргизова,
вздёрнутые руки и музыка. Дзержинцы встречают нас знамённым салютом. Ещё
секунда — наш оркестр прервал марш и грохнул ответное приветствие. Только одну секунду, пока Киргизов отдаёт
рапорт, мы стоим в строгом молчании друг против друга. И когда рушится строй
и ребята бросаются к друзьям, жмут руки, смеются и шутят, я думаю о докторе
Фаусте: пусть этот хитрый немец позавидует мне. Ему здорово не повезло, этому
доктору, плохое он для себя выбрал столетие и неподходящую общественную
структуру. Если мы встречались под выходной день,
часто, бывало, ко мне подходил Митька Жевелий и предлагал: — Знаете что? Пойдём все к
горьковцам. У них сегодня «Броненосец Потемкин». А шамовки хватит… И в эти дни поздним вечером мы будили
Подворки маршами двух оркестров, долго шумели в столовой, в спальнях, в
клубе, старшие вспоминали штормы и штили прошлых лет, молодые слушали и
завидовали. С апреля месяца главной темой наших
дружеских бесед сделался приезд Горького. Алексей Максимович написал нам, что
в июле специально приедет в Харьков, чтобы пожить в колонии три дня.
Переписка наша с Алексеем Максимовичем давно уже была регулярной. Не видя его
ни разу, колонисты ощущали его личность в своих рядах и радовались ей, как
радуются дети образу матери. Только тот, кто в детстве потерял семью, кто не
унёс с собой в длинную жизнь никакого запаса тепла, тот хорошо знает, как
иногда холодно становится на свете, только тот поймёт, как это дорого стоит —
забота и ласка большого человека, человека — богатого и щедрого сердцем. Горьковцы не умели выражать чувства
нежности, ибо они слишком высоко ценили нежность. Я прожил с ними восемь лет,
многие ко мне относились любовно, но ни разу за эти годы никто из них не был
со мною нежен в обычном смысле. Я умел узнавать их чувства по признакам, мне
одному известным: по глубине взгляда, по окраске смущения, по далёкому
вниманию из‑за угла, по чуть‑чуть охрипшему голосу, по прыжкам и
бегу после встречи. И я поэтому видел, с какой невыносимой нежностью ребята
говорили о Горького, с какой жадностью обрадовались его коротким словам о
приезде. Приезд Горького в колонию — это была
высокая награда. В наших глазах, честное слово, она не была вполне заслужена.
И эту высокую награду нам присудили в то время, когда весь Союз поднял
знамёна для встречи великого писателя, когда наша маленькая община могла
затеряться среди волн широкого общественного чувства. Но она не затерялась, и это трогало нас и
нашей жизни сообщало высокую ценность. Подготовка к встрече Горького началась на
другой день после получения письма. Впереди себя Алексей Максимович послал
щедрый подарок, благодаря которому мы могли залечить последние раны, которые
ещё оставались от старого Куряжа. Как раз в это время меня потребовали к
отчёту. Я должен был сказать учёным мужам и мудрецам педагогики, в чём
состоит моя педагогическая вера и какие принципы исповедую. Поводов для
такого отчёта было достаточно. Я бодро приготовился к отчёту, хотя и не
ждал для себя ни пощады, ни снисхождения. В просторном высоком зале увидел я
наконец, в лицо весь сонм пророков и апостолов. Это был… синедрион, не
меньше. Высказывались здесь вежливо, округлёнными любезными периодами, от
которых шёл еле уловимый приятный запах мозговых извилин, старых книг и
просиженных кресел. Но пророки и апостолы не имели ни белых бород, ни
маститых имен, ни великих открытий. С какой стати они носят нимбы и почему у
них в руках священное писание? Это были довольно юркие люди, а на их усах ещё
висели крошки только что съеденного советского пирога. Больше всех орудовал профессор Чайкин,
тот самый Чайкин, который несколько лет назад напомнил мне один рассказ
Чехова. В своём заключении Чайкин ничего от меня
не оставил: — Товарищ Макаренко хочет
педагогический процесс построить на идее долга. Правда, он прибавляет слово
«пролетарский», но это не может, товарищи, скрыть от нас истинную сущность
идеи. Мы советуем товарищу Макаренко внимательно проследить исторический
генезис идеи долга. Это идея буржуазных отношений, идея сугубо меркантильного
порядка. Советская педагогика стремится воспитать в личности свободное
проявление творческих сил и наклонностей, инициативу, но ни в коем случае не
буржуазную категорию долга. «С глубокой печалью и удивлением мы
услышали сегодня от уважаемого руководителя двух образцовых учреждений призыв
к воспитанию чувства чести. Мы не можем не заявить протест против этого
призыва. Советская общественность также присоединяет свой голос к науке, она
также не примиряется с возвращением этого понятия, которое так ярко
напоминает нам офицерские привилегии, мундиры, погоны». «Мы не можем входить в обсуждение всех
заявлений автора, касающихся производства. Может быть, с точки зрения материального
обогащения колонии это и полезное дело, но педагогическая наука не может в
числе факторов педагогического влияния рассматривать производство и тем более
не может одобрить такие тезисы автора, как «промфинплан есть лучший
воспитатель». Такие положения есть не что иное, как вульгаризация идеи
трудового воспитания». Многие ещё говорили, и многие молчали с
осуждением. Я, наконец, обозлился и сгоряча вылил в огонь ведро керосина. — Пожалуй, вы правы, мы не
договоримся. Я вас не понимаю. По‑вашему, например, инициатива есть
какое‑то наитие. Она приходит неизвестно откуда, из чистого, ничем не
заполненного безделья. Я вам третий раз толкую, что инициатива придёт тогда,
когда есть задача, ответственность за её выполнение, ответственность за
потерянное время, когда есть требование коллектива. Вы меня всё-таки не
понимаете и снова твердите о какой‑то выхолощенной, освобождённой от
труда инициативе. По‑вашему, для инициативы достаточно смотреть на свой
собственный пуп… Ой, как оскорбились, как на меня закричали,
как закрестились и заплевались апостолы! И тогда, увидев, что пожар в полном
разгаре, что все рубиконы далеко позади, что терять всё равно нечего, что всё
уже потеряно, я сказал: — Вы не способны судить ни о
воспитании, ни об инициативе, в этих вопросах вы не разбираетесь. — А вы знаете, что сказал Ленин об
инициативе? — Знаю. — Вы не знаете! Я вытащил записную книжку и прочитал
внятно: «Инициатива должна состоять в том, чтобы
в порядке отступать и сугубо держать дисциплину» — сказал Ленин на Одиннадцатом
съезде ВКП(б) 27 марта 1922 года. Апостолы только на мгновение опешили, а
потом закричали: — Так при чём здесь отступление? — Я хотел обратить ваше внимание на
отношение между дисциплиной и инициативой. А кроме того, мне необходимо в
порядке отступить… Апостолы похлопали глазами, потом
бросились друг к другу, зашептали, зашелестели бумагой. Постановление
синедрион вынес единодушное: «Предложенная система воспитательного
процесса есть система не советская». В собрании было много моих друзей, но они
молчали. Была группа чекистов. Они внимательно выслушали прения, что‑то
записали в блокнотах и ушли, не ожидая приговора. В колонию мы возвращались поздно ночью.
Со мной были воспитатели и несколько членов комсомольского бюро. Жорка Волков
дорогой плевался: — Ну, как они могут так говорить!
Как это, по‑ихнему: нет, значит, чести, нет, значит, такого — честь
нашей колонии? По‑ихнему, значит, этого нет? — Не обращайте внимания, Антон
Семёнович, — сказал Лапоть. — Собрались, понимаете, зануды… — Я и не обращаю, — утешил я
хлопцев. Но вопрос был уже решён. Не содрогнувшись и не снижая общего тона,
я начал свёртывание коллектива. Нужно было как можно скорее вывести из
колонии моих друзей. Это было необходимо и для того, чтобы не подвергать их
испытанию при новых порядках, и для того, чтобы не оставить в колонии никаких
очагов протеста. Заявление об уходе я подал Юрьеву на
другой же день. Он задумался, молча пожал мне руку. Когда я уже уходил от
него, он спохватился: — Постойте!.. А как же… Горький
приезжает. — Неужели вы думаете, что я позволю
кому‑либо принять Горького вместо меня? — Вот‑вот… Он забегал по кабинету и забормотал: — К чёрту!.. К чёртовой матери!.. — Чего это? — Ухожу к чёртовой матери. Я оставил его в этом благом намерении. Он
догнал меня в коридоре: — Голубчик, Антон Семёнович, вам
тяжело, правда? — Ну, вот тебе раз! — засмеялся
я. — Чего это вы? Ах, интеллигент!.. Так я уезжаю из колонии в день
отъезда Горького. Заведование сдам Журбину, а вы, как хотите там… — Так… В колонии я о своём уходе никому не
сказал, и Юрьев дал слово молчать. Я бросился на заводы, к шефам, к
чекистам. Так как вопрос о выпуске колонистов стоял уже давно, мои действия
никого в колонии не удивили. Пользуясь помощью друзей, я почти без труда
устроил для горьковцев рабочие места на харьковских заводах и квартиры в
городе. Екатерина Григорьевна и Гуляева позаботились о небольшом приданом, в
этом деле они уже имели опыт. До приезда Горького оставалось два месяца,
времени было достаточно. Один за другим уходили в жизнь старики.
Они прощались с нами со слезами разлуки, но без горя: мы ещё будем
встречаться. Провожали их с почётными караулами и музыкой, при развернутом
горьковском знамени. Так ушли Таранец, Волохов, Гуд, Леший, Галатенко,
Федоренко, Корыто, Алёша и Жорка Волковы, Лапоть, Кудлатый, Ступицын, Сорока
и многие другие. Кое‑кого, сговорившись с Ковалем, мы оставили в
колонии на платной службе, чтобы не лишать колонию верхушки. Кто готовился на
рабфак, тех до осени я перевёл в коммуну Дзержинского. Воспитательный
коллектив должен был остаться в колонии на некоторое время, чтобы не
создавать паники. Только Коваль не остался и, не ожидая конца, ушёл в район. И в сиянии наград, выпавших на мою долю в
это время, одна заблестела даже неожиданно: нельзя свернуть живой коллектив в
четыреста человек. На место ушедших в первый же момент становились новые
пацаны, такие же бодрые, такие же остроумные и мажорные. Ряды колонистов
смыкались, как во время боя ряды бойцов. Коллектив не только не хотел
умирать, он не хотел даже думать о смерти. Он жил полной жизнью, быстро
катился вперёд по точным, гладким рельсам, торжественно и нежно готовился к
встрече Алексей Максимовича. Дни шли и теперь были прекрасными,
счастливыми днями. Наши будни, как цветами, украшались трудом и улыбкой,
ясностью наших дорог, дружеским горячим словом. Так же радугами стояли над
нами заботы, так же упирались в небо прожекторы нашей мечты. И так же доверчиво‑радостно, как и
раньше, мы встречали наш праздник, самый большой праздник в нашей истории. Этот день, наконец, настал. С утра вокруг колонии табор горожан,
машины, начальство, целый батальон сотрудников печати, фотографов,
кинооператоров. На зданиях флаги и гирлянды, на всех наших площадках цветы.
Далеко протянулся на широких интервалах строй пацанов, на Ахтырском шляху —
верховые, во дворе — почётный караул. В белой фуражке, высокий взволнованный
Горький, человек с лицом мудреца и с глазами друга, вышел из авто, оглянулся,
провёл по богатым рабочим усам дрожащими пальцами, улыбнулся: — Здравствуй… Это… твои хлопцы?..
Да! Ну, идём!.. Знамённый салют оркестра, шелест пацаньих
рук, пацаньи горячие очи, наши открытые души разложили мы, как ковёр, перед
гостем. Горький пошёл по рядам… |
|
||||
|
|
15. Эпилог
Прошло семь лет. В общем, всё это было
давно. Но я теперь хорошо помню, помню до самого
последнего движения тот день, когда только отошёл поезд, увозивший Горького.
Мысли наши и чувства ещё стремились за поездом, ещё пацаньи глаза искрились
прощальной теплотой, а в моей душе стала на очередь маленькая «простая»
операция. Во всю длину перрона протянулись горьковцы и дзержинцы, блестели
трубы двух оркестров, верхушки двух знамен. У соседнего перрона готовился
дачный на Рыжов. Журбин подошёл ко мне: — Горьковцев можно в вагоны? — Да. Мимо меня пробежали в вагоны колонисты,
пронесли трубы. А вот и наше старое шёлковое знамя, вышитое шёлком. Через
минуту во всех окнах поезда показались бутоньерки из пацанов и девчат. Они
щурили на меня глаза и кричали: — Антон Семёнович, идите в наш
вагон! — А разве вы не поедете? Вы с
коммунарами, да? — А завтра к нам? Я в то время был сильным человеком, и я
улыбался пацанам. А когда ко мне подошёл Журбин, я передал ему приказ, в
котором было сказано, что вследствие моего ухода «в отпуск» заведование
колонией передаётся Журбину. Журбин растерянно посмотрел на приказ: — Значит, конец? — Конец, — сказал я. — Так как же… начал было Журбин, но
кондуктор оглушил его своим свистком, и Журбин ничего не сказал, махнул рукой
и ушёл, отворачиваясь от окон вагонов. Дачный поезд тронулся. Бутоньерки пацанов
поплыли мимо меня, как на празднике. Они кричали «до свиданья» и, шутя,
приподымали тюбетейки двумя пальцами. У последнего окна стоят Коротков. Он
молча салютнул и улыбнулся. Я вышел на площадь. Дзержинцы ожидали
меня в строю. Я подал команду, и мы через город пошли в коммуну. В Куряже я больше не был. С тех пор прошло семь советских лет, а
это гораздо больше, чем, скажем, семь лет императорских. За это время наша
страна прошла славный путь первой пятилетки, большую часть второй, за это
время восточную равнину Европы научились уважать больше, чем за триста
романовских лет. За это время выросли у наших людей новые мускулы и выросла
новая наша интеллигенция. Мои горьковцы тоже выросли, разбежались по
всему советскому свету, для меня сейчас трудно их собрать даже в воображении.
Никак не поймаешь инженера Задорова, зарывшегося в одной из грандиозных
строек Туркменистана, не вызовешь на свидание врача Особой Дальневосточной
Вершнева или врача в Ярославле Буруна. Даже Нисинов и Зорень, на что уже
пацаны, а и те улетели от меня, трепеща крыльями, только крылья у них теперь
не прежние, не нежные крылья моей педагогической симпатии, а стальные крылья
советских аэропланов. И Шелапутин не ошибался, когда утверждал, что он будет
лётчиком; в лётчики выходит и Шурка Жевелий, не желая подражать старшему
брату, выбравшему для себя штурманский путь в Арктике. В своё время меня часто спрашивали
залетавшие в колонию товарищи: — Скажите, говорят, среди
беспризорных много даровитых, творчески, так сказать, настроенных… Скажите,
есть у вас писатели или художники? Писатели, у нас, конечно, были, были и
художники, без этого народа не один коллектив прожить не может, без них и
стенной газеты не выпустишь. Но здесь я должен с прискорбием признаться: из
горьковцев не вышли ни писатели, ни художники, и не потому не вышли, что
таланта у них не хватило, а по другим причинам: захватила их жизнь и её
практические сегодняшние требования. Не вышло и из Карабанова агронома. Кончил
он агрономический рабфак, но в институт не перешёл, а сказал мне решительно: — Хай ему с тем хлебородством! Не
можу без пацаны буты. Сколько ещё хороших хлопцев дурака валяет на свете,
ого! Раз вы, Антон Семёнович, в этом деле потрудились, так и мне можно. Так и пошёл Семён Карабанов по пути
соцвосовского подвига и не изменил ему до сегодняшнего дня, хотя и выпал
Семёну жребий труднее, чем всякому другому подвижнику. Женился Семён на
черниговке, и вырос у них трёхлетний сынок, такой же, как мать, чёрноглазый,
такой же, как батько, жаркий. И этого сына среди белого дня зарезал один из
воспитанников Семёна, присланный в его дом «для трудных», психопат, уже
совершивший не одно подобное дело. И после этого не дрогнул Семён и не бросил
нашего фронта, не скулил и не проклинал никого, только написал мне короткое
письмо, в котором было не столько даже горя, сколько удивления. Не дошёл до вуза и Белухин Матвей. Вдруг
получил я от него письмо: «Я нарочно это так сделал, Антон
Семёнович, не сказал вам ничего, уж вы простите меня за это, а только какой
из меня инженер выйдет, когда я по душе моей есть военный. А теперь я в
военной кавалерийской школе. Конечно, это я, можно сказать, как свинья,
поступил: рабфак бросил. Нехорошо как‑то получилось. А только вы
напишите мне письмо, а то, знаете, на душе как‑то скребёт». Когда скребёт на душе таких, как Белухин,
жить ещё можно. И можно ещё жить долго, если перед советскими эскадронами
станут такие командиры, как Белухин. И я поверил в это ещё крепче, когда
приехал ко мне Матвей уже с кубиком, высокий, сильный, готовый человек,
«полный комплект». И не только Матвей, приезжали и другие,
всегда непривычно для меня взрослые люди: и Осадчий — технолог, и Мишка
Овчаренко — шофёр, и мелиоратор за Каспием Олег Огнев и педагог Маруся
Левченко, и вагоновожатый Сорока, и монтёр Волохов, и слесарь Корыто, и
мастер МТС Федоренко, и партийные деятели — Алёшка Волков, Денис Кудлатый и
Волков Жорка, и с настоящим большевистским характером, по‑прежнему
чуткий Марк Шейнгауз, и многие, многие другие. Но многих я и растерял за семь лет. Где‑то
в лошадином море завяз и не откликается Антон, где‑то потерялись бурно
жизнерадостный Лапоть, хороший сапожник Гуд и великий конструктор Таранец. Я
не печалюсь об этом и не упрекаю этих пацанов в забывчивости. Жизнь наша
слишком заполнена, а капризные чувства отцов и педагогов не всегда нужно
помнить. Да и «технически» не соберёшь всех. Сколько по горьковской только
колонии прошло хлопцев и девчат, не названных здесь, но таких же живых, таких
же знакомых и таких же друзей. После смерти горьковского коллектива прошло
семь лет, и все они заполнены тем же неугомонным прибоем ребячьих рядов, их
борьбой, поражениями и победами, и блеском знакомых глаз, и игрой знакомых
улыбок. Коллектив дзержинцев и сейчас живёт
полной жизнью, и об этой жизни можно написать десять тысяч поэм. О коллективе в Советской стране будут
писать книги, потому что Советская страна по преимуществу страна коллективов.
Будут писать книги, конечно, более умные, чем писали мои приятели‑"олимпийцы",
которые определяли коллектив так: «Коллектив есть группа взаимодействующих
индивидов, совокупно реагирующих на те или иные раздражители». Только пятьдесят пацанов‑горьковцев
пришли в пушистый зимний день в красивые комнаты коммуны Дзержинского, но они
принесли с собой комплект находок, традиций и приспособлений, целый
ассортимент коллективной техники, молодой техники освобождённого от хозяина
человека. И на здоровой новой почве, окружённая заботой чекистов, каждый день
поддержанная их энергией, культурой и талантом, коммуна выросла в коллектив
ослепительной прелести, подлинного трудового богатства, высокой
социалистической культуры, почти не оставив ничего от смешной проблемы
«исправления человека». Семь лет жизни дзержинцев — это тоже семь
лет борьбы, семь лет больших напряжений. Давно, давно забыты, разломаны, сожжены в
кочегарке фанерные цехи Соломона Борисовича. И самого Соломона Борисовича
заменил десяток инженеров, из которых многие стоят того, чтобы их имена
назывались среди многих достойных имён в Союзе. Ещё в тридцать первом году построили
коммунары свой первый завод — завод электроинструмента. В светлом высоком
зале, украшенном цветами и портретами, стали десятки хитрейших станков:
«Вандереры», «Самон Верке», «Гильдмейстеры», «Рейнекеры», «Мараты». Не трусики
и не кроватные углы уже выходят из рук коммунаров, а изящные сложные машинки,
в которых сотни деталей и «дышит интеграл». И дыхание интеграла так же волнует и
возбуждает коммунарское общество, как давно когда‑то волновали нас
бураки, симментальские коровы, «Васильи Васильевичи» и «Молодцы». Когда выпустили в сборном цехе большую
сверлилку «ФД‑3» и поставили её на пробный стол, давно возмужавший
Васька Алексеев включил ток, и два десятка голов, инженерских, коммунарских,
рабочих, с тревогой склонились над её жужжанием, главный инженер Горбунов
сказал с тоской: — Искрит… — Искрит, проклятая! — сказал
Васька. Скрывая под улыбками печаль, потащили
сверлилку в цех, три дня разбирали, проверяли, орудовали радикалами и
логарифмами, шелестели чертежами. Шагали по чертежам циркульные ноги, чуткие
шлифовальные «Келенбергеры» снимали с деталей последние полусотки, чуткие
пальцы пацанов собирали самые нежные части, чуткие их души с тревогой ожидали
новой пробы. Через три дня снова поставили «ФД‑3»
на пробный стол, снова два десятка голов склонились над ней, и снова главный
инженер Горбунов сказал с тоской: — Искрит… — Искрит, дрянь! — сказал
Васька Алексеев. — Американская не искрила, —
завистливо вспомнил Горбунов. — Не искрила, — вспомнил и
Васька. — Да, не искрила, — подтвердил
ещё один инженер. — Конечно, не искрила! —
сказали все пацаны, не зная, на кого обижаться: на себя, на станки, на
сомнительную сталь номер четыре, на девчат, обмотчиц якоря, или на инженера
Горбунова. А из‑за толпы ребят поднялся на
цыпочки, показал всем рыжую веснушчатую физиономию Тимка Одарюк, прикрыл
глаза веками, покраснел и сказал: — Американская точь‑в‑точь
искрила. — Откуда ты знаешь? — Я помню, как пускали. И должна
искрить, потому вентилятор здесь такой. Не поверили Тимке, снова потащили
сверлилку в цех, снова заработали над ней мозги, станки и нервы. В коллективе
заметно повысилась температура, в спальнях, в клубах, в классах поселилось
беспокойство. Вокруг Одарюка целая партия сторонников: — Наши, конечно, дрейфят, потому что
первая машинка. А только американки искрят ещё больше. — Нет! — Искрят! — Нет! — Искрят! И, наконец, не выдержали наши нервы.
Послали в Москву, ахнули поклоном старшим. — Дайте одну «Блек и Деккер»! Дали. Привезли американку в коммуну, поставили
на пробный стол. Уже не два десятка голов склонились над столом, а над всем
цехом склонились триста коммунарских тревог. Побледневший Васька включил ток,
затаили дыхание инженеры. И на фоне жужжания машинки неожиданно громко сказал
Одарюк: — Ну вот, говорил же я… И в то же момент поднялся над коммуной
облегчённый вздох и улетел к небесам, а на его месте закружились
торжествующие рожицы и улыбки: — Тимка правду говорил! Давно мы забыли об этом взволнованном
дне, потому что давно машинки выходят по пятьдесят штук в день и давно
перестали искрить, ибо хотя и правду говорил Тимка, но была ещё другая правда
— в дыхании интеграла и у главного инженера Горбунова: — Не должна искрить! Забыли обо всём этом потому, что набежали
новые заботы и новые дела. В 1932 году было сказано в коммуне: — Будем делать лейки! Это сказал чекист, революционер и
рабочий, а не инженер и не оптик, и не фотоконструктор. И другие чекисты,
революционеры и большевики, сказали: — Пусть коммунары делают лейки! Коммунары в эти моменты не волновались: — Лейки? Конечно, будем делать
лейки! Но сотни людей, инженеров, оптиков,
конструкторов, ответили: — Лейки? Что вы! Ха‑ха… И началась новая борьба, сложнейшая
советская операция, каких много прошли в эти годы в нашем отечестве. В этой
борьбе тысячи разных дыханий, полётов мысли, полётов на советских самолетах,
чертежей, опытов, лабораторной молчаливой литургии, строительной кирпичной
пыли и… атак повторных, ещё раз повторённых атак, отчаянных упорных ударов
коммунарских рядов в цехах, потрясённых прорывом. А вокруг те же вздохи
сомнения, те же прищуренные стёкла очков: — Лейки? Мальчики? Линзы с точностью
до микрона? Хе‑хе! Но уже пятьсот мальчиков и девчат
бросились в мир микронов, в тончайшую паутину точнейших станков, в нежнейшую
среду допусков, сферических аберраций и оптических кривых, смеясь, оглянулись
на чекистов. — Ничего, пацаны, не бойтесь, —
сказали чекисты. Развернулся в коммуне блестящий, красивый
завод ФЭДов, окружённый цветами, асфальтом, фонтанами. На днях коммунары
положили на стол наркома десятитысячный «ФЭД», безгрешную изящную машинку. Многое уже прошло, и многое забывается.
Давно забылся и первобытный героизм, блатной язык и другие отрыжки. Каждую
весну коммунарский рабфак выпускает в вузы десятки студентов, и много
десятков их уже подходят к окончанию вуза: будущие инженеры, врачи, историки,
геологи, лётчики, судостроители, радисты, педагоги, музыканты, актёры, певцы.
Каждое лето собирается эта интеллигенция в гости к своим рабочим братьям:
токарям, револьверщикам, фрезеровщикам, лекальщикам, и тогда — начинается
поход. Ежегодный летний поход — это новая традиция. Много тысяч километров
прошли коммунарские колонны по‑прежнему по шести в ряд, со знаменем
впереди и оркестром. Прошли Волгу, Крым, Кавказ, Москву, Одессу, Азовское
побережье. Но и в коммуне, и в летнем походе, и в те
дни, когда «искрит», и в дни, когда тихо плещется трудовая жизнь коммунаров,
то и дело выбегает на крыльцо круглоголовый, ясноокий пацан, задирает
сигналку к небу и играет короткий сигнал «сбор командиров». И так же, как
давно, рассаживаются командиры под стенами, стоят в дверях любители, сидят на
полу пацаны. И так же ехидно‑серьёзный ССК говорит очередному
неудачнику: — Выйди на середину!.. Стань смирно
и давай объяснение, как и что! И так же бывают разные случаи, так же
иногда топорщатся характеры, и так же временами, как в улье, тревожно гудит
коллектив и бросается в опасное место. И всё такой же трудной и хитрой
остаётся наука педагогика. Но уже легче. Далёкий, далёкий мой первый
горьковский день, полный позора и немощи, кажется мне теперь маленькой‑маленькой
картинкой в узеньком стёклышке праздничной панорамы. Уже легче. Уже во многих
местах Советского Союза завязались крепкие узлы серьёзного педагогического
дела, уже последние удары наносит партия по последним гнездам неудачного,
деморализованного детства. И может быть, очень скоро у нас
перестанут писать «педагогические поэмы» и напишут просто деловую книжку:
«Методика коммунистического воспитания». Харьков. 1925 — 1935 гг. |
|
||||
|
|
Несколько пояснений к
«Педагогической
поэме»
при помещении её текста в Сеть
(от
|
|
||||
|
|
|
|
||||